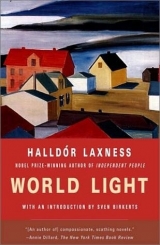
Текст книги "Свет мира"
Автор книги: Халлдор Лакснесс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 46 страниц)
– Большое спасибо, – сказал скальд, он взял книжечку и положил ее к другой такой же, лежавшей на Новом Завете.
– Теперь мы с тобой долго не увидимся, – сказал пастор. – Моя дочь живет в Копенгагене. Она и ее муж построили себе в Копенгагене новый дом и пригласили меня посмотреть его.
– Я уверен, что с вами не случится ничего дурного, но все-таки разрешите мне пожелать вам благополучного путешествия, – сказал скальд, он сжал руку пастора, и глаза его увлажнились от радости, что у пастора есть дочь в Копенгагене и что пастор едет посмотреть ее дом.
– Вообще-то мне предстоят два долгих путешествия, – сказал пастор, слегка вздрогнув, и в его улыбке мелькнуло что-то озорное, словно он собирался сказать дерзость. – Мне предстоит путешествие в Царство Небесное. А перед тем я решил съездить в Копенгаген. По правде говоря, меня очень радует поездка в Копенгаген. Нет ли у тебя в Копенгагене друзей, которым я мог бы передать привет, брат мой?
– Если вы когда-нибудь в своих долгих путешествиях встретите всеми презираемого скальда, такого же бедолагу, как я, это и есть мой друг, и я прошу вас приветствовать его от моего имени, – сказал Оулавюр Каурасон Льоусвикинг.
– Благодарю тебя, я этого не забуду, – сказал пастор, может быть, несколько рассеянно. – А теперь прощай. От всего сердца желаю тебе на веки вечные доброго здоровья, и для души и для тела, а еще счастливого Рождества. Да не оставит вас всех Господь наш Иисус Христос своею милостью.
Это было в середине августа.
Оулавюру Каурасону было грустно, что пастор уезжает в Копенгаген, и он уже жаждал его возвращения.
Глава шестнадцатая
Прошло немного времени, и тюрьма утратила для скальда остроту новизны, притягательная сила тюрьмы исчезла, даже общество убийцы перестало казаться интересным и необычным. Вместо старого пастора в тюрьму иногда приходил длинный и скучный капеллан, и все знали, что он посещает тюрьму исключительно из чувства христианского долга, а вовсе не потому, что любит своих братьев той естественной любовью, которая сама собой разумеется, и уж, конечно, не потому, что ему больше нравится учиться у тех, кто живет в этих стенах, чем у тех, кто живет за ними, или ему, как и старому пастору, в этом доме приятнее, чем в других. Случалось, что в тюрьму приходил и тощий миссионер, который понимал только Бога, а людей не понимал, о людях он знал столь же мало, сколь много знал о Боге.
Однажды скальд проснулся ночью от сильной внутренней боли. Он был уверен, что сейчас умрет. И тут он вспомнил, что он не на свободе. Скальд сел в постели, его охватил ужас: да, именно от такой боли человек и умирает. Больше всего скальда пугало то, что у него уже не было никакой надежды перед смертью пожить еще хоть немножко. Может быть, в это мгновение он в первый раз по-настоящему оценил свободу. Безответственная, беззаботная жизнь арестанта, жизнь за счет других, как у богачей, – что она значила по сравнению с жизнью всеми презираемого скальда и бедняка, живущего на свободе! Без свободы нет жизни. Мыкаться в нужде, состоять на попечении прихода, быть нищим, презренным стихоплетом с запятнанной честью, пусть даже больным, – все это чепуха, если ты свободен. Свобода – это венец жизни, это сокровище из сокровищ, свобода глядеть на небеса, свобода лежать в траве у ручья, свобода смотреть издали на девушек, свобода петь, свобода просить милостыню. А он должен умереть. Скальд поднялся с постели, прикоснулся кончиками пальцев к холодному оконному стеклу и долго смотрел, как на небе сверкают звезды, он был похож на нищего мальчика, стоящего перед витриной игрушечного магазина.
С этой ночи скальда постоянно мучил ужас перед пустотой, окружающей его: он был одинок, он никого не знал во всем мире, он никого не любил, и никто не любил его; но больше всего его мучил страх, что истинной любви не существует, что истинная любовь – это лишь кружка воды в жару. Его дни проходили под сенью смерти. Он пытался утопить свой страх в единоборстве со стихами и с прозой, но видения страны, существующей рядом с действительностью, не желали являться ему, и легкие словосочетания улетали от него прочь.
Когда он наконец получил письмо от своей жены Яртрудур Йоунсдоухтир, его глаза наполнились слезами, и вовсе не потому, что ее письмо было так трогательно, она вообще не сама писала свои письма, и не потому, что с ее стороны было благородно сохранять верность такому мужу, как он, но потому, что правда – это деньги: из письма выкатились две серебряные кроны. Женщина, которая не могла позабыть, как жители Хрёйна обошлись с пастором Хатлгримуром Пьетурссоном, понимала, что человек, живя в столице, не должен страдать от отсутствия карманных денег. Но то, что самая бедная женщина в самом бедном приходе страны вдруг вытряхнула из рукава серебряные монеты, было такое чудо, что по сравнению с ним даже сам фальшивомонетчик показался глупым мелким жуликом.
Эта жена, которая была уверена, что грехи, совершенные ею, неизмеримы, и словом не обмолвилась о его поступке. Зато она писала о том, что Хельга, дочь стариков, живущих вблизи ледника, пошла осенью собирать хворост и не вернулась. Люди считают, что она была беременна, хотя точно ничего не известно и с мужчинами ее никто не видел. Вообще-то у них в доме с весны жил приемыш, но он совсем недавно прошел конфирмацию, и потому даже трудно себе представить, чтобы он имел дело с женщинами. Но как бы там ни было, а исчезновение девушки только доказывает, что над всеми нами висит страшный меч правосудия. В конце письма жена сообщала скальду, что староста наотрез отказывается снова взять Оулавюра Каурасона в школу, когда тот вернется домой, поэтому она хочет попросить у пастора, чтобы Оулавюр Каурасон получил в Бервикском приходе хотя бы должность собачьего лекаря.
Перед Рождеством, когда мир покрывает самая большая тень, скальду показалось, что он обретет исцеление, если начнет писать давно задуманное стихотворение о солнце наперекор советам мудрых людей из Адальфьорда. Но прошли недели, прежде чем ему удалось сложить строфу, которую он счел достойной этой темы, страх в его сердце все еще был сильнее, чем вера в солнце; по ночам скальд лежал без сна, весь в испарине, с громко стучащим сердцем, и дрожал от озноба. Часто ему казалось, что он умрет, так и не успев закончить песни о солнце. Это далекое небесное тело мало кому из скальдов доставило столько мучительных часов. Мысль скальда шла по опасному пути. В конце концов он начал размышлять, не является ли могучий огонь нашего небесного светила всего-навсего случайным пожаром, происшедшим вследствие взрыва, или каких-нибудь повреждений в материи, или просто от какого-нибудь изъяна в пустоте, в этой бездушной пустоте, в этом вечном ничто, которое на самом деле есть не что иное, как единственно разумное и исполненное ответственности состояние бытия. Скальд задавал себе вопрос, не может ли так быть, что солнечная система образовалась в результате таинственной роковой ошибки, что жизнь, эта искра, слетевшая с трагической наковальни, является не чем иным, как болезнью материи, и не погаснет ли она после вполне определенного и даже весьма короткого отрезка времени, а вместе с ней и лютики на лугах и прекрасные стихи скальдов? Рассуждая подобным образом, он дошел до такого состояния, что перестал понимать солнце. Рождество прошло мимо этого бедного скальда, он видел как в тумане старых грешных тетушек из Армии спасения, которые заглядывали во все двери и пели псалмы перед рождественскими свечами, а также длинного тощего капеллана, но не слышал никаких божественных звуков и не видел никакого света, а утром в первый день Рождества встал и сказал тюремщику изменившимся голосом:
– Скоро я умру.
Тюремщик испугался.
– Когда вернется наш старый пастор? – спросил скальд.
– Его не будет целый год. Он в Копенгагене у своей дочери.
– Слава Богу, – сказал скальд, став немного повеселее оттого, что этот удивительный человек пока еще находится там, где лучше, чем у Господа Бога.
Как-то утром, вскоре после Рождества, скальд не смог подняться с постели. Он жаловался, что у него невыносимо болит все тело, ему казалось, будто старые недуги, которыми он страдал в юности, снова вернулись к нему. Он ничего не ел, не разговаривал и лежал, отвернувшись к стене. Пришел врач, послушал легкие, измерил температуру. Он спросил скальда, нет ли у него в городе какого-нибудь друга, но скальд ответил, что у него нет друга. Врач сказал, что самое лучшее отправить этого человека в больницу. Скальда положили на носилки и повезли в больницу; к сожалению, он был слишком слаб, чтобы, пока его везли в больницу, в полную меру насладиться жизнью. В течение нескольких дней его обследовали с помощью колдовских методов и аппаратов, стоивших по сто тысяч крон каждый, делали ему отвратительные анализы, фотографировали и тело и душу, но наука не смогла обнаружить ни одной болезни, о которой стоило бы говорить, кроме той единственной болезни материи, той неисправности в небесах, того недоразумения в пустоте, которое называется жизнью. Скальд вежливо спросил, не считает ли наука, что он лежит в постели ради собственного удовольствия.
– Ну, а что же тогда с тобой? – спросил ученый.
– Я перестал понимать солнце, – ответил скальд.
Ученый дал ему множество разных лекарств и отправил обратно в тюрьму.
Долгая темная зима все продолжалась.
Семья, жившая в этом доме, встревожилась из-за своего скальда, всем хотелось порадовать его и сделать ему что-нибудь приятное: мелкий воришка пришел к нему с колодой карт и хотел, чтобы скальд сыграл на деньги с ним и еще одним вором, самогонщик принес скальду самогону из навозной кучи, который ему умудрился передать во фляжке его собрат по профессии, живущий на воле, даже убийца пришел, чтобы помолчать вместе со скальдом и взглянуть на него из своей недостижимой дали, откуда все вещи, кроме одной, казались пустяковыми. Но ничто не помогало. Нет, скальд не был ни хмурым, ни раздражительным, просто он был слишком неразговорчивый и усталый, словно человек, больной туберкулезом; с доброй, но отсутствующей улыбкой он поблагодарил и отказался играть в карты с юным воришкой, за которого заступался, и пить самогон со своим любящим поэзию другом самогонщиком, и даже убийца, гордость тюрьмы и камень на шее общества, не смог поднять в высшие сферы больную душу своего брата скальда.
Но вот однажды, когда скальду оставалось жить всего несколько дней, ему приснился сон. Вообще-то он часто видел сны, он все время дремал, но это были тяжелые сны, ибо самая крохотная мысль бодрствующего человека во сне обретает великанскую тень; это был не обычный сон, а сон в лучшем смысле этого слова, сон вдохновенный, может быть, даже не просто сон, а предвестие и откровение, высшее предчувствие, истинная действительность, и между тем это были всего лишь три слова, вернее, одно имя.
Скальд не знал ни часа, ни дня недели, он давно уже перестал следить за ходом времени и числами. Среди бесконечной смерти, тяготеющей в мире над любой искрой жизни, этому узнику с оледеневшим сердцем вдруг показалось, что Сигурдур Брейдфьорд после долгого перерыва опять спустился с небес. Лишенный зримой оболочки, великий скальд появился снова, возможно, он обитал теперь на небесах, которые еще выше, чем прежние, и там ни цвет, ни форма уже не властны. Но на каких бы небесах он ни обитал, его золотая колесница снова здесь. И он произносит три слова. Он произносит одно таинственное имя. Это имя звенит в божественном сне, пылает огненными буквами на небесах души:
Ее зовут Бера.
Сон прервался. Очнувшись, скальд сел и огляделся. Первый в этом году солнечный луч упал на тюремную стену над его кроватью.
– Ее зовут Бера? – спросил он.
Он встал на колени, приложил ладони к стене и коснулся солнечного луча. Потом он приподнялся так, чтобы луч упал ему на лицо.
– Мне никогда не приходило в голову, что ее могут звать Бера, – сказал он.
Он позабыл про тень смерти, его мысли невольно возвращались к этим спасительным словам, к этому имени – ключу от дверей будущего, к этому неведомому счастью, к этой жизни. Уже стемнело, а его мысли все еще были заняты вестью, прозвучавшей из золотой колесницы скальда, и когда раздался стук в дверь, он был уверен, что увидит сейчас женщину в белом головном уборе и с золотой диадемой на лбу. Но это был всего лишь тюремщик, принесший ему ужин.
– Меня сегодня никто не спрашивал? – поинтересовался скальд.
– Нет, – ответил тюремщик, обрадовавшись, что этот человек хоть что-то сказал ему после долгого молчания. – А ты ждешь кого-нибудь?
– Да, – сказал скальд. – Если меня спросит женщина по имени Бера, скажите ей, что я ее жду.
Глава семнадцатая
И вот опять лето. Оулавюр Каурасон Льоусвикинг стоит на улице в новом костюме, подаренном ему Тоурунн из Камбара, он свободный человек. Он очень бледен, но глаза у него такие же синие, как и прежде, в волосах все тот же золотой блеск и походка такая же неуверенная, как в первый день в свидинсвикском хозяйстве, словно он не связан с землей, по которой ступает; этот человек мог в любую минуту оказаться парящим в воздухе.
Скальд старался держаться поближе к стенам домов, очевидно, из страха оказаться окруженным людьми. На пристани он узнал, что пароход отправляется завтра, но пойдет вдоль берега в противоположном направлении, так что скальд попадет домой самое малое через десять дней. Если он хочет плыть более удобным пароходом, ему придется ждать две недели; но вне стен тюрьмы в столице без денег не проживешь, а Тоурунн из Камбара уехала отдыхать в деревню вместе со своим мужем, так что никто не признал скальда в «Горной королеве Софии». Скальд решил уехать с тем пароходом, который пойдет завтра.
Долгий извилистый путь вел скальда из тюрьмы к кладбищу. Ему хотелось отыскать своего единственного друга, который являлся к нему в золотой колеснице, когда все люди уже позабыли про него.
Ничто в столице не могло сравниться с кладбищем, даже не верилось, что на мертвых костях мог вырасти такой цветник. Цветы на могилах были настолько красивы, что казались ненастоящими. И невозможно было представить себе, чтобы где-нибудь на земле могло найтись еще одно такое же собрание прекрасных эпитафий, которые были начертаны здесь золотыми буквами на искусно обтесанных камнях. Казалось, что все без исключения обитатели этого места при жизни изумительно легко справлялись с тяжелой ношей общепринятых норм поведения, это было просто непостижимо. И гораздо больше людей, чем можно предположить, считались при жизни благородными и чудесными, занимали высокие посты, получали титулы и ордена и совершали выдающиеся подвиги на службе отечеству. Женщины здесь были не только прекрасны, но и добродетельны. Сгорая от стыда за свое собственное ничтожество, этот бедный скальд приветствовал всех достойных людей, обитавших в этом месте.
Но сколько он ни искал, он никак не мог найти могилу своего друга Сигурдура Брейдфьорда. Скальд бродил по кладбищу почти целый день, останавливаясь у каждой могильной плиты. Наконец он потерял всякую надежду найти друга и уже считал свой приезд в столицу бессмысленным, поскольку ему предстояло вернуться домой ни с чем. Солнце клонилось к западу. Неожиданно скальд увидел бедно одетую женщину, которая сидела возле скромного могильного холмика и читала над ним молитву; в глубине души скальд решил, что это вдова, потерявшая сына и теперь не имевшая во всем мире больше никакой опоры. Он вынул из кармана одну крону и отдал женщине, попросив ее купить себе на эти деньги кофе. Она поблагодарила его и спросила:
– Ты тоже отсюда?
– Нет, – ответил он. – Я из других мест, по крайней мере, так принято считать.
Потом он спросил, не может ли она показать ему могилу скальда Сигурдура Брейдфьорда.
Женщина:
– А он лежит под камнем или без камня?
Оулавюр Каурасон Льоусвикинг:
– Я слышал, что он лежит под камнем.
– Тогда, значит, это один из тех, с кем я разговаривала в прошлом году, – сказала женщина. – В этом году я с ним не разговаривала.
– Вот как? – удивился скальд. – А могу я спросить, почему ты не разговаривала с ним в этом году?
Женщина:
– В прошлом году я разговаривала со всеми, кто лежит под камнями. А в этом году я разговариваю с теми, кто лежит без камней.
Тогда скальд сказал:
– Надеюсь, это не будет слишком нескромно, если я спрошу, о чем ты с ними разговаривала?
– Я хотела убедить их в том, что смерти не существует, – ответила женщина.
– Может быть, ты и права, добрая женщина, – сказал скальд. – Я тут знаю только одного человека, и он действительно не мертв, по крайней мере, в обычном смысле.
– Никто из них не мертв, – сказала женщина. – Или, может, матери не любили их? Когда ты взглянешь в глаза того, кто любит, ты поймешь, что смерти не существует.
– Как же так? – удивился скальд. – Ведь когда-нибудь погаснут все глаза?
– Сама красота живет в глазах тех, кто любит, а она не может погаснуть.
– Красота? – удивился скальд. – Какая красота?
– Красота небес, – ответила женщина.
Скальд снял перед прорицательницей шапку и поспешил прочь, стараясь не услышать, что она еще говорит, ее слова отозвались эхом в его душе, и он понимал, что, сколько ни говори, большего сказать уже невозможно. Скальд еще долго бродил по этому цветнику. А когда он, потеряв всякую надежду отыскать могилу своего друга, собирался уйти через маленькую боковую калитку, его взгляд упал налево, и он увидел могилу. Она была слишком скромной, чтобы привлекать к себе внимание, ее можно было заметить лишь случайно, неровный серый камень едва доставал до колена. Все остальные памятники на кладбище были сделаны из более дорогого и прочного материала. Камень на могиле Сигурдура Брейдфьорда был выщерблен непогодой и зарос желто-зеленым мхом, ибо одна лишь природа заботилась об этой могиле, вокруг буйно росла трава. На лицевой стороне камня глубокими готическими буквами, которые, однако, стирались по мере того, как камень выветривался, было написано: «Сигурдур Брейдфьорд 1799–1846», над именем была высечена арфа, на ней было пять струн.
Он был самым великим из всех бедных деревенских скальдов Исландии. Когда другие ездили в Копенгаген изучать глубокомысленные науки и изящные искусства, он был отправлен в Гренландию делать бочки. Когда уважаемые граждане совершали свои положенные подвиги: обзаводились домами, женились, создавали счастливые семьи с красивыми женами и послушными детьми, он променял свою жену на собаку. Когда другие возносились на вершины славы и получали должности, титулы и ордена, он был приговорен к двадцати семи ударам плетью.
Вожди народа, великие скальды и поборники духа красноречиво и научно доказали, что он простой рифмоплет и невежда. В то время как уважаемые люди почили тихой смертью в лоне семьи и любящие руки закрыли им глаза, он умер голодной смертью в холодном сарае и приходский староста велел увезти прочь его останки! Но дух этого бедного деревенского скальда, которого ученые не ставили ни в грош, а великие скальды презирали, жил среди исландского народа тысячу лет, он жил в чаду самой дальней лачуги, в рыбацком жилище у подножья ледника, на китобойном судне, плавающем у северных берегов, где во мраке полярной ночи не видно морских знаков, в лохмотьях бродяги, спящего на плоскогорье среди зарослей ивняка под боком у овец, в кандалах каторжников Бремерхольма[27]27
Верфь в Копенгагене, где до 1739 года содержали особо опасных преступников.
[Закрыть], его дух жил в сердце народа в течение всей его истории, это он превратил бедную страну, лежащую на острове, в великую нацию и мировую силу, которую ничто не смогло сломить. Пять струн на арфе скальда были струнами радости, горя, любви, героизма и смерти. Оулавюр Каурасон Льоусвикинг осторожно погладил рукой холодный камень, а потом коснулся кончиками пальцев пяти струн от имени всех бедных деревенских скальдов Исландии и поблагодарил скальда за то, что он спускался к нему в золотой колеснице с небес, где теперь был его дом.
Глава восемнадцатая
Когда на другое утро скальд со своим мешком пришел к пароходу, солнце растапливало остатки белого ночного тумана. Зеленая и синяя страна, выходящая обнаженной из своей непроницаемой мантии, была не вещью, полезной в обиходе, а прежде всего драгоценностью. Шум порта и скрежет судовых лебедок не имели никакого отношения к этому миру. Над зеркальной гладью сверкали серебристые крылья и грудки кружившихся чаек. Очевидно, боги каждый день заново создают мир, но все же им редко удается создать такое утро. Это было единственное настоящее утро. Скальд стоит в сторонке от толчеи и с восхищением глядит на светлое зеленовато-голубое призрачное марево, из которого рождается эта бессмертная утренняя страна.
И пока, очарованный утром, он стоит среди суматохи чуждой ему человеческой жизни, рядом с ним вдруг появляется кто-то юный и светлый и, так же как он, тихо глядит в голубизну. С первого же взгляда скальд понял, что она и это утро – одно целое, что она сама – утро, принявшее человеческий облик.
Юная девушка остановилась в сторонке и стояла не двигаясь, словно поджидая кого-то. Она была в светлом пальто, без шапки, рядом с ней стоял большой чемодан. Прежде всего внимание скальда привлекла ее детская кожа, невероятно свежий цвет ее лица. Она была скорее бледная, чем румяная. И хотя ее кожа напоминала сливки первого весеннего удоя, сама девушка казалась сродни полевым цветам, особенно тем, которые столь нежны, что на них остаются следы от любого прикосновения. Чтобы защитить девушку, природа окутала ее покрывалом, делавшим ее незаметной: это была не обычная красота, заметная любому, красота, которая своим присутствием подавляет все окружающее и требует, чтобы все без исключения любили ее, восхищались ею и взывали к ней, словно с заходом солнца она может завянуть. Ее волосы не были того веселого золотого цвета, который мгновенно пробуждает радость, они были пепельно-белокурые, длинные локоны свободно, без всякого кокетства обрамляли шею и щеки, они неодинаково выгорели на солнце, концы были немного светлее. Бывают глаза, опьяненные радостью, словно победившая рать, они сразу же вызывают восхищение, но глаза этой девушки отличались тихой, чистой глубиной, к которой примешивалось немножко врожденной грусти.
Несколько минут скальд смотрел на нее, а потом заговорил с ней.
– Ты едешь этим пароходом? – спросил он.
Она только теперь заметила скальда и взглянула на него, слегка удивленная тем, что с ней заговорил незнакомый мужчина, но она не умела огрызаться, ответила на его вопрос глухим «да» и стала смотреть в противоположную сторону.
– Хочешь, я понесу твой чемодан? – предложил он.
– Спасибо, я сама, – ответила она.
Было заметно, что она тревожится, приближалось время отплытия парохода, а тот, кого она ждала, почему-то запаздывал; она откинула локон за ухо, и выражение ее юного лица стало совсем грустным. Наконец пароход прогудел в третий раз. Девушка вздрогнула, схватила свой чемодан и хотела нести его на пароход, но незнакомец уже стоял рядом, готовый помочь ей.
В спешке, охватившей всех после того, как пароход прогудел в третий раз, она забыла отказаться от его помощи, он взял ее чемодан, и они поднялись на палубу. Там толпилось множество людей, которые прощались друг с другом. Она подошла прямо к поручням, все еще высматривая кого-то на берегу, а он стоял поодаль и смотрел на ее легкий профиль, на тонкую нежную шею, на округлость груди, скорее воображаемую, чем существующую на самом деле; и все-таки она уже не была ребенком: линия ее ног, которая была так красива сверху донизу, что в сравнении с ее ногами все другие казались грубыми, именно эта линия от бедер до щиколоток вырывала ее образ из мира бесполых детских видений и возвращала в наш мир, где стираются границы между красотой и ее противоположностью. Больше скальд не мог сдерживаться и снова заговорил с ней:
– Тебя зовут Бера?
К своему неудовольствию, она обнаружила, что этот надоедливый человек все еще стоит рядом с ней, но она не умела сердиться и ответила на его вопрос коротким бесцветным «нет», покачала отрицательно головой и снова в печальном ожидании уставилась на берег.
Прогудев в последний раз, пароход подождал еще несколько минут. И в то самое мгновение, когда он отчалил, девушка вздохнула с облегчением, перегнулась через поручни и закричала:
– Папа! Папа! Я тебя так ждала, почему ты опоздал, теперь я даже не смогу попрощаться с тобой!
Ее отец был высокий худощавый человек средних лет с сединой на висках. Но несмотря на то, что лицо у него было отекшее и небритое, а шляпу он, очевидно, по ошибке взял у какого-то бедняка, и хотя он был изрядно пьян, по нему сразу было видно, что он знавал лучшие дни. Его одежда, черты лица и осанка хранили следы благородного происхождения и образованности, которых не изгладили никакие житейские крушения. Он подошел к самому причалу, сорвал шляпу и судорожно, с безумным отчаянием прижал ее к груди; слезы ручьем катились у него по щекам.
– Милое мое дитя! – кричал он, рыдая. – Единственная радость моего сердца, во имя всемогущего Бога умоляю, не покидай меня! – Он продолжал мять шляпу, простирая руки вслед пароходу, но стоявшие рядом мужчины схватили его и оттащили от края, чтобы он не упал в воду.
– Что мне делать? – кричал он тем, кто спас его от падения. – Ее мать умерла, она единственная, кто у меня остался, и вот теперь я потерял ее!
– Папа! – крикнула девушка с большей горячностью, чем можно было от нее ожидать. – Можно, я скажу дяде, что ты приедешь осенью к нам на север?
Но отец или не слышал ее вопроса, или не захотел на него ответить; рыдая, он продолжал кричать вслед пароходу:
– Она моя любовь, мое сокровище, свет моего сердца, во имя Отца и Сына и Святого духа пощадите ее, дайте ей жить, Иисусе всемогущий, защити единственное, что у меня есть, храни ее, мою невинную любовь, как самое драгоценное, что есть на свете!
Пароход уходил все дальше от берега, и скоро отец девушки исчез в толпе на берегу. Зато странный человек, который нес ее чемодан, все еще стоял рядом с ней, и, когда отец уже не мог слышать, что она кричит ему, этот человек сказал:
– Бера, разреши мне помогать тебе вместо него.
В первый раз она посмотрела на него, чтобы понять, кто он такой, но без малейшего желания завязать с ним знакомство, просто в безмолвном удивлении. Наконец она все-таки спросила:
– Почему вы называете меня Берой?
– Мне так сказали, – ответил он.
– Должно быть, вы спутали меня с другой девушкой, – сказала она.
– Нет, – сказал он. – Это ты.
– Кто же вам это сказал? – спросила она.
– Чудесный голос, – ответил он.
– Голос? – изумилась она.
– Этот голос никогда не говорит неправды, – сказал он.
– У вас, должно быть, слуховые галлюцинации, – сказала она.
– Скорее сейчас, чем тогда, – сказал он.
– Откуда вы? – спросила она.
– Из Бервика.
Она не знала этого места, но у нее не было никакого желания расспрашивать о нем, она оперлась о поручни, не обращая больше внимания на скальда, и мысли ее унеслись далеко.
– Ты даже не спросила, как меня зовут, – сказал он.
– А почему я должна спрашивать вас об этом? – удивилась она.
– Не надо говорить мне «вы». Я не привык, чтобы мне говорили «вы», – сказал он.
Она ничего не ответила, не зная, как от него отделаться.
– Меня зовут Льоусвикинг, – сказал он.
– А-а, – сказала она.
Некоторое время она задумчиво следила за игрой света на поверхности воды, но вдруг вспомнила о своем чемодане. Чемодан стоял там, куда скальд поставил его во время посадочной толчеи.
– Ты едешь в первом классе? – спросил он, не отставая от нее, взяв в руки ее чемодан.
– Нет, – сказала она.
– Можно, я отнесу твой чемодан вниз? – спросил он.
Внизу было очень шумно. Наконец девушке удалось выяснить, где ее каюта. Скальд нес чемодан. Потом она исчезла в каюте, дверь захлопнулась. Девушка даже забыла поблагодарить его за помощь. Она не вышла завтракать, и он несколько раз прошел мимо ее каюты, но дверь была заперта. «Она такая юная и хрупкая; как она, должно быть, устала», – думал скальд, желая ей прекрасных снов.








