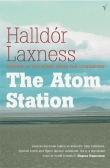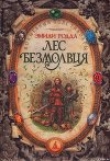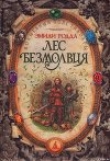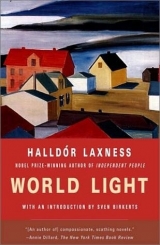
Текст книги "Свет мира"
Автор книги: Халлдор Лакснесс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 46 страниц)
– Бедные, несчастные люди, – сказал директор Пьетур Паульссон заплетающимся языком, опустился, подавленный горем, у груды камней, снял пенсне и заплакал.
– Дерьмо! – сказал владелец баз.
– Что значит любовь по сравнению с сожженным домом? – сказал Пьетур Паульссон и в отчаянии покачал головой. – Милый Юлли, сжечь дом – ведь это ужасно!
– Какое мне до этого дело? Сколько он стоил, этот дом? – спросил владелец баз.
– О, это были большие деньги, милый Юлли, а в то время еще не знали страхования, – ответил директор.
– Я тебе уже тысячу раз говорил, что деньги не имеют никакого значения, если человеку нужна баба, – сказал владелец баз. – Неважно, хочет человек туда, куда он хочет, или не хочет туда, куда он не хочет, сто тысяч миллионов, какое мне дело?
– Да, но люди, мой дорогой, – четыре коровы, трое детей, две старухи и одна собака. Что ты на это скажешь? – спросил директор.
– Если факты плохие, их надо отрицать, – заявил владелец баз.
– Люди всегда остаются людьми, – пробормотал невнятно директор, продолжая качать головой, сокрушенный таким количеством человеческих жертв.
– Люди, – сказал владелец баз. – Какое мне до них дело? Акционерное общество «Гримур Лодинкинни» не желает слушать такие глупости.
– Милый Юлли, мой возлюбленный друг и любвеобильный брат, ты, стремящийся помочь мне, нам, этому проклятому поселку, который не нужен ни Богу, ни людям! Прости меня за то, что я, как старший, как человек, преклоняющийся перед душой, председатель свидинсвикского Общества по Исследованию Души, один-единственный раз спрошу тебя, имеющего пять траулеров и две базы на севере: если деньги не имеют никакого значения, и люди не имеют никакого значения, и ничто не имеет никакого значения, то что же все-таки имеет хоть какое-нибудь значение?
– Рыба, – пробормотал владелец баз, прикрыв глаза и свесив голову над неоткупоренной бутылкой коньяка, зажатой между колен. – Рыба. Рыба.
– Рыба? – повторил директор плаксиво. – Рыба и больше ничего?
– Почему же больше ничего? – удивился владелец баз, поднял голову и внезапно икнул. – Икра и печенка имеют огромное значение. Рыбьи отходы и ворвань. Даже дерьмо имеет огромное значение. Только люди не имеют никакого значения. И деньги, когда человеку нужна баба. «Гримур Лодинкинни» не нуждается в проклятых социалистах.
Изрекая эти крылатые слова, он вдруг заметил, что Оулавюр Каурасон, позабыв об опасности, снова уселся недалеко от них. Инстинктивная неприязнь с новой силой вспыхнула во владельце баз. Он вскочил, на этот раз без всякого предупреждения бросился на юношу и, повалив его, уселся ему на грудь, в одной руке он зажал ворот его куртки, а в другой держал бутылку с коньяком. Никакие мольбы Пьетура Паульссона сжалиться над скальдом больше не помогали, и, хотя Пьетур говорил, что это его собственный скальд, которого он кормил и поил все лето, владелец баз решительно не желал видеть возле себя человека в здравом рассудке.
– Скальдов надо поить, чтобы они теряли рассудок! – заявил он и попытался повернуть голову Оулавюра Каурасона так, чтобы горлышко бутылки попало ему в рот. – А если они не хотят пить, их надо морить голодом, их надо втаптывать в грязь сапогами!
Но именно в ту минуту, когда скальд почувствовал, что его хотят лишить последних крох человеческого достоинства, ибо лишить его чего-нибудь другого было невозможно, когда его хотели лишить самого неотъемлемого человеческого права – права самому распоряжаться собой, в тот самый миг, когда сапог властелина уже опустился ему на лицо, скальд вдруг понял, что все это ему совершенно безразлично. Он вспомнил о своих стихах, он, уж если на то пошло, обладал ценностями, которых никогда не смогут коснуться руки владельца баз. Он вспомнил о тысячах скальдов, которых владельцы баз всего мира втаптывали в грязь сапогами задолго до его рождения. Время идет, и могилы зарастают травой. Но много лет спустя после того, как владельцы баз превратятся в прах и исчезнут во мраке ночи, окутанные презрением веков, песни скальдов будут звучать на устах живых и любящих людей.
Сначала Пьетур Паульссон, не вмешиваясь, глядел на эту сцену, но когда дело зашло чересчур далеко, он надел пенсне и встал.
– Тебя зовут Юэль Юэль Юэль, мой друг, это шикарное имя, – сказал Пьетур Паульссон и опустил руку на плечо владельца баз. – Но я тоже, черт побери, никакой не исландец, если хочешь знать. Мою бабушку звали фру София Сёренсен.
– Тебе придется долго ждать, прежде чем акционерное общество «Гримур Лодинкинни» соизволит помочь такой паршивой крысе, как ты, которая топит суда, обкрадывает кассы, подделывает векселя и поджигает дома! – кричал владелец баз, пока директор оттаскивал его от скальда.
Некоторое время они злобно боролись в траве возле каменной груды. Но когда директор уже совсем было подмял под себя владельца баз, у того изо рта, прямо в физиономию Пьетуру Паульссону, фонтаном брызнула рвота, точно началось извержение вулкана. Атакованный столь неожиданным оружием, директор отпрянул, он снял пенсне, вынул вставные зубы, спрятал то и другое в карман и стал вытирать рукавом лицо. Владелец баз вскоре заснул в собственной блевотине. Пьетур Паульссон улегся возле каменной груды и тоже заснул. Оулавюр Каурасон сидел неподалеку, приглядывая за лошадьми и наблюдая в то же время, как столпы общества ведут себя во сне.
День клонился к вечеру.
Глава двадцатая
Вечером на другой день после этого богатого событиями путешествия скальд сидит на низком чердаке Хоульмфридур у открытого окна, волны с тихим мерным шумом бьются о берег, море сверкает в лунном свете. Он только что поел и рассказал о поездке, женщина убрала со стола и вымыла посуду. В этой выскобленной добела кухне с открытыми окнами живет такое простое достоинство и одновременно такое ненавязчивое тепло, что человек чувствует себя здесь счастливым, даже если его мчит бурный поток житейских неудач. Милые цветастые тарелки на полке, мутовка на стене, занавески в голубую клеточку, спицы на подоконнике, тепло от плиты, запах кофе, лунный свет, море – если все это продать, не много получишь денег, а между тем это и есть мир, каким он бывает, когда он повернут к человеку самой прекрасной своей стороной.
Вдруг на лестнице раздался грохот, кто-то стучал в дверь с подвешенной гирей, потом забарабанил в дверь кухни. Оказалось, однако, что это не муж Хоульмфридур. Это была долговязая девчонка директора. Она сказала, что принесла Оулавюру Каурасону письмо от Юэля Юэля Юэля, и исчезла.
Женщина подошла к окну и стала рядом со скальдом, когда он разорвал конверт. Он вытащил из конверта очень красивую бумажку с картинкой и повертел ее в лунном свете, не понимая, что это такое.
– Это пятьдесят крон, – сказала Хоульмфридур. Он был ошеломлен. Первый раз в жизни он получил деньги. Прошло немало времени, прежде чем ему стало ясно, какую благодать несет ему этот подарок. Наконец он схватил Хоульмфридур за руку и сказал:
– Теперь я смогу купить себе одежду! Наверно, и сапоги, а может, даже сумею поехать в Адальфьорд, чтобы издать там свои стихи и повидаться с матерью.
Она ничего не ответила. Только после долгого молчания тоненько кашлянула.
– Разве тебе не кажется, что это прекрасный подарок? – спросил он.
– Нет, – ответила она прямо. – Мне кажется, что было бы гораздо лучше, если бы важные господа бесплатно измывались над простыми людьми, ведь в глубине души именно этого они и жаждут.
Скальд потерял дар речи, по правде сказать, он не понял, что она имела в виду. Женщина отошла в ту часть кухни, которая лежала в тени, и словно растаяла.
– Богач, который не в состоянии ударить бедняка по лицу, не вытащив тут же кошелек, – жалкое ничтожество, – сказала она. – Любой червяк не столь жалок и отвратителен, как богач, имеющий совесть.
Ее тонкий чистый серебряный голос перешел в шепот.
– Хоульмфридур! – в ужасе прошептал он. – Где ты? Иди сядь рядом со мной!
Прежде чем сесть, она молча походила по комнате. Потом она села на скамейку рядом с ним. Повернувшись к нему спиной, она смотрела на море.
– Хоульмфридур, – позвал скальд, но она не ответила, только вздохнула и взялась за свое вязание.
– Хочешь, я выброшу эти деньги в окно? – предложил он.
Она долго не отвечала, только вязала быстро-быстро. Наконец она сказала своим чистым серебряным голосом, который уже был спокоен:
– Мне нечего дать тебе взамен.
Он помолчал. Потом сказал:
– Нет, есть. – И опять воцарилось молчание.
– Что? – еле слышно шепнула она в лунном сиянии.
– Ты знаешь, – ответил он.
Молчание.
– Нет, – сказала она.
Молчание.
– Да, – сказал он.
Так продолжался этот разговор, состоящий из односложных бессмысленных слов, долгого молчания и спокойного шума волн, которые разбивали свою зеленовато-белую пену о блестящие береговые камни.
– Хоульмфридур, ты, которая видишь все, – сказал он, – ты ведь знаешь, что со мной творится.
– Откуда мне это знать, – ответила она. – Чужая душа – потемки.
– Ты ведь знаешь, что на меня свалилось тяжелое горе, – сказал он.
– Горе? – удивилась она. – Я не знала. Какое же это горе?
– Любовное, – ответил он.
Его вдруг поразила мысль, что человек, испытавший небольшое горе, получит вознаграждение, если ему будет дано насладиться утешением такой женщины. Но она заявила спокойно и уверенно, словно ничего не случилось:
– Любовного горя не бывает.
Он был недоволен ее ответом, когда она так говорила, он не понимал ее.
– Можешь называть это как хочешь, Хоульмфридур, ведь ты очень умная, и к тому же настоящий скальд ты, а не я, – сказал он. – Но в последние недели я чувствовал, что дни жизни становятся все короче и короче, темнее и темнее и что скоро наступит беспросветная ночь.
– Скоро наступит беспросветная ночь, – повторил, словно эхо, тонкий серебряный голос в лунном свете, но она продолжала вязать.
Он все еще прислушивался к этим словам, хотя они уже перестали звучать, потом вздрогнул, придвинулся невольно к ней поближе, положил руку ей на плечо и сказал очень серьезно:
– Нет, Хоульмфридур, ты не должна так говорить.
– Это твои слова, – ответила она.
– Пусть, но ты не должна их повторять, – сказал он. – Если ты хочешь спасти мою жизнь…
– Ребенок, – сказала она, когда он умолк. – Странный ты человек. Ты такой непростой, что никогда не знаешь, шутишь ты или говоришь серьезно. И вместе с тем ты такой бесхитростный, что тебя даже жалко.
– Я человек, жаждущий утешения, – сказал он.
– А кто утешит меня? – спросила она.
Этот вопрос оказался для него неожиданным, и он покраснел до корней волос. Он всегда думал, что он единственный человек в мире, которому плохо, ему никогда не приходило в голову, что эта проницательная немногословная женщина с тонким серебряным голосом тоже нуждается в утешении.
– Все лето я мечтал прочесть тебе свои стихи, – сказал он. – Но все-таки никогда так, как в этот вечер, я не жаждал… послушать твои стихи.
– Я их сожгла, – ответила она.
По-осеннему шумит море. Узкий серп месяца висит по эту сторону гор почти над серединой фьорда, он висит близко от берега, почти над самыми прибрежными скалами, всего в нескольких метрах от окна. Ребенок верит, что стоит только протянуть руку, и можно схватить месяц, что можно стать на лунную дорожку, бегущую по воде, и пройтись по ней; человек верит в то, что красиво. Долго эта простая картина была единственным продолжением их разговора. Наконец он прижался лицом к ее шее и попросил:
– Можно мне поцеловать тебя?
– Нет, – коротко ответила она, но не обиделась.
– Почему? – спросил он.
– Я гожусь тебе в матери, – ответила она.
– Ну, будь тогда моей матерью, – попросил он.
– Обещай мне, милый Оули, что не будешь бабником, когда вырастешь, это самое отвратительное, что мы, матери, только можем себе представить, – сказала она.
– Ну один поцелуй, – умолял он. – Я знаю, после него я увижу жизнь в новом свете. Все печали исчезнут. А я получу зернышко, которое буду хранить в сердце до следующей весны.
– Мы не должны играть с огнем, – сказала она.
– Только один раз, – сказал он. – И больше никогда.
– Вот именно поэтому-то и нет, – сказала она. Послышались шаги на лестнице, и дверь с подвешенной гирей отворилась.
– Отодвинься, он пришел, – шепнул он смущенно. Но она даже не шелохнулась, не подняла глаз, продолжая вязать. В дверях появился ее муж. Хотя он был и пьян, он сразу же разглядел их на фоне окна и, бормоча что-то, некоторое время наблюдал за ними. Потом начал осыпать жену бранью. Она долго вязала, не шевелясь, лишь вздрогнула, словно ее укололи, когда он сказал: «Шлюха». Но она не стала оправдываться, только сказала очень холодным, чистым серебряным голосом:
– Тебе лучше всего пойти и лечь спать.
– Если этот сопляк еще раз попадется мне на глаза, я его убью, – пригрозил ее муж.
Нельзя сказать, чтобы Оулавюр Каурасон совсем не испугался. Из всего страшного самое страшное все-таки насильственная смерть. Но женщина, казалось, считает совсем наоборот. Только когда ее муж повторил еще раз то слово, она встала. И тут произошло чудо, равного которому Оулавюр Каурасон никогда не видел. Эта похожая на молоденькую девушку женщина с высокой грудью, тонким голосом, равнодушным, но в то же время внимательным взглядом больших темных глаз воткнула спицы в клубок, подошла к мужу и залепила ему пощечину. И как бы там ни было, а этот великан, этот вспыльчивый человек, который легко мог убить ее одним пальцем, провел по лицу ладонью, будто в него бросили грязью, и молча уставился на жену.
– А теперь, – сказала она, словно наказав ребенка, – делай, что я говорю: иди и ложись спать. – Потом она повернулась к Оулавюру Каурасону. – Уже поздно. Завтра утром придешь пить кофе, как обычно.
Муж и жена остались в доме вдвоем, а Оулавюр Каурасон оказался на улице.
Многого не хватало, чтобы он чувствовал себя счастливым. Путь домой был путем на Голгофу. Осень застала Оулавюра Каурасона одиноким обитателем этого пустого дома, который прежде был частичкой теплых летних ветров. Приближаясь к дому, он с каждым шагом чувствовал, что вокруг полно дурных предзнаменований, казалось, будто весь дом наводнен злыми думами. К тому же скальд обнаружил, что домом завладели страшные дикие звери. Лишь только наступал вечер, крысы начинали грызть и пилить, скрестись и царапаться под полом и за стенами, они даже дрались и визжали. Иногда они срывались и падали вниз между деревянной панелью и стеной с высоты в полтора человеческих роста, и он успевал досчитать до пяти, пока раздавался шлепок об пол. Если он вставал с постели и стучал в стену, результат бывал тот же, какого достигают, разбудив храпящего человека, – несколько мгновений спустя развлечение начиналось снова. И все-таки шальные дикие кошки, жившие в подвале, были еще страшнее крыс. Когда время подходило к полуночи, особенно в такие вот лунные ночи, казалось, злые духи вселяются в этих пугливых широкоскулых тварей, которые днем прятались по укромным местам. Их пронзительные крики звучали то испуганным соло, то раздирающим уши хором, они, как посланцы ада с его вечными муками, лишали чувствительного юношу сна и душевного покоя, он едва это выдерживал.
Скальд старается идти как можно медленнее, он останавливается через каждый шаг и глядит на море, сверкающее в лунном свете. И тогда, как уже бывало прежде, добрые духи мира с улыбкой склоняются к юному скальду, будущее которого скрыто во мраке неизвестности. Он находит в грязи Блаженного Дади. Этот брат Иисуса и потребитель гофманских капель лежал по обыкновению поперек дороги, положив щеку в мягкий ил, и спал. Скальд сразу узнал его и принялся поднимать на ноги. Однажды он так же нашел его весной, лето еще не началось, скальд тогда подумал, что это единственный человек, который остался во всем мире, а теперь скальд нашел его осенью, и ему было приятно снова найти его, хотя лето уже прошло, и пусть он не был единственным живым человеком на свете, как подумал тогда скальд, он был все-таки человеком. Иисусе, брат мой, поднять якорь!
Его звали Дади Йоунссон, по прозвищу Блаженный Дади, ибо люди считали, что он обрел вечное блаженство уже в этой жизни. «Блаженная смерть»[13]13
Игра слов – «Дади» по-исландски созвучно слову «смерть».
[Закрыть],– говорили некоторые. Рассказывали, что он был хорошим моряком и многие охотно брали его на свои шхуны, он никогда не пропускал рыболовного сезона. Когда лов кончался, Дади приезжал в Свидинсвик к сестре, женщине, у которой было множество детей, отдавал ей половину заработанных денег, если таковые оказывались, а остальные вносил доктору на гофманские капли и уже на другой день обретал блаженство. Гофманские капли заменяли ему семью, имущество, кров. Он покидал дом своей сестры и ночевал на дорогах, ложась всегда поперек. Но триумфальная колесница Господа Бога упорно не хотела переезжать этого необычного потребителя гофманских капель. Трудно было не полюбить этого человека, который любил весь свет и никому не причинял зла, кроме самого себя. Мало у кого в груди скрывалась более нежная и скромная душа, во всяком случае, среди тех, кто всегда был в здравом рассудке. На суше Блаженный Дади Йоунссон произносил всего лишь пять слов: «Иисусе, брат мой, поднять якорь!»
Проснувшись, он тотчас сделал глоток из бутылки с гофманскими каплями, и лицо его исказила чудовищная гримаса, он сказал: «Брат мой», – и приветствовал юношу слезами, судорожным рукопожатием и объятиями. Оулавюр Каурасон сразу почувствовал себя хорошим и добрым, найдя человека еще более беспомощного, чем он сам. Он решил отвести Блаженного Дади в свой замок, предложил ему разделить с ним комнату и стать наперсником скальда, поскольку наступила осень и скальд был один-одинешенек в этом мраке, окруженный со всех сторон дикими зверями да дурными предзнаменованиями, и не имел больше никакого утешения.
Глава двадцать первая
Необычные времена наступили в свидинсвикском хозяйстве: Сатана и Моса явились на спиритический сеанс в Общество по Исследованию Души и пожелали, чтобы их вырыли из могилы. Они жаловались на свою судьбу и заявили, что злые мысли и дурная слава о них на земле лишили их душевного покоя и небесного блаженства. Они даже осмелились напомнить этому ученому собранию слова: «Не судите, да не судимы будете». Не очень-то приятно вот уже более двухсот лет называться привидениями – если теленок провалился в трясину, или у коровы затвердеет вымя, или крыша обвалится людям на голову, всегда говорят: «Чертово привидение». Конечно, во время земной жизни они не обладали большой духовной зрелостью, они искали истинные токи, но не нашли их, жаждали увидеть свет, но не видели никакого света, они любили друг друга плотской любовью, вместо того чтобы любить невидимые существа, парящие в небесных просторах, но ведь жизнь состоит не из одних только удовольствий, скорее напротив, времена трудные – Бог не всегда рядом, люди вынуждены распутничать, вынуждены убивать друг друга, красть деньги, жечь дома – да-да, очень жалко, конечно, – пятеро работников, четыре коровы, трое детей, две старухи и одна собака, не считая хозяина дома. Но не можем ли мы спросить: «А разве все эти люди не умерли бы так или иначе?» «Никому на долгий век грамоты не выдано», – говорит наш блаженной памяти Хатлгримур Пьетурссон. Кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. Кто из вас достиг полной духовной зрелости, нашел истинные токи, увидел свет, любил, как невидимые существа в небесных просторах? «Мне отмщение», – говорит Господь. Мы, люди, должны научиться быть терпимыми, и в особенности по отношению к покойникам. «Владеть небесами – вот наше богатство», – говорит скальд. «Если вы, живущие теперь на земле, стремитесь углубить свою духовную зрелость и хотите найти истинные токи, вы должны разрыть каменную могилу, в которой мы погребены жестокосердным духом времени, и перенести нас в освященную землю, – сказали Сатана и Моса.
Сначала директор не был расположен обращать внимание на подобную болтовню. Даже неискушенному взгляду было видно, что в свидинсвикском хозяйстве хватает дел поважнее, чем выкапывание из могилы этой знаменитой пары. Но поскольку Сатана и Моса сеанс за сеансом повторяли свои требования, директор больше не смел оставаться глух к этим мольбам и изложил их пастору и управляющему. В последние годы церковная жизнь в Свидинсвике едва теплилась, даже старух удавалось заполучить в дом Господень только в дни похорон, но похороны случались не так часто, чтобы с их помощью можно было поддерживать в людях духовную жизнь. Неудивительно, что пастор с радостью приветствовал столь выдающееся событие и сказал, что готов взять на себя все труды, связанные с выкапыванием костей из могилы и перевозкой их в поселок, а также богослужение, проповедь, молебен в доме директора, надгробное слово и т. п. Он стряхнул пылинку с рукава и подул на нее.
– Самым существенным в этом деле, – сказал он, – мне представляется такой вопрос: кто заплатит за похороны? И где взять гроб для этих костей?
– Не тревожься об этом, дружище, – сказал директор. – Заплатит тот, кто уже привык платить за все у нас в Свидинсвике. С моей точки зрения, самое существенное в этом деле, чтобы Бог простил нам, как и мы прощаем должникам нашим.
После этого духовные и светские власти Свидинсвика постановили, что и Бог и люди должны простить Сатане и Мосе в соответствии с «Отче наш», и провозгласили, что не во власти людей судить тех, кто живет под сенью горя.
Однажды в конце сентября директор отправился в горы, прихватив еще трех безземельных крестьян из поселка. У них были с собой кирки, ломы, лопаты и водка. Об их поездке неизвестно ничего, кроме того, что они отсутствовали весь день. И вечером никто из них не вернулся домой. Люди ждали их и не спали далеко за полночь, делались самые различные предположения. Нашлись и такие, которые считали, что благочестивая болтовня привидений о прощении в Обществе по Исследованию Души – очковтирательство и обман, у этой парочки только одно на уме – заманивать людей к своей могиле и убивать их там. Но тот, кто на следующее утро встал пораньше, мог утешиться лицезрением Пьетура Паульссона, возвращавшегося домой с гор, вид у директора был немного потрепанный, он был весь в грязи, без шляпы, без зубов и без пенсне, но в общем безусловно живой. Пусть он потерял внешние знаки своего директорского достоинства и был настолько слаб, что едва держался в седле, поездка его была небезрезультатной: перед ним на лошади лежал мешок с костями Сатаны и Мосы. Пусть невесть куда девались атрибуты его директорского достоинства, а также слух, зрение, обоняние, вкус и осязание, пусть чувство равновесия было нарушено, закон притяжения отменен и небо с землей грозили исчезнуть, не было в мире такой силы, которая могла бы разлучить директора с самым драгоценным сокровищем его души, этим символом прощения и истинных токов, духовной зрелости и света. Последнее, что в это утро люди могли рассказать о Пьетуре Паульссоне, было то, что он скатился со спины лошади перед своей дверью, уполз со своим мешком в спальню и запер за собой дверь. Весь день его никто не видел. Вечером к берегу причалило сторожевое судно, идущее в столицу, и директор поднялся на борт в сопровождении пастора и управляющего, которые сердечно простились с ним и пожелали ему счастливого пути и скорого возвращения.
Остается сказать, что три других землекопа спустились в поселок порознь, когда день уже клонился к вечеру: два – по эту сторону горы, а один – по другую, потеряв где-то своих лошадей. Они находились в неважном состоянии после ненастной осенней ночи, проведенной под открытым небом, были пьяны вдрызг и совершенно больны, про раскопки могилы могли рассказать весьма немного, даже не помнили, долго ли они ее раскапывали, лишь один из них невнятно бормотал о какой-то лошадиной челюсти. Зато пастор, с разрешения соответствующих властей и с благословения епископа, смог повесить на дверях церкви и на телеграфном столбе объявление, в котором говорилось, что в ближайшее воскресенье в приходской церкви состоится погребение несчастных костей блаженной памяти Сигурдура Натанссона и блаженной памяти Моуэйдур, которые были вырыты и привезены в Свидинсвик по их собственному желанию.