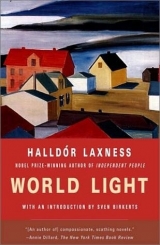
Текст книги "Свет мира"
Автор книги: Халлдор Лакснесс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц)
Глава десятая
Утром скальд признался Хоульмфридур, что, по-видимому, он дал ложную клятву, но рассказать, что ему подарили самый большой дом в Исландии, он не посмел. Женщина долго смотрела на него своими глубокими, ясными, бездонными, как ему казалось, глазами, а потом спросила удивленно:
– Неужели ты еще такой ребенок?
Он поблагодарил судьбу, что не рассказал ей о доме. Ему было ясно, что если человека считают ребенком из-за того, что он мучится угрызениями совести, дав ложную клятву, то, наверное, его должны счесть законченным идиотом, если он скажет, что принял в подарок самый большой дом в Исландии. Через некоторое время он спросил, словно невзначай, чтобы проверить, как бы она отнеслась к такому известию:
– А что ты сказала бы о человеке, который владеет самым большим домом в Исландии?
– Ты знаешь старого Гисли, крупного землевладельца? – спросила она.
– Знаю, но ведь он вовсе не крупный землевладелец, он сумасшедший, и к тому же у него одна сторона парализована.
– Да, – сказала женщина, – он сумасшедший и паралитик.
В глубине души скальд обрадовался, что она так относится к богачам, и тут же выбросил из головы все мысли о том, что дом принадлежит ему.
– У меня-то ничего нет, – сказал он. – На днях меня на носилках привезли сюда через пустошь, как покойника.
– Пей, пожалуйста, кофе, – сказала она, – и ешь хлеб с маслом. Сегодня я постараюсь найти тебе какую-нибудь более подходящую одежду. Когда мой муж встанет, ты пойдешь с ним проверять сети.
Стояли ясные дни, какие бывают в начале лета перед сенокосом. Мужа Хоульмфридур звали Лидур. Трезвый, он, как правило, был молчалив и хмур, потому что этот мир, хоть его и создал Господь Бог, не может сравниться с тем миром, что заключен в бутылке обжигающего спирта, которая стоит одну крону, или в порции того собачьего зелья, что продает доктор. Трезвый Лидур поглядел на юношу так, словно тот был вовсе и не человек, люди, на которых смотришь трезвыми глазами, кажутся безвкусной жвачкой. Вечером, продав несколько круглоперов, Лидур пошел к доктору и купил себе водки, а когда вернулся домой, он ожил уже настолько, что больше ни к чему не относился равнодушно. В угаре опьянения он вдруг заметил Оулавюра Каурасона, который сидел на кухне и ел пинагора.
– Какого черта здесь торчит этот рыжий парень? – спросил он жену.
– Замолчи, – спокойно ответила женщина своим невозмутимым негромким голосом.
– У-у, бесстыжая! – сказал он.
– Иди и ложись спать, – сказала женщина, бросив на него из-под высоких темных бровей холодный взгляд.
А когда он попытался протестовать, спокойно повторила:
– Спать, – и показала на дверь спальни.
И этот большой сильный человек, который легко мог бы стереть ее в порошок, пробормотал себе под нос несколько безобидных ругательств и отправился спать. Так Оулавюр Каурасон Льоусвикинг начал работать поденщиком в хозяйстве Товарищества по Экономическому Возрождению.
Иногда после еды скальд оставался в выскобленной добела кухне Хоульмфридур и читал сборники стихов и другие книги, потому что всюду, где бы она ни находилась, с ней всегда были книги, так же как с ее мужем – водка. Юноша познакомился со скальдами, которые были настолько близки человеческому сердцу, что он и не представлял себе, что так может быть, и постепенно удивительно легко забыл Сигурдура Брейдфьорда, как обычно забывают тех, кого особенно любят. Хоульмфридур смотрела на его лицо и угадывала по нему, о чем говорилось в книге, и солнце играло в его огненных волосах. Она молчала, он тоже ничего не говорил. Он был уверен, что она умеет читать мысли, и потому в ее присутствии старался думать только о возвышенном. Поднимая глаза, он невольно улыбался ей, но она никогда не улыбалась ему в ответ, она только еще глубже проникала в его душу и, не отвечая, молча, прятала в себе его вопросительную улыбку. Иногда он, набравшись храбрости, решал попросить Хоульмфридур прочесть ему свои стихи, но когда он поднимал глаза, оказывалось, что ее душа витает где-то очень далеко, и тогда ему, как и директору, начинало казаться, будто у нее вовсе нет души, а есть лишь одна телесная оболочка.
Он сочинял стихи, где бы ни находился. Его голова была полна стихами, все, что видели его глаза, просилось в стихи, поэзия жизни действовала на него с такой силой, что он ходил точно пьяный и от страстного желания облечь в поэтическую форму каждую мелочь успевал заметить далеко не все. Хоульмфридур дала ему бумаги и чернил, и с тех пор он нередко просиживал ночи напролет, торопясь писать, словно в любую минуту с шумом и грохотом мог наступить конец света и надо любой ценой, пока не погасли солнце, луна и звезды, написать как можно больше. Он записывал все, что видел и слышал, и большую часть того, о чем думал, иногда прозой, иногда стихами. Случалось, что у него уходило много часов, чтобы записать события одного дня, все производило на него впечатление; интересное слово, брошенное незнакомым человеком, раскрывало новые горизонты, крупинка мудрости казалась новым восходом, обычное стихотворение, прочитанное в первый раз, возвещало новую эру, точно первый полет вокруг земли, мир был многообразен, великолепен, богат, и скальд любил его. Счастье улыбалось этому юному скальду. Ему казалось невероятным, чтобы добрые духи, которые этим летом открыли перед ним новые пути, отвернулись от него зимой. Он даже рассчитывал, что ему заплатят за его работу, и тогда он осенью сможет поступить в реальное училище в Адальфьорде и мать, хотя она однажды и отослала его от себя в мешке, плачущего и беспомощного, наверное, как-нибудь поможет ему, узнав, что он собирается стать великим скальдом. Больше, чем когда-либо, он был убежден, что все люди добры, и ни к кому не питал зла. Повсюду он слышал дивные звуки. И видел свет.
– Вегмей Хансдоухтир, почему же ты больше не приглашаешь меня зайти в дом?
– Не хочу. – Она больше не смеется весело, беззаботно и лукаво, как прежде, она стоит в дверях дома, насвистывая и покачивая головой, сердитая и нетерпеливая; но мелодия прежняя.
– Черти проклятые, жалкие твари. Откармливать их на убой запрещено, вот никто и не заботится о том, чтобы накормить их досыта, особенно те, у кого есть и жратва и деньги, а эти черти носятся по всему поселку, орут, бранятся да клевещут на ни в чем не повинных людей. Но с меня хватит, клянусь Богом, даже если его и нет.
– О чем ты говоришь, девушка? – спросил скальд. – Что тут произошло?
– А ты разве не знаешь, что мои братья и сестры натрепали ребятам, будто я спала с тобой, когда ты ночевал у нас? С тех пор стоит мне показаться на улице, как появляется эта оголтелая орава и кричит мне вслед, что я спала с психом. И взрослые, конечно, тоже не отстают. Плохому о человеке всегда верят, особенно если это ложь.
– Да, но если у человека чистая совесть, какое ему дело до того, что болтают люди? – сказал он, желая утешить ее.
– По-твоему, если у человека чистая совесть, так пусть эти людоеды рвут его на куски? – спросила она. – Да и кто тебе сказал, что у меня чистая совесть?
– Боже, какая ты сегодня сердитая, – сказал он.
– Да, изрядно, – сказала девушка и засмеялась. Больше она не сердилась.
– Я думал, что мы с тобой друзья и не будет ничего особенного, если ты пригласишь меня зайти, плевать на то, что болтают.
– Я просто дура, – сказала она. – Другой такой не сыщешь. Я не умею дружить. И мне противно быть кому-нибудь сестрой. – Потом она прибавила тонким голоском, не то смеясь, не то плача и не сводя с него тяжелого горячего взгляда. – И тебе не стыдно?
– Чего? – удивился он.
– А-а, ты тоже дурак, – сказала она. – Точно такой же, как я. В жизни не встречала такого дурака.
– Значит, ты не хочешь со мной разговаривать?
– Разве я с тобой не разговариваю? – спросила она. – Ты что, оглох?
– Когда мы с тобой сможем увидеться?
– А разве ты меня не видишь? – спросила она. – Ты что, ослеп?
– Нет, я имел в виду, как тогда, – сказал он.
– А к чему это? Нет, такого дурака я еще не встречала, – сказала она.
Упрямый и смущенный, он стоял на дороге, ему не хотелось уходить, но о чем говорить с ней, он тоже не знал.
– Некогда мне тут с тобой разговаривать, – сказала она.
– А ты со мной и не разговаривала, – сказал он.
– Ты бы лучше написал обо мне стихотворение, – сказала она.
– А я уже написал. Хочешь, я тебе его прочитаю?
– Не-ет, не хочу!
– Вот ты какая!
– Не сердись, – сказала она. – Ты теперь в милости у Пьетура Три Лошади и скоро станешь важным барином. А что такое я? Ничто. Ха-ха-ха! Иди уж себе!
Ее смех не был больше звонким и искренним и таким чудесно бессмысленным, как прежде, – должно быть, что-то все-таки случилось.
– Мне уже никогда нельзя будет прийти к тебе? – спросил он.
– Можешь пройти здесь по дороге завтра утром, сказала она.
– Спасибо.
На другой день утром, в то же самое время, он шел по дороге мимо ее дома. Она стояла в дверях и улыбалась. Он попросил ее, чтобы она пригласила его в дом.
– Впервые слышу, чтобы девушке было прилично приглашать в дом мужчину.
– Но ведь раньше ты приглашала меня? – удивился
он.
– Тш-ш, – шикнула она и оглянулась. – Не ори так.
– Больше я не буду просить тебя об этом, – сказал он.
– Ты живешь в самом большом доме в Исландии, почему ты сам никого не приглашаешь к себе в гости? – спросила она.
– Милости прошу, – ответил он. – Всегда буду рад тебя видеть, правда, тебе придется влезть через подвальное окно, потому что дверь заколочена.
– Ты что, рехнулся? – спросила она. – Неужели ты думаешь, что я пойду в гости к мужчине?
– Едва ли меня можно назвать мужчиной, – скромно сказал он. – Но у меня есть старый диван, так что я хоть смогу предложить тебе сесть. К сожалению, у меня нет стекол в окнах, поэтому, когда идет дождь, вода попадает внутрь.
– Но у тебя есть одеяло, чтобы укрыться, я знаю, – сказала она.
– Да, у меня есть большое одеяло, под ним могут укрыться даже сразу двое, – сказал он.
– Вот как? А откуда оно у тебя?
– Мне его дала Хоульмфридур с Чердака.
– Вот оно что, – сказала девушка. – Ну что ж, тебе повезло. Она ведь тоже пишет стихи, как и ты, правда, никто, к счастью, не слышал ни одного ее стихотворения.
– Если ты придешь ко мне сегодня вечером, ты получишь стихотворение, – сказал он.
– В первый раз слышу такую дерзость! Ты что, считаешь, что девушка может прийти к мужчине? За кого ты, собственно, меня принимаешь? Можешь укрыть своим одеялом Хоульмфридур с Чердака, она тоже пишет стихи, как и ты. Ну, а теперь мне пора!
– Можно мне завтра снова пройти мимо? – спросил он.
– Разве я могу запретить тебе ходить по дороге? – спросила она.
– Лучше уж нам больше никогда не встречаться, – сказал он с мировой скорбью в голосе.
Тогда она рассмеялась и сказала:
– Ну ладно, приходи завтра.
И так день за днем. Уже не в первый раз тот, кто сперва улыбался скальду, вдруг поворачивался к нему спиной и начинал думать о самом себе вместо того, чтобы думать о нем. Иногда человеку кажется, что он понял человеческую душу. А несколько дней спустя он уже не понимает ее. Один день человека целуют, и ему кажется, что так будет всегда. А на другой день его уже не целуют.
Глава одиннадцатая
Скальд утешался тем, что просматривал свои тетради, в которых было записано уже около тысячи стихотворений, а может, даже и больше. Когда-нибудь мир, возможно, поймет, что это было за сердце, когда-нибудь. Жили в прежние времена два скальда[11]11
Речь идет о поэтах Йоунасе Хатлгримссоне (1807–1845) и Сигурдуре Брейдфьорде (1798–1846).
[Закрыть], величайшие скальды Исландии, они враждовали между собой, потому что каждый из них по-своему служил богу поэзии Браги, однако оба они любили Браги всей душой, но, может быть, еще больше они любили исландский народ, который всегда так плохо заботился о своих скальдах. Оба умерли молодыми в нищете и безвестности, один – в Копенгагене, другой – в Рейкьявике; где могила первого – никто не знает, но могила другого, говорят, сохранилась. А их стихи вот уже тысячу лет согревают сердце каждого исландца. Кто же такой я, Оулавюр Каурасон, чтобы надеяться на большее счастье, чем они?
– Это ты живешь в этом замке?
Навстречу ему по тропке вдоль берега поздним вечером идет какой-то человек; незнакомец невысок ростом, но широк в плечах, у него сросшиеся брови, светло-каштановые волосы, глаза с зеленоватым блеском, на лице написано высокомерие, словно он все знает лучше всех на свете, голос у него низкий, шея открыта, на ногах стоптанные парусиновые ботинки. Оулавюр Каурасон не имел ни малейшего понятия, что нужно незнакомцу, и, словно оправдываясь, сказал, что ему разрешили ночевать в этом замке, потому что у него нет никакого дома.
– Я тебя знаю, – сказал незнакомец. – Ты поэт, – рука у него была небольшая и изящная, с широким запястьем, крепкой ладонью, пальцы, как у женщины, утончались к концу, ногти были длинные и выпуклые. Но его рукопожатие было сильным и дружеским.
– Меня зовут Тоураринн Эйоульфссон, – сказал он. – Древнее имя, как видишь, поэтому я взял себе другое – Эрдн Ульвар, так меня и зови. В поселке меня зовут просто парнем из Скьоула.
Он говорил серьезно и гладко, словно читал по книге, хмурил брови, щурился и опускал книзу утолки рта, и, хотя он не сводил глаз с собеседника, взгляд его постоянно устремлялся куда-то вдаль. Он был красив какой-то особенной, необычной красотой, которая объясняла высокомерное выражение его лица и оправдывала его. Голос у него был низкий, и в нем слышалась хрипота, но была в нем в то же время и какая-то мягкость.
– Я тоже раньше был поэтом, как и ты, – продолжал он своим гордым голосом. – Идем пройдемся по дороге. Я чувствую, что мы с тобой станем друзьями.
– Позволь мне еще раз пожать твою руку, – сказал скальд. – Я так давно мечтал иметь друга, у меня никогда в жизни не было ни одного друга. Меня зовут Оулавюр Каурасон, но я зову себя Льоусвикингом, потому что, когда я был ребенком, я часто стоял на берегу маленького залива, который назывался Льоусавик, Светлый залив, и смотрел на птиц.
– Льоусвикинг, – сказал Эрдн Ульвар, – я хочу спросить тебя об одной вещи: почему ты пишешь стихи?
Этот неожиданный вопрос так поразил скальда, что он остановился как вкопанный.
– Я… я люблю, – пробормотал он, но, заговорив об этом, он тут же смешался и язык перестал ему повиноваться. Что же, собственно, он любит? Он стоял с открытым ртом и размахивал руками, словно пытался поймать бабочку, которая уже давно улетела; а была не то ночь, не то день, золотистые облака отражались в спокойном море, и за дальними фьордами синели горы, растворяясь в сказочной дымке.
– Любишь? – спросил Эрдн Ульвар. – Что же ты любишь?
– Не знаю, – сказал Льоусвикинг и пошел дальше. – Должно быть, красоту.
– А что ты скажешь о Свидинсвике?
Скальд отлично сознавал, сколь неполон его ответ другу, но, размышляя над его неожиданным вопросом, он продолжал смотреть на эту чарующую беспредельную синеву.
– В Свидинсвике изумительный вид на горы, – сказал он наконец.
– А ты знаешь, что гор, на которые ты смотришь, на самом деле не существует? – сказал Эрдн Ульвар. – Разве ты не видишь, что они скорее относятся к небу, чем к земле? Вся эта волшебная синева, которая околдовала тебя, всего лишь обман зрения.
– Что же тогда существует в конечном счете? – спросил Льоусвикинг. – Что же не обман зрения?
– Человеческая жизнь, – ответил Эрдн Ульвар. – Земная жизнь.
– Самое естественное, чтобы красота и человеческая жизнь слились воедино и никогда больше не разделялись, – сказал Льоусвикинг.
– Красота и человеческая жизнь – это двое возлюбленных, которые никак не могут встретиться, – сказал Эрдн Ульвар. – Помнишь стихотворение Йоунаса Хатлгримссона «Моя сестра»? Там есть такие строчки: «Только солнце выглянет, она уже веселая, солнечные локоны струятся по щекам».
– Можешь не продолжать, так пишут только гении, – сказал Льоусвикинг. – Как он сумел написать так просто?
– Я не об этом хотел сказать.
– А о чем же?
– О моей сестре, – ответил Эрдн Ульвар. – Она умерла.
Льоусвикинг не знал, что сказать другу, и некоторое время они шли молча, потом его друг заговорил снова:
– Да-а. Вот уже три месяца, как она умерла. В самом начале апреля. Мы здесь привыкли говорить: «Весной, когда начнет светить солнце, все пройдет». А вот она умерла. Последние стихи, что я написал, были три сонета. У моей сестры были солнечные локоны, как в стихотворении, и голубые глаза, которые верили, надеялись и любили. Солнечные локоны… я думал, что нам удастся сберечь хотя бы ее, все мои остальные братья и сестры умерли. Но вот не удалось. Я коснулся ее щеки в то утро, когда она лежала в гробу, в день похорон. И руки тоже. Смерть – это одно из немногого, во что трудно поверить, может быть, единственное. Не знаю, прикасался ли ты когда-нибудь к покойнику? Не знаю, знаком ли тебе звук, с которым первый ком земли ударяется о крышку гроба? Теперь мне все безразлично. Я знаю только одно: я уже никогда не буду писать стихов. Я знаю, что я тоже умру от чахотки. Но это не имеет значения. Я ничего больше не боюсь. Но и красоты для меня тоже больше не существует.
Так они бродили вдвоем всю ночь, хотя ночи вовсе и не было, а была лишь какая-то призрачность, мгновение восторга, белый туман кое-где, словно земля стремилась раствориться, растаять, но она не растаяла и туман исчез, и вот уже самые высокие вершины вспыхнули ярким багрянцем и тысячи сверкающих на солнце птиц закружились над спокойной позолоченной гладью моря. А друзья все продолжали разговаривать. Оулавюр Каурасон не замечал, что время идет, он слышал лишь этот голос с его серебристо-золотистым звоном; если человек потерял то, что любил сильнее всего на свете, он может больше не писать стихов, в звуке его голоса будет звучать поэзия всей человеческой жизни. Каким нищим чувствовал себя Льоусвикинг только потому, что он не потерял ничего, вернее, потому, что у него никогда не было ничего, что можно было бы потерять!
– Если уж ты разорвал все свои стихи, то мои стихи, я уверен, не имеют никакой ценности, – сказал Льоусвикинг. – Я даже сонета не умею сочинить.
– Мы с тобой – две разные судьбы, – сказал Эрдн Ульвар. – Я живу, слыша лишь тот особенный глухой звук, с каким первый ком земли ударяется о крышку гроба. А тебя, скальд, воскресили из мертвых.
– Когда мне приходилось совсем плохо, – сказал Льоусвикинг, – я всегда старался задержать глаз на чем-нибудь прекрасном и добром и забыть все дурное.
– Я не признаю ничего прекрасного, пока жизнь от начала до конца представляет собой одно сплошное преступление, – сказал Эрдн Ульвар. – Если бы я изменил своим убеждениям, я считал бы себя последним негодяем.
– Ты обвиняешь Бога? – спросил Льоусвикинг.
– Если ты можешь доказать мне, что это Бог виноват в том, что у отца с матерью никогда не было возможности покупать нам молоко, когда мы были маленькие, что это Бог постарался, чтобы у нас по полгода не было ни крошки хлеба, что это Богу было угодно, чтобы мы не имели топлива, чтобы натопить в стужу свою лачугу, если это Бог пожелал, чтобы у нас не было теплой одежды, если это Богу нужно было, чтобы мы, ребятишки, не могли отделаться от насморка и бронхита ни зимой, ни летом, тогда – да, я обвиняю Бога. Но если хочешь знать правду, я не верю, что ты сможешь доказать мне, будто нашим поселком правит Бог.
– То же самое говорит и Бродяжка Хатла, – задумчиво сказал Оулавюр Каурасон Льоусвикинг.
Глава двенадцатая
В глазах своего кроткого друга Эрдн Ульвар был скалой, о которую должна разбиться несправедливость этого мира, воплощением могучей, прекрасной и грозной воли. Взгляд Эрдна Ульвара на жизнь не менялся в зависимости от того, светит ли солнце или наступает ночь, его мировоззрение не могло поколебать ничто, его мысль держала чувства в строгих рамках, а не была маятником, приводимым в движение чувствами. А Оулавюр Каурасон был подобен воде, просачивающейся где только можно, но не имеющей определенного русла.
Преклонение перед другом и жажда общения с ним стали новым душевным состоянием скальда, а вместе с тем появилось и опасение, что он не оправдает надежд, возлагаемых на него другом, и болезненное сознание, что в чем-то он неровня другу, и страх, что друг начнет презирать его, поскольку у него ни в чем нет никаких заслуг. Если между их встречами проходило больше одного дня, скальд терял последнюю надежду и думал: «Больше Эрдн не хочет меня видеть». Он выходит из дому, объятый смутным нетерпением, но, заметив, что держит путь к дому друга, тут же поворачивает назад. Очутившись же в конце концов перед жалкой лачугой, именуемой Скьоулом, он пытается убедить себя в том, что это случайность. Скальд стоит у калитки, едва доходящей ему до колена, и оглядывается смущенно, словно чужой, который заблудился и вышел не туда, куда нужно.
– Хорошая погода, – говорит хозяин Скьоула, он теперь слишком слаб, чтобы таскать камни, и все дни копается на своем огородике.
Оулавюр Каурасон поддакивает, не в силах оторвать взгляд от этого человека. Ему как-то чудно, что это отец его друга.
– Такая благодать, – говорит старик, удивленно покачивая головой.
– Да, просто не верится, – соглашается скальд.
– Вчера вечером казалось, что соберутся тучи и подует ветер с моря, а погода между тем прекрасная.
– Да, странно. – Скальд тоже не понимает, почему стоит такая прекрасная погода.
Эрдн Ульвар выходит из дома босиком, в одной рубашке и брюках, он расчесывает пятерней волосы, опустив уголки рта в высокомерной усмешке, хмурит брови и смотрит на море зорким взглядом моряка, его лицо никак не вяжется с тем, что его окружает. Стоя лицом к лицу со своим другом, Льоусвикинг вспоминает слова Хоульмфридур, он невольно спрашивает себя, неужели таким вот людям суждено стать пьяницами потому, что они не способны быть преступниками, и потому, что нынешняя жизнь слишком мелка, чтобы создавать героев?
Из дома раздается голос матери:
– Как тебе не стыдно! Сейчас же надень ботинки и застегни на шее рубашку!
Он не отвечает, но пожимает плечами, усмехается и морщится.
Мать появляется в дверях.
– Я не хочу, чтобы ты ходил босиком и с голой шеей, сынок. Что скажут люди?
Эрдн отвечает низким голосом:
– Ноги мои, и шея тоже
Мать:
– Ты ведь знаешь, у тебя слабая грудь, сынок.
О, этот сын красоты, отрицающий красоту! Нельзя представить себе человека, который был бы более чужд покосившейся лачуге, где на всем – и на живом и на мертвом – лежит зловещее клеймо ужасающей бедности. Лучше он будет ходить босиком, чем осквернит свои ноги стоптанными башмаками, лучше он будет ходить с голой шеей, чем прикроет ее лохмотьями.
Шел час за часом, а друзья все сидели на прибрежных скалах у подножья горы, повернувшись спиной к поселку, и Эрдн рассказывал Льоусвикингу, как живут эти люди, ждущие, чтобы их продали и купили. Не успели друзья оглянуться, как наступила глубокая ночь, а Эрдн все говорил. Он вникал в самые мелкие подробности. И наконец его повествование точно слилось с безграничностью летней ночи – так обстоятельно, так спокойно умел рассказывать Эрдн, но в его голосе всегда звучало нечто, напоминавшее о неистовом шуме зимнего прибоя. Судьбы безымянных людей, унылые и бесцветные, людей, которые были ничем и не имели в этом мире собственного лица, неожиданно приобретали окраску, мало-помалу возникали в звуках, переставали быть чужими, они взывали к человеку, и уже нельзя было скрыться от них, человек должен был слушать, человек должен был отвечать, человек должен был даже защищаться, человек не успевал опомниться, как эти чужие судьбы уже проникали в его кровь.
Молодая девушка идет по дороге навстречу скальду и смотрит на него, и в ее белесых стеклянистых глазах солнце играет красными и зелеными искорками. Да, она узнала его. Она останавливается перед ним и улыбается.
– Испугался?
– Нет, – ответил он. – Здравствуй!
– Ты хотел пройти мимо, не заметив меня?
– Нет.
– Я знаю, хотел, – сказала она. – И тебе не стыдно?
Тогда он сказал торжественно:
– Тоурунн, если бы я и мог кого-то не заметить, так только не тебя. Я обязан тебе жизнью.
Она смотрит на него многозначительным взглядом, совсем как тогда, сначала на его волосы, потом на руки, потом в глаза и, наконец, мимо него, куда-то в сторону; поглощенная своими мыслями, она напевает новую мелодию, и, хотя она не смотрит прямо на него, он прекрасно чувствует, что она ни на секунду не выпускает его из виду, и у него начинает учащенно биться сердце, и он немного боится, ибо ему вдруг приходит в голову, что она хочет снова отнять у него здоровье.
– Я слышала, будто ты тут каждому стараешься угодить, – сказала она.
– Ты прекрасно знаешь, Тоурунн, как я благодарен тебе, – сказал он, хотя, по правде говоря, он уже не чувствовал почти ничего общего с тем человеком, если только его можно назвать человеком, которого привезли на носилках через горы к этой неестественно белесой девушке со стеклянистыми глазами, чтобы он принял из ее рук жизнь.
– А почему ты так смотришь на меня? – спросила она. – И даже не подал мне руки? Конечно, ты боишься.
Почему она все время говорит, что он боится: может, у нее что-то недоброе на уме? Уж не хочет ли она отнять у него здоровье? Он протянул ей руку.
– Я не узнаю тебя, ты стал другим человеком, – сказала она и искоса взглянула на него своими холодными светлыми глазами. – Глупо, когда человек расшибается в лепешку ради постороннего. Даже если ты воскресишь постороннего из мертвых, он забудет тебя через неделю. Встретит на дороге и не узнает.
– Но ведь ты получаешь золотые монеты со всех концов страны за то, что лечишь людей!
– Замолчи! – сказала она.
Он замолчал. Новая мелодия, которую она напевала, была не так безмятежна, как прежний вальс, и не так красива, скальду было неприятно, что она поет во время разговора с ним.
– Почему ты не хочешь немного пройтись со мной? – спросила она. – Ведь я подарила тебе жизнь.
А когда они пошли, уронила:
– Все-таки ты чудной!
Он не ответил.
– Почему ты ничего не говоришь? – спросила она.
– Ты велела мне молчать, – ответил он.
– Я имела в виду совсем другое.
– Что же я должен говорить?
– Что хочешь, – сказала она, – скажи мне, что хочешь, просто потому, что я – это я. И потому, что ты скальд. Скажи, что хочешь, лишь бы я вновь обрела самое себя, ведь ты скальд.
– О чем ты?
Она, задумавшись, пропела отрывок мелодии. Вдруг она неожиданно сказала:
– Нам пришлось уехать с хутора. Нечем было платить. Вчера нас выгнали.
– Не может быть!
– Когда человеку нечем платить, его выбрасывают на улицу.
– А Фридрик не мог тебе помочь? – спросил он простодушно.
Она остановилась, потом вдруг ударила его по лицу и гневно сказала:
– Как тебе не стыдно!
Он схватился за щеку, хотя ему было не очень больно, и спросил:
– За что ты меня ударила?
Ее губы искривила такая ненависть и такое страдание, что ему стало страшно.
– И эта насмешка – вся благодарность за то, что я попросила Фридрика вернуть тебя к жизни, когда ты был мертвее любого покойника? – спросила она.
– Тоурунн, я благодарен тебе от всего сердца, от всей души, от всего…
– А-а, заткнись ты! – сказала она.
Дальше они шли молча, она даже перестала напевать. Вдруг она положила руку ему на плечо и попросила искренне, по-детски, глядя ему прямо в лицо и чуть не плача:
– Оулавюр, если тебе дорога правда, признайся мне в одном!
– В чем? – спросил он.
– Ты действительно веришь в то, что я тебя исцелила? Скажи мне правду! Только одно слово, «да» или «нет»! Только один-единственный раз! Больше я никогда не буду просить тебя об этом. Больше тебе никогда не придется этого повторять.
– А что такое правда? – спросил он.
– Так я и знала, ах ты, изверг проклятый! – сказала она. – Проклятый изверг!
– Меня привезли к тебе на носилках, я нес тогда крест страданий всего человечества, а покинул я тебя как победитель жизни, – сказал он.
– Я не понимаю поэзии, – сказала она. – Я спрашиваю только: да или нет?
– Да, – сказал он.
– В таком случае заплати мне десять крон, – сказала она.
Он страшно растерялся от столь неожиданного требования и покраснел до корней волос.
– Знаешь, Тоурунн, у меня никогда в жизни не было ни одного эйрира. Мне даже ни разу не представлялась возможность заработать десять крон. Ведь тебе известно, что последние два года я вообще не в состоянии был работать. Но если я смогу все лето проработать поденно в Товариществе по Экономическому Возрождению, я надеюсь к осени заработать немного денег.
– Работать, работать, слушать тебя тошно, – сказала она. – Если ты не достанешь мне сейчас же десять крон, я тебя за мужчину считать не буду.
– Как же я могу их достать, Тоурунн? Ведь сначала человек должен поработать, а уже потом он получит вознаграждение.
– Господи, что за дурак! Неужели ты думаешь, что тебе что-то заплатят за твою работу? Неужели ты думаешь, что я сама не понимаю, что значит работать? Работа – это же просто глупость!
– И все-таки это единственный способ получить деньги, – сказал он.
– Ничего подобного, – возразила она. – Работа только учит ненавидеть тех, кто не работает, иначе говоря, тех, у кого есть деньги. Работать – это значит ненавидеть. Работать – это значит подыхать от скуки. Работать – это значит не иметь пищи, не иметь денег, чтобы расплатиться с долгами, это значит быть выгнанным с хутора, быть выброшенным из дому. Ты круглый дурак.
– Да, – сказал скальд. – Я глуп, это правда. Но когда я был маленький, меня пороли розгами, если я пытался увильнуть от работы. А когда я говорил то, что думаю, меня оставляли без ужина и грозили, что я попаду в ад. Вполне возможно, что мне не хватает свободы, чтобы видеть правду и тем более говорить о ней, если я ее и вижу. Человек не виноват, что он воспитан так, а не иначе, Тоурунн. Ты прекрасно знаешь, чем я был всего две недели назад, когда ты вернула меня к жизни.
– Тот, кто хоть немного ценит свою жизнь, всегда сможет раздобыть десятку, каким бы нищим он ни был, – сказала она. – Мне нужны десять крон. От тебя.
– Тоурунн, – взмолился он, – что мне делать?
– Я снова напущу на тебя болезнь, если ты не принесешь мне десять крон, – сказала она.
У него подкосились колени, глаза застлало белой пеленой и на лбу выступил пот. Эта встреча превращалась в страшный сон, в кошмар. Рано или поздно он должен был все-таки поплатиться за то, что изменил Создателю и Иисусу Христу, как он и опасался там, в горах, когда впервые услышал о Фридрике и Тоурунн. И вот пробил час расплаты, его жизнь и здоровье находились в руках неумолимых таинственных сил, эта колдунья могла свалить его с ног в любую минуту…
– Смотрите-ка, сюда идет девица, что водит дружбу с духами, под ручку с обыкновенным парнем, ха-ха-ха!
Скальд очнулся от своего отчаяния в нескольких шагах от Фаграбрехки, в дверях дома стояла Вегмей и потешалась над ними.








