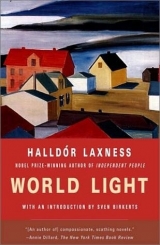
Текст книги "Свет мира"
Автор книги: Халлдор Лакснесс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 46 страниц)
Тоурунн из Камбара закрыла г паза, откинула голову назад, прижала руки к груди и шепотом повторила:
– А на его лепестках была золотая пыль.
Некоторое время она сидела в молчаливом восторге, закрыв глаза и прижав руки к груди, наконец она снова открыла глаза, взглянула на юношу и сказала:
– Подожди немного, дружочек, я пойду и поговорю с ним.
И вот он лежит один в комнате напротив чудной фарфоровой собачки, и, пока таинственные силы совещаются, жизнь его покоится на чаше весов, а из кухни доносится аромат горячих блинчиков и веселый смех.
Через минуту Тоурунн вернулась, неся поднос с дымящимися блинчиками и большую бутылку, на донышке которой было немного лекарства. Ни кофе, ни молока она не принесла. Она осторожно поставила поднос на стол, посмотрела на юношу со своей многозначительной улыбкой, блеснув глазами – этот блеск напомнил ему отражение света в стекле, – и уверенно сказала:
– Больше тебе нечего бояться, твои носилки останутся здесь. Фридрик считает, что ему нет необходимости приходить самому. Он велел тебе выпить это лекарство. И передал мне для тебя токи.
Она взяла большую бутылку с лекарством, наклонила ее осторожно и начала капать в чайную ложку, тщательно отсчитывая капли, на бутылке была наклеена бумажка, а на бумажке большими печатными буквами было написано: «Борная кислота».
Потом Тоурунн с улыбкой подошла к нему и дала ему выпить лекарство.
– Теперь ложись, сейчас начнет действовать лекарство, – сказала она, – а потом получишь токи.
Не успел он выпить, как уже почувствовал действие лекарства. Оно дало ему неведомые раньше силы, которые волнами прокатились по его телу от самых глубин сердца до нервных окончаний кожи и наполнили его душу необычайной радостью. А девушка уже сидела рядом с ним, закрыв глаза, откинув назад голову и положив кончики пальцев ему на виски. С каждым мгновением ему становилось легче и легче, чужая неведомая сила входила в его земную оболочку и заставляла ее светиться.
– Чувствуешь токи? – спросила Тоурунн из Камбара, и ее пальцы дрогнули у него на висках. – Вот они появляются. Чувствуешь дрожь?
Оулавюр ясно ощущал трепет, исходивший от ее дрожавших пальцев, он становился все сильнее и сильнее, пока наконец ее всю не начала бить дрожь и руки не перестали ей повиноваться. Вскоре эта дрожь передалась и юноше, и вот уже их обоих с головы до ног, словно листок на ветру, била дрожь, какая-то сила приковала их друг к другу. На мгновение ему показалось, что они уже никогда не смогут разъединиться, разум юноши мутился все больше и больше и грозил совсем раствориться в этой бессмысленной дрожи.
Когда юноша пришел в себя, токи исчезли, дрожь прекратилась, а Тоурунн стояла перед ним и в страхе звала его по имени; к счастью, он не умер, только ненадолго потерял сознание. Она покропила его лоб своим чудодейственным лекарством.
– Ну вот, – сказала она, – все уже позади. А теперь ешь блинчики.
Никогда в жизни, ни раньше, ни потом, он не ел ничего, что могло хотя бы отдаленно сравниться с этими блинчиками. Он глотал эти шедевры кулинарного искусства один за другим, а Тоурунн из Камбара сидела рядом и смотрела, как он ест. Время от времени она проводила ладонью по его рыжим волосам, напоминавшим цветок, покрытый золотой пылью. Когда блинчики были съедены, она протянула ему руку и сказала:
– А теперь мы с тобой выйдем в весеннюю ночь. Она взяла его под руку, они вместе поднялись, и плечо к плечу вышли из дома, и пошли по крыльцу, по двору, по лугу.
Ночь, светло-голубая и прохладная, была подернута прозрачной дымкой, совсем как глаза Тоурунн, легкие облака горели на востоке, мирно паслись на лугу овцы, дремали собаки, туман застилал низины, подбираясь к подножью гор и расстилаясь вдоль всего хребта; белый фьорд в легкой ряби, ласточки. Тоурунн и Оулавюр стояли на лугу среди белых овец и смотрели вдаль, и сами они были почти воздушные, и действительность перестала существовать, и остались только дурманящие чары весенней ночи, ни явь, ни сон, царящие над всем миром, над сознанием.
Он спрятал лицо у нее на груди.
– Господи, – прошептал он, снова услышав звуки божественного откровения. – Я этого не стою!
Она ласково погладила его золотистые волосы.
– Господи, – простонал он. – Я всегда знал, что так будет.
Он чувствовал себя так, как будто долго-долго блуждал у самого истока жизни, и он знал, что больше ему нечего бояться во веки веков.
Глава двадцать пятая
Утром хозяйка накормила их холодными блинчиками, дочери ее еще спали. В благодарность за ночлег они оставили хозяевам носилки и отправились в путь. День был такой же погожий, как и накануне. Когда в Исландии выдаются подряд два погожих дня, кажется, что все жизненные невзгоды кончились раз и навсегда. Воздух был насыщен запахом земли и моря. В гомоне морских птиц звучала нескончаемая любовная песня, В солнечных лучах таилось тихое материнское счастье забытья. Казалось, никогда не завянет ни буйная зелень лугов, ни скромная болотная трава. Море было так спокойно и зеркально, что немыслимо было даже представить себе, что оно может когда нибудь разбушеваться, что чистая ласковая синева небес снова станет ареной безжалостных бурь.
Они не спешили и не подгоняли лошадей. Это были вьючные рабочие клячи, нанятые в поселке. Скальд Реймар был сегодня уже не в таком приподнятом настроении и предпочитал помалкивать. Юноша очень удивлялся, что, такой разговорчивый вчера, сегодня он и словом не обмолвился насчет молниеносного исцеления борной кислотой и чудесными токами. Они ехали вдоль берега, где гнездилось множество морских ласточек, и этого скальда, ничего не понимавшего в вопросах духа, сверхъестественное удивляло не больше, чем если бы морская ласточка наделала ему на голову.
Но с юношей все обстояло иначе. Мысли его неустанно возвращались к блаженным воспоминаниям той ночи, когда голова его покоилась на груди этой неземной молодой женщины и он пил ее живительную колдовскую силу. Этой женщине было суждено стать его жизнью и правдой, источником здоровья и воскресения из мертвых. Знакомство с ней было радостью, как цветение, разлука была прекрасна, как неизлечимая тоска.
И было совсем непонятно, что он в это дивное раннее летнее утро после такой неправдоподобной ночи не мог вызвать в памяти ее образ. Даже руки ее не сохранились у него в памяти, хотя они умели творить чудеса. Ее образ казался ему лишь неясным видением, причудливой игрой света в прозрачном сосуде белой весенней ночи.
– Не понимаю почему, но я не могу вспомнить, как выглядели девушки из Камбара, – сказал он.
– А мне так совершенно безразлично, как эти чертовки выглядят, – ответил скальд Реймар. – Старшая известная шлюха, у нее уже есть двухлетний сопляк, средняя – парням проходу не дает, ну а третья – та попросту ведьма, если хочешь знать правду, и я точно знаю, что с шестью парнями она спала, а сколько у нее было еще, это уж неизвестно.
Оулавюр Каурасон обалдело поглядел на своего провожатого, открыл рот и снова закрыл его.
– Уж кто-кто, а я Тоту из Камбара знаю как облупленную;– продолжал Реймар. – Пусть себе летает по ночам на своем помеле. Ведьмы меня не интересуют.
Но, к счастью, Оулавюр вспомнил, что ночью он обещал Тоурунн из Камбара не верить ни одному слову из того, что этот скальд будет говорить о ней, и теперь уже никакая тень не могла омрачить то лучистое прозрачное воспоминание о девушке, которое он хранил в своей душе.
Нет, нет, нет, ничто не могло омрачить радость этого дня. Но чудеснее всего была появившаяся у него твердая уверенность в том, что он станет великим творцом и обогатит, подобно Сигурдуру Брейдфьорду, бессмертными творениями как рожденные, так и не рожденные еще поколения. Отныне ему не придется больше вымаливать со слезами у Бога, чтобы Бог продлил его жизнь, пока он не закончит начатое стихотворение. Теперь он был совершенно здоров и полон сил и мог писать поэму за поэмой для народа, который все еще ждет великих творений; теперь, если потребовалось бы, он мог бы написать даже историю целой округи со времен первых поселенцев и до наших дней.
Но скальд Реймар, хотя у него в Свидинсвике была жена и шестеро детей, сегодня ни капельки не спешил, он нарочно выбирал дорогу подлиннее. «Помаленьку доплетемся», – говорил он, останавливаясь на всех хуторах, которые попадались им на пути, чтобы побеседовать с умными людьми. Младшему скальду было немного досадно, что старший ни словом не обмолвился о том, что везет с собой человека, исцеленного вчера вечером с помощью чуда, и вообще даже не упомянул об их ночлеге в Камбаре, сказав лишь, что они переночевали на одном хуторе.
– А теперь давай заглянем в лачугу старого Гвюдмундура и поглядим на его монету, – предложил скальд Реймар.
Дверь покосившейся избушки Гвюдмундура Гримссона Груннвикинга смотрела на каменистый берег моря, над ней большими буквами было высечено название жилища богов: Гимли. Три морщинистые старухи в темных лохмотьях и платках, сдвинутых на самый нос, наперебой спрашивали приезжих, для кого на этот раз надо сочинить поминальное стихотворение, прибавляя при том, что приходскому совету в Свидинсвике давно уже пора провалиться к черту. Скальд Реймар сострил, сказав, что, к сожалению, привез не покойника, а человека, который лишь вчера был воскрешен из мертвых, и попросил разрешения войти в дом, но без разрешения хозяина старухи отказались их впустить, поскольку никто не умер и на приезде гостей нельзя было заработать; они пообещали узнать у хозяина и одна за другой скрылись в доме. Гости остались у дверей одни, глядя на крутую, нависшую над самым домом скалу, изборожденную глубокими трещинами, трещин было не меньше двадцати, а узкая полоска земли между скалой и морем существовала лишь в воображении, на самом деле ее вовсе и не было.
– Удивительно, что снежная лавина не смела в море эту жалкую развалину еще много лет назад, – заметил скальд Реймар. – Да и скалы, которые постоянно рушатся, могли давно стереть ее в порошок. Смотри, как гладко вылизал прибой валуны под крыльцом. А старик сидит себе спокойно за своим столом над растрепанными книгами вот уже пятьдесят лет.
Но Оулавюру Каурасону Льоусвикингу вовсе не казалось удивительным, что дом уцелел, ибо он, сам только вчера чудесным образом исцелившийся от неизлечимой болезни, был твердо уверен, что боги, живущие в небесном дворце, имя которого высечено над этой дверью, оказывают особое покровительство исландской литературе и когда-нибудь в один прекрасный день еще освободят мир.
Гвюдмундур Гримссон Груннвикинг сидел в своем доме, окруженный стеной книг, его лицо с великолепным выпуклым лбом, густыми бровями, выдающимися скулами, орлиным носом и поджатыми губами возвышалось над грудами книг, оно внушало страх, казалось, будто это крутая, покрытая трещинами скала, нависшая нал берегом самого дальнего северного моря, превратилась вдруг в человеческое лицо. Его книги были очень древние, одни в деревянных обтянутых кожей переплетах с медными застежками, другие в переплетах из дубленой кожи, перевязанные узенькими сыромятными ремешками или сухожилиями, множество книг было заперто в сундуках, обитых тюленьей кожей. Когда гости попросили разрешения взглянуть на его книги, хозяин ответил, что никому не разрешается глядеть на его книги, что это значит – «взглянуть на них»? В них хранятся многие века исландской истории, целая человеческая жизнь, не менее восьми десятков лет, пошла на то, чтобы вжиться в литературу Исландии лишь затем, чтобы убедиться, как мало можно ее узнать, не говоря уж о том, чтобы понять.
Поскольку хозяин не пожелал допустить их к книгам. Реймар спросил, не покажет ли он им золотую монету, полученную им из-за границы, и не расскажет ли ее историю.
Хозяин сказал, что им написано двести тридцать книг. Здесь, на родине, его никогда не ценили, во-первых, потому, что он всегда был противником современной культуры, и, во-вторых, потому, что он за всю жизнь не написал ни одного слова ради того, чтобы завоевать популярность, писал лишь для собственного удовольствия и для того, чтобы спасти от забвения некоторые плоды ученой мудрости и кое-какие поэтические сочинения. Но однажды шутки ради он составил описание гасконского языка, на котором говорили в Пиринеях двести лет тому назад, он написал эту книгу, используя записи, оставленные одним старым пастором, у которого в доме целую зиму жили гасконцы, потерпевшие кораблекрушение, это было не в прошлом, а еще в позапрошлом столетии. Окружной судья купил у него эту книгу и переслал ее в Копенгаген, откуда она, в свою очередь, была послана во Францию и там уже напечатана; какой-то всемирно известный ученый написал о ней докторскую диссертацию, а Французская академия наук наградила Гвюдмундура Гримссона Груннвикинга почетной золотой медалью. Так он, работая в свободное время ради удовольствия и даже не думая о награде, спас ценности чужой страны. Он расстегнул кожаную куртку, засунул руку за пазуху и вытащил медаль. На одной стороне медали была изображена богиня мудрости Минерва, в которую верят во Франции, а на другой – надпись по-латыни. Оулавюр Каурасон часто слышал разговоры о золоте, он мечтал о нем и даже упоминал о нем в своих стихах, но увидел он золото в первый раз. Блеск золота блаженно ослепил его, загипнотизировал своей тайной, лишил дара слова, он никогда не подозревал, что золото так красиво, ему хотелось, чтобы эта минута длилась вечно. Но она кончилась. Старик снова спрятал медаль на груди, так и не дав никому к ней прикоснуться, и посиневшими пальцами застегнул куртку. Юноше казалось, что старик с каждой минутой становится выше ростом.
Гвюдмундур Гримссон Груннвикинг достиг уже того возраста, когда знакомство с новыми людьми больше ничего не давало ему, он уже давным-давно устал беседовать с новыми людьми о своих книгах, эти люди были всего лишь повторением тысячи других людей, которых он знал прежде, и почти все они говорили одно и то же о книгах, составлявших его жизнь вот уж тысячу лет. Вполне возможно, что в молодости он был самым человечным из всех людей, скорей всего так и было, и никто не мог знать, каких друзей он вспоминает, когда по ночам у него капает вода с потолка, капля за каплей, капля за каплей. Он уже давным-давно перестал быть человеком, он был голосом столетий, писателем, которого никакие угрозы стихии не могли заставить отложить книгу и перо, его величественное лицо было лицом самой непобедимой Исландии. И в эту минуту Оулавюр Каурасон понял, что счастье увидеть это лицо – заслуженная награда за все его страдания. Недуги тела и души, голод, побои, клевета, наговоры, непонимание, ложь, предательство – все это суета.
Когда гости снова очутились под открытым небом, юноша был так слаб и так дрожал, что скальду Реймару показалось, будто он опять заболел. Но он не заболел, просто он увидел величайшего мастера и мудреца, какой только жил когда-либо в северных странах.
– Теперь мы оставим наших кляч там, где я их взял. – сказал Реймар, – и на лодке поплывем в Свидинсвик.
Когда они отплыли, луга на берегу, скалы и зеркальная гладь фьорда были багряными от вечерней зари. Двое незнакомых парней сидели на веслах, скальд Реймар рулем, Оулавюр Каурасон Льоусвикинг сидел рядом, юноша смотрел, как чудесные лучи заката преломляются в белой, будто молоко, поверхности, он был полон надежд и отваги, словно первый житель Исландии, прибывший сюда на заре веков и еще не обремененный никаким жизненным опытом. Фьорд был широкий, и до противоположного берега было далеко. Юноше казалось, что он умер, пробудился для вечной жизни и теперь плывет навстречу незнакомому царству. Солнце зашло, белый туман заполнил долины и пополз по зеленым склонам. Казалось, будто земля растворяется в головокружительном волшебном видении, все слилось воедино, небеса опустились, земля поднялась, и над всем сиял сказочный блеск бесконечно далекого будущего, а может быть, и прошедшего, какой-то неведомой эпохи. Даже люди, сидевшие перед юношей в лодке, казались растворившимися в переливчатом сине-желтом мерцании. Их ритмичные взмахи подчинялись законам иной сферы, законам высшего мореходства. Берег скрылся в тумане, только высоко-высоко виднелись уступы гор, похожие на замок троллей, покинутый всеми и не имеющий больше к людям никакого отношения.
Понемногу приближались к противоположному берегу. Теперь засверкали замки этого неизвестного царства, протянувшегося вдоль берега моря. Юноша долго смотрел на замки, сверкавшие сквозь легкую пелену тумана, не смея поверить глазам. Наконец у него не осталось больше сомнений. Все эти замки были сделаны из чистого золота, они сверкали так же, как и медаль мудреца. Юный скальд с восторгом смотрел, как это золото пламенеет в лучах заката сквозь белую дымку весенней ночи. А лодка двигалась вперед, к неведомому.
На пути в Южную Америку, осень 1936 г.
Часть вторая. Замок в Царстве Лета
Глава первая
Когда утром юноша проснулся, над ним стоял старик и бил его палкой.
– Я не хочу, чтобы скотина топтала мой луг, – бормотал он.
Но старик был слишком слаб, и его удары не причиняли боли.
Стены в комнате были обиты деревянными панелями, потолок скошен, у одной стены стояла небольшая плита, от плиты до середины комнаты шла невысокая перегородка, напоминавшая перегородку в хлеве.
– Это мой луг, – злобно говорил старик, продолжая бить юношу палкой.
Спросонок юноша совсем забыл, что исцелился благодаря чуду и теперь совершенно здоров; ему показалось, что мучительные недуги продолжают терзать его, и он привычным жалобным тоном объяснил старику, что уже очень давно не встает с постели из-за невыносимых болей.
У стены напротив сидел в кровати голый человек, он был толстый и румяный, но щеки у него обвисли, из уголка рта текла слюна, он беспрерывно повторял: «Вавва-вавва».
– Дай я пожму тебе руку, – сказал юноша, протягивая старику руку в надежде, что тот перестанет его бить и поведет себя более мирно. Но старик оказался не склонным к доброте, и он был выше бесполезной вежливости.
– Это мой луг. Мой! Мы с государственным советником ровесники, все это вранье, не крал он никакого масла. Я не позволю, чтобы скотину пускали на мой луг, гони ее сейчас же прочь! – кричал он, вовсе не собираясь протягивать кому бы то ни было руку ни в знак приветствия, ни в знак примирения. У него была жиденькая всклокоченная бородка, один глаз закрыт, другой – открыт. В открытом глазу светилось какое-то странное беспокойство, приведшее юношу в замешательство. Правая рука у старика была высохшая. Наконец старик устал бить юношу, проковылял к своей постели и уселся на нее.
Юноше хотелось понравиться всем обитателям своего нового дома и жить с ними в мире и согласии, он не пал духом, потерпев неудачу со стариком, и, поклонившись, вежливо поздоровался с толстым голым мужчиной, который сидел на кровати напротив, похожий на большого волосатого младенца, и таращил глаза на ночного гостя, не прерывая своего однообразного монолога: «Вавва-вавва». Но когда гость сказал ему «добрый день», голый мужчина так удивился, что даже забыл произнести «вавва-вавва».
– Добрый день, – повторил юноша громче, давая понять, что он говорит серьезно.
Наступило непродолжительное молчание, потом голый толстяк не выдержал и, захлебываясь, начал хихикать.
– Это Йоун Эйнарссон, язычник, – объяснил старик. – Не обращай на него внимания, он даже не умеет креститься, а ты беги сейчас же и прогони скотину с моего луга.
Косой потолок почернел от сырости, на нем белели пятна плесени, напоминавшие пролитую простоквашу. Воздух в комнате был спертый.
– Сейчас я попытаюсь подняться, – сказал юноша и попробовал встать на ноги. Но он так вырос за последние два года, что ему трудно было рассчитать свои движения, к тому же он отвык двигать руками и ногами и забыл, как одеваются. А старик продолжал ворчать, что на его лугу полно скотины.
Наконец юноша выбрался из постели. Он взглянул в окно: дорога, напротив маленький домик с торфяной крышей и дощатым фасадом, дверь домика открыта, к косяку прислонилась девушка, кругом небольшие домишки, крохотные огородики и большой луг, поднимающийся вверх по склону.
– Который тут твой луг? – спросил юноша.
– Все луга мои, и этот большой – тоже, никто не смеет гонять скотину на мой луг, – сказал старик. – Я конфирмовался вместе с государственным советником.
– Что? – не понял юноша.
– Луг, – ответил старик. – Мои луга.
– Вавва-вавва, – теперь уже громко сказал язычник, ему тоже хотелось принять участие в разговоре.
– Но там на лугу не видно никакой скотины, – сказал юноша.
– Я буду жаловаться окружному судье, – пригрозил старик.
– Но ведь там нет никакой скотины! – Юноша повысил голос. – Тебе только кажется, что ты видишь овец, там нет никаких овец. Весь луг усеян лютиками.
– Выгони их сейчас же, – сказал старик. – Мы с государственным советником…
– Да это же лютики! – закричал юноша, заподозрив, что старик не только слеп, но и глух.
– Вавва-вавва, – заревел язычник, который пришел в сильное возбуждение и жаждал вмешаться в спор.
Казалось, чем дольше эти люди будут разговаривать, тем труднее им будет понять друг друга, но тут произошло нечто неожиданное, что прервало их беседу. За их спиной вдруг раздался хриплый истошный вопль, напоминавший рев дикого зверя. Не посвященный в тайны этого дома Оулавюр Каурасон испуганно вздрогнул. Обернувшись, он увидел чье-то лицо, выглядывавшее сбоку из-за перегородки, оно было бледное и изможденное, с черными волосами, черными глазами и черными зубами. Некоторое время это существо с бессмысленной злобой озирало комнату, издавая вопли один страшнее другого.
– Это ведьма, не обращай на нее внимания, – сказал старик, ему во что бы то ни стало хотелось продолжить разговор о своих лугах.
Но юноша не мог оторвать взгляда от жуткого существа, которое все больше и больше высовывалось из-за перегородки; сначала показались плечи этого существа, потом оно высунулось до половины, и наконец скорченная полунагая женщина целиком выползла на пол; юноше показалось, что она ползет прямо на него.
Но испугался не только Оулавюр Каурасон, язычник перестал хихикать и горячиться, он улегся в своей постели и жалобно захныкал. На одного лишь старика страшное создание не произвело никакого впечатления. В то время как Оулавюр Каурасон тоже счел за лучшее снова залезть в постель, старик встал и замахнулся палкой на скрюченное, ползущее на четвереньках человеческое существо. Счастлив тот, чья нога никогда не переступала порог этого дома.
Но не успел первый немощный удар старика обрушиться на ведьму, как дверь распахнулась и в комнату вошла старуха с впалыми щеками и острым, торчащим из-под платка носом, она держала в руках тарелку с жареной мелкой треской.
– Ах вы, мои бедняжки! – пронзительным визгливым голосом проговорила она, в ее голосе слышалась даже нежность, совсем как у хозяйки, зовущей кур. Старуха поставила тарелку с треской и подошла к ползущему созданию, но она и не думала его бить, а сказала только: «Золотко ты мое», – и заботливо помогла ему уползти обратно за перегородку и улечься там на полу. Лишь после этого язычник вновь осмелел, приподнялся на постели и опять завел свою однообразную речь. Понемногу воинственный пыл старика прошел, не выпуская палки, он уселся на край кровати и уставился на всех своим странным прищуренным глазом, горевшим старческой злобой. Оулавюр Каурасон снова поднялся с постели.
Тогда старуха обратилась к нему:
– Зачем ты встаешь, бедняжка ты мой? Тебе нельзя этого делать.
Юноша показал на старика и сказал, что тот велел ему прогнать скотину с его луга, а на лугу нет ничего, кроме лютиков.
– Вот-вот, на этом он и свихнулся, – сказала старуха. – Не обращай на него внимания. Ложись и укройся потеплее.
Но юноше вовсе не хотелось ложиться и укрываться потеплее, этим он был уже сыт по горло. Пусть Бог в свое время покарал его, но ведь он оказал ему и особую милость, уложив на два года в постель на хуторе у Подножья, жизнь там была такой блаженной и прекрасной, какой только может быть жизнь, а иногда она бывала даже великолепной и возвышенной. На хуторе у Подножья жили люди как люди. А здесь, в этом непостижимом доме, даже покойник восстал бы во гневе и ушел прочь.
– Я здоров, – заявил Оулавюр Каурасон Льоусвикинг.
– Нет, – ответила старуха своим визгливым голосом, – ты болен, и даже очень серьезно. В таких вещах приходский совет никогда не ошибается.
– Ей-богу, я здоров, – сказал юноша. – Меня исцелили сверхъестественным образом, с помощью чуда. Это сделал Фридрик, лекарь скрытых жителей.
– Да, дьяволу когда-то тоже была дана способность исцелять больных, – ответила старуха. – Но что толку быть исцеленным с помощью чуда? Ложись-ка быстрей да укройся, а то и опомниться не успеешь, как тебя снова свалит. Скоро я вам всем дам по чашечке кипяточку, бедняжки вы мои милые.
– Но ведь я могу стоять на ногах, – уверял юноша срывающимся от волнения голосом, чуть не плача, а старуха смотрела, как он стоит, и, очевидно, отказывалась верить собственным глазам.
– Да, – сказала она, – я перестаю понимать приходский совет. И вообще людей.
– Но я тут ни при чем, – виновато заметил юноша. – Никто не лежит в постели дольше, чем того хочет Создатель.
С минуту старуха безнадежно смотрела на стоявшего юношу, а потом занялась плитой.
– Вот уже три дня, как моего самого дорогого бедняжку унесли с той кровати, на которой ты спал в эту ночь, – сказала она нараспев жалобным голосом, похожим на свист ветра в сушильне для рыбы. – По правде говоря, с ним было много хлопот. Неудивительно, что я молила Господа послать мне вместо него бедняжку полегче, ну хотя бы такого, как мой благословенный язычник, а еще лучше такого, который пережил бы меня, а то уж сил моих нет смотреть, как они умирают один за другим. Так приходский совет взял да и прислал мне совершенно здорового человека.
– Но приходский совет ни в чем не виноват, – сказал юноша, готовый без устали защищать всех невиновных или несправедливо обиженных. Однако это не помогло, слова и извинения не действовали, старуха не желала прощать приходский совет, зато она попыталась мужественно отнестись к тому, что произошло.
– Я не жалуюсь, – сказала она. – Мои дети, которых Господь послал мне, здесь, со мной, что ж поделаешь, если теперь приходский совет прислал мне здорового человека. Все, кто страдает, мои дети. Мне всегда везло.
– Весь этот поселок принадлежит мне, – внезапно заявил старик и сердито погрозил левым кулаком.
– Конечно, милый Гисли, это твой поселок, – ласково сказала старуха и объяснила юноше: – Это старый Гисли, он крупный землевладелец.
– И весь тот луг на склоне принадлежит ему? – спросил юноша.
– Мы с государственным советником ровесники, – заявил крупный землевладелец Гисли. – Это мой луг там на склоне.
– Конечно, милый Гисли, – подтвердила старуха. – И тот луг тоже. Почему у тебя не может быть столько же земли, сколько у любого другого в этой местности, раз уж тут в поселке больше никому ничего не принадлежит?
– Как «никому ничего не принадлежит»? – удивился скальд.
– Да так, никому ничего. Здесь больше невозможно жить. Все пропало, когда государственный советник уехал отсюда. Товарищество по Экономическому Возрождению – это смерть.
Чем дольше они беседовали, тем больше возникало неясностей.
– Прости, что я тебя расспрашиваю, видишь ли, я так долго был прикован к постели, хотя теперь я, конечно, совершенно здоров, и мне так мало рассказывали, что я ничего не понимаю. Кто это – государственный советник? И почему он уехал? И что такое Товарищество по Экономическому Возрождению? И какая между ними разница?
– Разница? – переспросила старуха, удивляясь такой неосведомленности. – Разница между ними такая же, как между велюровой шляпой и лысиной. Что такое Товарищество по Экономическому Возрождению? Так это ж Пьетур Три Лошади, и этим все сказано. Государственный советник – вот это был человек, настоящий человек. Он был для нас все равно что Господь Бог, при нем никто не сидел на хлебе и воде, при нем в поселке было много молодых, веселых и дельных людей, еду, работу и кров он давал всем, он и деньги чеканил сам, при нем у всех денег было достаточно. Однажды к нам в поселок привезли даже мед. И самые счастливые, наверное, те, кто утонул на его судах, во всяком случае, они гораздо счастливее тех, кто остался в живых. Ты спрашиваешь, почему государственный советник уехал? Государственный советник уехал потому, что уже достаточно разбогател, это любому понятно, ведь у него ни перед кем в поселке не было никаких обязательств, а рыба ушла отсюда еще раньше. И какое имеет значение, где сейчас находится государственный советник, Бог его не оставит и вознаградит – так же, как он простит меня.
– Не думаю, что утонуть – такое уж большое счастье, – поразмыслив, сказал юноша.
– Я не желаю, чтобы на моих шхунах были крысы, – заявил крупный землевладелец Гисли.
Старуха назвала скальда бестолковым и продолжала твердить свое.
– Да, утонуть – это счастье! Утонуть – это легкая смерть, – говорила она. – Тот, кто потерял своих близких в море, должен благодарить Господа, это куда лучше, чем видеть, как молодежь мучается на суше; вот, например, у моей дочери прямо на глазах дети тают от чахотки. Я потеряла троих сыновей в море, это были здоровенные парни, настоящие викинги, и все же я никогда не была в числе тех, кто утверждал, что шхуны государственного советника текут больше, чем все остальные. Я хорошо помню, как про шхуну «Юлиана», которая принадлежала Товариществу по Экономическому Возрождению, все говорили, что она никогда не утонет, а она взяла да и утонула вместе с моим зятем Йоуном, дочь осталась одна с семью ребятишками. Нет, нет, мне повезло не меньше, чем любой другой женщине в нашем поселке, даже больше. Все обернулось к лучшему. Бог посылает мне троих, а иногда и четверых бедняжек взамен сыновей, которых я потеряла. Но тебя я не могу оставить здесь, раз ты в состоянии сам одеваться; приход обязан заботиться только о тех, кто совсем не встает с постели или, по крайней мере, хоть частично парализован.
– Большое тебе спасибо, – сказал скальд, у него перехватило горло, и он с трудом скрывал свою радость: Господи, ему можно отсюда уйти! Что бы там старуха ни говорила, что бы она ни называла счастьем, он слышал только один голос, кричавший в ужасе ему в уши: «Прочь, прочь отсюда!» Он вытащил из-под подушки свор узелок и протянул на прощанье старухе руку. Но попрощаться за руку с остальными обитателями этого дома у него не хватило духу. Прочь, прочь от этих лиц, от этой вони, прочь! Бывают такие видения, рядом с которыми даже самое страшное божество может показаться благообразным, не говоря уже о прекрасных богах, и эти видения могут захватить главное место в душе человека и всю жизнь жестоко тиранить его сознание; уродливые ужимки этих видений день и ночь будут маячить перед ним даже во время чудеснейших снов и, пока он жив, будут отравлять своей горькой злобой его самые благородные мысли. Прочь! Прочь! Юноша натыкался на стены и дверные косяки, словно бежал во сне, спасая свою жизнь.








