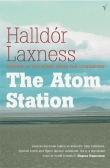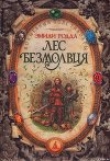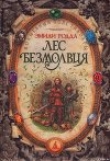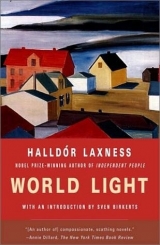
Текст книги "Свет мира"
Автор книги: Халлдор Лакснесс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 46 страниц)
Глава четырнадцатая
На прощание друг дал ему адрес гостиницы, которая гордо называлась «Горная королева», и сказал, что хозяйка этой гостиницы уроженка Свидинсвика. Вечером скальд брел по городу в поисках ночлега. Хорошо одетые, надменные молодые люди стояли группками на углах и критически оглядывали всех, кто проходил мимо. Когда появился Оулавюр Каурасон в своей сорокалетней куртке и национально-культурных штанах директора Пьетура Паульссона, его наряд не вызвал восхищения, а напротив, был подвергнут суровой критике. Скальду показалось, что он опять впервые оказался в Свидинсвике и не может передвигать ноги.
Над дверью гостиницы была прибита большая картина с изображением Геклы, на вершине вулкана сидела прекрасная женщина в национальном исландском костюме и смотрела оттуда, сверху, на весь мир. Внизу было написано «Горная королева» и «Cafe». Скальд решил, что горную королеву зовут Сафе и что, очевидно, это современная форма от имени София. Дом внушил скальду такое уважение, что он едва осмелился переступить порог. Из прекрасного вестибюля он потихоньку пробрался в прекрасный зал, где встретил прекрасную девушку. Скальд снял шапку и сказал «добрый день». Девушка посмотрела на его сорокалетнюю куртку национально-культурные штаны и не ответила на приветствие, но, взглянув ему в глаза, она подобрела; тогда он набрался храбрости и спросил, нельзя ли ему поговорить с одной женщиной.
– С какой женщиной? – спросила девушка.
– Разве хозяйка этой гостиницы родом не из Свидинсвика? – спросил скальд
– Не знаю о какой женщине вы говорите, – сказала девушка. – Вы имеете в виду фру Фьельгор?
Понемногу девушка и посетитель поняли друг друга, и девушка отправилась за хозяйкой. Пока скальд ждал, ему представилась возможность познакомиться с атмосферой, царившей в этом доме.
В ресторане сидели горластые мужчины, как иностранного, так и отечественного происхождения, они ухаживали за женщинами почти сверхъестественной красоты. У женщин были завитые волосы и такой цвет лица, с которым не посмел бы соперничать даже румянец стыдливости; из соседнего зала доносился шум неведомых музыкальных инструментов, казалось, будто трещотка, погремушка и три жестянки с грохотом катятся вниз по лестнице. Счастливые народы в танце проплывали мимо двери.
Внезапно дверь открывается, и по залу навстречу Оулавюру Каурасону Льоусвикингу идет женщина, и, когда скальд оказывается лицом к лицу с этой женщиной, он вдруг понимает, где находится, он воспринимает этот дом как естественное продолжение старой волшебной сказки: жил-был человек, вернее, это был не человек, а живой труп, его на носилках везли через плоскогорье и привезли к доброй волшебнице, и он был воскрешен из мертвых.
Тоурунн из Камбара идет ему навстречу: высокая статная женщина с черными завитыми волосами, черными бровями, нарумяненными щеками и вставными зубами, на ней очки с толстыми стеклами, скрывающие ее светлые глаза, перед которыми оказались бессильны все красильщики мира, и шуршащее шелковое платье, она слегка располнела, на руках у нее три браслета и несколько золотых колец с драгоценными камнями, в желтых пальцах недокуренная сигарета. Но вскоре выяснилось, что все это блестящее великолепие хозяйки гостиницы означало вовсе не тщеславие, а служило лишь внешним выражением ее высоких душевных качеств, ибо она единственная во всей столице не постеснялась открыто приветствовать смущенного посетителя, который не угодил моде своей курткой и штанами и не владел искусством общения с высокопоставленными господами.
– Оулавюр Каурасон Льоусвикинг, добро пожаловать!
У нее все тот же хорошо знакомый ему голос, к которому примешивался какой-то посторонний звук, этот звук напоминал сразу и о ночи и о дне, но больше всего о сумерках.
– Не разрешишь ли ты мне переночевать здесь эту ночь? – спросил Оулавюр Каурасон.
– Конечно! – сказала она. – Я очень рада тебя видеть! Ты почти такой же, как был. Пойдем ко мне, здесь шумно.
Тоурунн еще не утратила своей привычки прикасаться к человеку руками, она будто нечаянно прикоснулась к Оулавюру Каурасону, усаживая его рядом с собой на диван, обитый темно-красным плюшем. Она хотела заставить его курить и выпить рюмку вина, но он сказал, что уже слишком стар, чтобы этому учиться. В ее комнате все было обито и обтянуто плюшем, подушки громоздились на подушках, на салфетках лежали салфетки, картины висели над картинами, в зеркалах отражались зеркала.
– Ты еще помнишь, как я воскресила тебя из мертвых? – спросила она.
– Да, – ответил он. – От всего сердца благодарен тебе за это. К сожалению, я так и не смог отблагодарить тебя. Но глядя на твое жилище, я еще раз убеждаюсь, что Бог награждает тех, кто творит добро. Мне самому так и не довелось получить больше того, что у меня было, когда меня привезли к тебе мертвым, и я мало чему научился сверх того, что знал тогда.
– Зато ты ничего и не потерял с тех пор, – сказала она. – У тебя такие же глаза, и такие же блестящие золотистые волосы, и все та же красивая узкая ладонь.
Она взяла его руки в свои, как когда-то давным-давно, и стала их разглядывать. Потом она сказала:
– В доме напротив есть парикмахер, пойди к нему, пусть он тебя побреет и пострижет, а когда ты вернешься, я дам тебе новый костюм, он лежит у меня с самой весны, я взяла его в виде платы за номер у одного очень опрятного человека. Иди, скоро будем ужинать.
Некоторое время спустя он был побрит, пострижен, вымыт и одет во все новое, от белья до костюма. Тоурунн собственноручно завязала ему галстук. Она смотрела на него и напевала ту же мелодию, которая слышалась внизу, из зала, он разглядывал себя в зеркале.
– Ну ладно, – сказала она наконец. – Хватит смотреться в зеркало. Иди сюда, и давай поговорим. Скажи мне, почему я никогда тебе не нравилась?
– Зачем ты так говоришь, Тоурунн, ты всегда мне очень нравилась. Просто я не совсем понимал тебя. Ты разбиралась в таких вещах, о которых я и понятия не имел. Должен сказать, что временами я просто боялся тебя. Но ты была незаурядной личностью. А мне было всего семнадцать лет.
– И через окно к тебе прибегала другая. А мне ты дал лишь старую растрепанную книжку.
– Что же мне было делать? – спросил он.
– Если бы ты любил меня, со мной никогда ничего не случилось бы, – сказала она. – И с тобой тоже.
– Перед тобой были открыты все миры, Тоурунн, – сказал он. – Ведь даже этот мир и то принадлежит тебе.
– Если ты хочешь сказать, что я достаточно плоха и потому гожусь для этого мира, то это неправда, – сказала она. – Человек не может быть настолько плох, чтобы годиться для этого мира.
Ее взгляд потонул за блестящими стеклами очков, она начала рассеянно напевать, дым сигареты кольцами поднимался в воздух.
Эта девушка в свое время поехала в Англию, чтобы прославиться на весь мир в качестве медиума, но оказалась недостаточно искушенной в чудесах, и ее услугами скоро перестали пользоваться. Пьетур Три Лошади и Юэль, которых она называла не иначе, как непечатным словом, забыли прислать ей денег. Беспомощная исландская деревенская девушка осталась в огромном городе одна, без гроша в кармане…
– Ты вот только что сказал, будто я достаточно приспособлена к тому, чтобы жить в этом мире, но моих способностей не хватило даже на то, чтобы сделаться проституткой в большом городе, а уж такая неприспособленность – самое большое несчастье, какое может выпасть на долю женщины.
Она снова начала петь. Никто бы не мог сказать, на что она смотрит. Скальд в задумчивости ходил по комнате.
– Твои оценки мира и себя самой всегда были излишне суровы, – сказал он. – Обещаешь мне не сердиться, если я чистосердечно спрошу тебя об одной вещи? Скажи, ведь Фридрика никогда не было?
Тоурунн часто не слышала того, что ей говорят, и продолжала петь, так случилось и сейчас. Черты ее лица и раньше были весьма характерны и таили след определенного жизненного опыта, теперь же этот жизненный опыт окончательно запечатлелся в ее чертах и изменил их в соответствии со своей сущностью. Но в то время как скальд все еще продолжал размышлять о Тоурунн, у нее уже давно сложилось о нем ясное представление.
– Когда черт заберет к себе Фьельгора, я выйду замуж за человека, у которого будет такое же лицо, как у тебя, – сказала она. – Такой же лоб, такие же золотистые волосы, такие же руки, такие же глаза.
– Благодарю, – сказал он. – А кого это ты сейчас упомянула?
– Своего мужа, которого я раздела и уложила перед самым твоим приходом. Он умер сегодня вечером в семь часов. Он лежит здесь в соседней комнате.
– Господи, помилуй, – сказал Оулавюр Каурасон. – Твой муж умер?
– Да, он умер сегодня, – ответила фру Фьельгор. – Но ты не горюй. Он умирал и вчера. И позавчера. Он умирает каждый день. Хочешь на него взглянуть?
Вопреки желанию скальда она провела его в соседнюю комнату; из почтения к этой могущественной и вечно повторяющейся смерти он осмеливался идти только на цыпочках. На супружеской постели покоился жирный труп, лысый, с синюшным лицом и открытым ртом, рядом на тумбочке лежали вставные зубы, из-под одеяла высовывались жирные плечи, одна рука бессильно свешивалась с кровати; Тоурунн сказала чистую правду, этот человек был неправдоподобно мертв и лишь какой-то спрятавшийся в нем дух издавал у него в носу и во рту странное пыхтение.
– Гляди, – сказала Тоурунн из Камбара. – Я могу показать тебе его целиком. – И она сдернула с человека одеяло, словно показывала новорожденного младенца; несчастный лежал совершенно голый, мертвый, точно булыжник, и тяжело, прерывисто дышал – большие груди, кустики черных волос между ними, живот, похожий на глыбу топленого сала, ляжки, как у женщины. Оулавюра Каурасона охватил ужас.
– Это коньяк? – прошептал он, ибо у него еще давно сложилось наивное представление, будто эта жидкость – самый страшный яд рода человеческого.
Тоурунн не отвечала на вопросы, которые касались второстепенных вещей, она молча укрыла своего мужа одеялом, представление было окончено.
– Он был стюардом на датском пароходе, совершавшем рейсы в Исландию, – сказала она, когда они снова сели. – Этот несчастный спас мне жизнь. Я стояла и плакала на пристани в Копенгагене и не знала, как попасть домой.
– Плакала? Ты? – удивился скальд.
– Да, – сказала она. – Это были самые настоящие слезы, даже если бы их взяли на исследование, никто не усомнился бы в их подлинности, а ты полагаешь, это было что-нибудь другое?
На столе – жаркое, серебряные приборы, фарфор, в первый раз в честь скальда устроен праздник.
– Мне кажется, что я вообще не умею есть, – сказал он.
– Можно, я налью тебе немного красного вина? – спросила она.
– А ты не думаешь, что это повредит нашим душам? – сказал он.
– Мне-то оно не повредит, – сказала она, и на ее белом запястье звякнули браслеты, когда она наклонила бутылку; вино полилось в рюмку, оно лилось равномерными толчками, похожими на удары сердца.
– Если бы я не знал, что все золото, которое на тебе надето, есть лишь знак твоей добродетели, я испугался бы, – сказал он.
– В этом вине – сила, – сказала она и выпила за его здоровье.
А когда он лег в постель, она пришла к нему в комнату и села в кресло, такая же непонятная, как и прежде; она продолжала курить и напевать, ее взгляд за стеклами очков своим то красноватым, то зеленоватым блеском путал его мысли, так же как и вино, которое он выпил.
– Я не смею просить тебя, но мне очень хочется, чтобы ты сняла очки, – сказал он.
– Нет, – ответила она. – Однажды я попросила тебя сказать мне правду, но ты не захотел.
– Ты ведь сама говорила, что правда – это деньги, – сказал он. – И если бы у меня было сто крон, я отдал бы их тебе.
– Ты недавно спросил меня, существовал ли на самом деле Фридрик, лекарь скрытых жителей. Так вот, существуют лишь те боги, которых мы сами создаем себе, и никаких других.
– Я это знаю, – сказал он. – Но все-таки.
– Что все-таки?
– Существует Звон, – сказал он. – И Голос.
– Почему ты говоришь – сто крон? Я просила у тебя всего пять, самое большее десять, но ты дал мне только ненужную книгу. И через окно к тебе приходила другая.
– Неужели ты до сих пор не простила меня, Тоурунн, ты, у которой исполнились все желания? Могу я спросить, чей это портрет висит там на стене?
– Чей же, как не этого дурацкого Наполеона? – ответила она. – Его всегда вешают во всех недорогих номерах.
Она сняла очки.
Чуть-чуть стемнело, стояли сумерки, которые так любят совы, за отворенным окном начал накрапывать дождь, тихий ласковый шорох летнего ночного дождя смешивался со звуком шагов на тротуаре и шумом колес, проезжавших где-то блаженно далеко. Глаза у Тоурунн из Камбара были зеленые.
– Послушай, Оулавюр, – сказала она, – а что ты подумал обо мне, когда узнал, что меня отправили за границу?
– Я подумал: она лечит больных и воскрешает мертвых, она должна прославиться на весь мир.
– Врешь, – сказала она. – Ты подумал вот что: она ненормальная, у нее галлюцинации, она преступница, которая позволила использовать себя для того, чтобы поджечь дом, она шлюха, она… она… она… Вот что ты подумал.
Тоурунн погасила сигарету в пепельнице, и вокруг рта у нее появились складки, придававшие ее лицу выражение, которого он не мог понять, здесь было все – и ненависть, и горе, и ожесточение, и нежность, и вместе с тем – ничего. Она начала срывать с себя золотые украшения одно за другим и швырять их на пол. Вот теперь это была настоящая Тоурунн из Камбара, поступков которой никто никогда не в состоянии был объяснить; никто никогда не понимал, притворяется она или нет и где в ней настоящее, а где выдуманное.
– Если раньше ты не знал, что обо мне следует думать, так теперь ты знаешь, – сказала она, поддав ногой последнее кольцо, так что оно закатилось под шкаф. Но он по-прежнему не знал, что о ней думать. «Интересно, как она будет выглядеть рано утром, когда после моего ухода начнет собирать свои кольца?» – мелькнуло у него в голове, но она, уже без украшений, упала на колени рядом с его кроватью и, бормоча несвязные слова, прижалась к его груди.
Глава пятнадцатая
В одном городе в Румынии живет человек, его ремесло – глотать ножи, вилки и другие принадлежности столовых приборов. В Австралии недавно родился теленок с восемью ногами, из которых шесть было на брюхе, а две – на спине. У сиамского короля Рамы три тысячи жен и триста семьдесят детей – сто тридцать четыре сына и двести тридцать шесть дочерей. В Англии собаку научили говорить, в Германии лошадь умеет писать. В одном африканском государстве девушек три года, пока длится период обручения, держат в темном подземелье и не разрешают им разговаривать.
Оулавюр Каурасон даже и не подозревал, что в наши дни в мире происходят такие невероятные события, о которых можно было прочесть в развлекательном семейном журнале «Домашний очаг»; этот журнал в тюрьме, по-видимому, пользовался особой любовью. Первые дни скальд непрерывно размышлял о тех удивительных и непостижимых вещах, которые сообщал читателю этот журнал с целью укрепить исландскую семью. Подобно летописцам, имевшим обыкновение писать обо всех кометах, которые они видели, скальд записывал некоторые диковинные сообщения из семейного журнала с вопросами в скобках, чтобы при удобном случае поразмыслить над ними.
В семейном журнале «Домашний очаг» печатались также подробные сообщения про ограбления банков, кражи, отравление людей и убийства с многочисленными жертвами, все это, очевидно, считалось обязательной предпосылкой для счастливой семейной жизни. В первые дни скальд был далеко не равнодушен к тому, кто кого убил, он с наивным волнением читал необыкновенные рассказы и, случалось, целые ночи бодрствовал перед своей коптилкой, надеясь, что настоящего вора или убийцу наконец-то схватят, пока над этим измученным от бессонной ночи узником, которому уже казалось, будто у него самого руки обагрены кровью, не расцветал новый день. Но чем больше номеров журнала «Домашний очаг» прочитывал скальд, тем меньше занимали его те новости, которыми интересовались счастливые семьи. Вскоре он совершенно перестал обращать внимание на сообщения про убийства, даже одновременное убийство двоих или троих вызывало у скальда лишь сонный зевок; кончилось тем, что скальд даже слегка раздражался, если начинались разговоры про убийства, и невольно становился на сторону убийцы против убитого. Тогда скальд испугался, что, чего доброго, он и сам станет плохим человеком, и решил совершенно прекратить чтение развлекательных семейных журналов. Прошло лето, скальд вспоминал осенние цветы и думал, как хорошо, когда человек имеет возможность вдыхать аромат таволги, прикрепить к куртке незабудку и попробовать ягод шиповника.
– Мир, покой и благословенная тишина царят сегодня во всей Божьей природе. – Голос, произнесший эти слова, был низкий, теплый, правда, чуть надтреснутый и очень старый. – Но еще больший мир, покой и благословенная тишина царят в душах христиан, которые в минуту испытания не забывают о своем Спасителе.
После этого вступления дверь отворилась. На пороге появился старый человек, он был в черном пальто, несмотря на то, что светило солнце, в калошах, хотя было сухо, и в белоснежном стоячем воротничке, в руке он держал несколько тонких книжек.
– Брат мой, – сказал он, протянув Оулавюру Каурасону свою голубоватую шелковистую старческую руку, и посмотрел ему в лицо с доброй безликой любовью. В его старых глазах сиял свет, который не ведает тени. У него был большой мужественный орлиный нос, густые темные брови, похожая на древний пергамент кожа и белоснежные волосы. Оулавюру Каурасону он показался очень красивым. Скальд схватил руку гостя и невольно сказал:
– Я вижу, что вы друг небес.
– Это слишком большая похвала, брат мой, – ответил старик. – Я всего-навсего бедный соборный пастор. Но ты прав, небеса прекрасны. И Господь не оставляет людей своей милостью.
Старик спросил арестанта, откуда он родом, кто у него в приходе пастор, и попросил Оулавюра Каурасона по возвращении передать привет пастору. Он сказал, что на этот раз не может задерживаться, но в придачу к своему недолгому посещению он хочет оставить небольшое произведение одного знаменитого норвежца. Когда многое искушает душу человека, бывает весьма полезно иметь при себе небольшую книжку возвышенного содержания. Скальд от всего сердца поблагодарил пастора.
– Неисповедимыми путями ведет иногда Господь человека, дабы он обрел своего Спасителя, – сказал пастырь. – Природа во всем великолепии лета исполнена тепла, доброты и благословенного покоя, но все же здесь, за холодными стенами, милость Божья, может быть, еще больше. Это и есть чудо, брат мой.
– Во всяком случае, это очень странно, – сказал Оулавюр Каурасон. – И я часто думал, что между Богом и природой должен быть большой разлад.
– Если природа повинуется голосу Бога, то небеса – наше богатство, брат мой, – сказал пастор со своей мягкой отсутствующей улыбкой; этот добрый странник, несмотря на городскую суету и свои служебные обязанности, никогда не торопился настолько, чтобы ему было некогда мимоходом сказать брату теплое слово. Он пообещал вскоре прийти опять, чтобы они могли подольше побеседовать о милосердии Божьем.
Брошюра пастора «Приди к Иисусу» осталась в руке Оулавюра Каурасона, он раскрыл ее в двух-трех местах и отложил на полку, где лежал Новый Завет. Это было одно из тех христианских произведений, в которых без конца ссылаются на Мат., Лук., Деян. и Исх. и где вслед за этими сокращенными словами стоят непонятные цифры с запятыми и скобки, как будто это десятичные дроби или алгебраические примеры. Скальд не питал неприязни к подобным писаниям, но, поскольку он вырос на хуторе у Подножья под сенью сборника проповедей, было вполне естественно, что он не испытывал никакого интереса к тем книгам, в которых говорилось про Бога и Иисуса Христа.
Люди, жившие в этом доме, были, возможно, не самые счастливые, раз им приходилось жить вдали от таволги и шиповника, но нельзя сказать, чтобы они были несчастнее всего остального человечества, и уж, конечно, они были нисколько не хуже всех людей, живущих вне стен тюрьмы, за исключением разве что пьяниц. Пьяницы составляли особую категорию. Никто не был более чужд этому мирному дому, где царил образцовый порядок, чем те буйные сквернословы, которых привозили сюда по ночам и которые стремились установить здесь свои порядки. Когда хмель проходил, они начинали с презрением смотреть на всех окружающих, объясняя, что попали сюда исключительно из-за несправедливости властей и недоброжелательства полиции. Эти чудовища, которые не могли считаться людьми и еще меньше могли считаться животными, осмеливались утверждать, что пребывание в этом доме оскорбляет их человеческое достоинство и что они, поскольку они не являются арестантами, лучше всех остальных. Арестанты дружно считали пьяниц преступниками, которых следует расстреливать на месте без суда и следствия.
– Ну, этого бы я, пожалуй, не сказал, – заметил вновь прибывший.
Это было в первый день.
Светлым летним днем арестанты собрались после еды во дворе и беседовали, прежде чем разойтись по своим местам. Всю ночь пьяницы не давали им спать, и теперь все, кроме Оулавюра Каурасона, который пытался перевести разговор на другую тему, были угрюмы. Возле тюремной стены пробивалась трава, и там скальд заметил маленький цветок кульбабы. Он схватил за руку соседа и показал ему цветок.
– Смотри-ка, кульбаба, – сказал он. – Первая осенняя кульбаба, которую я увидел в этом году. Странно, что она цветет только в конце лета; может быть, это потому, что она растет слишком медленно, или потому, что летом другие цветы так красивы, что люди все равно не обратили бы на нее внимания?
Но человек, к которому скальд обратился, был убийца, гордость этого дома, ему было лет тридцать, он был рыжеволосый, бледнолицый и красивый, на нем был кожаный фартук, потому что он работал тюремным сапожником. Убийца ничего не ответил.
– Думаешь, его интересуют цветы? – сказал деревенский самогонщик. – К чему говорить о поэтических вещах с людьми, которые не замечают даже солнца, сверкающего на безоблачном небе?
Наступило молчание. Оулавюр Каурасон взглянул на тюремную стену и сказал:
– Какая высокая и прочная стена.
– Да, черт побери, – сказал мелкий воришка, который очень задавался, он произносил только эти три слова.
Тогда убийца сухо заметил:
– Если человек при желании не может перемахнуть через такую пустяковую стену, грош ему цена.
– Он ничего не уважает, – сказал самогонщик Оулавюру Каурасону. – Ему безразлично, о чем ты говоришь; о цветах – он не отвечает, о стене – стена пустяковая.
– Пришил какого-то вонючего мужика и теперь так важничает, что больше уже ничего замечать не хочет.
Убийца и бровью не повел, он ничего не ответил, но Оулавюру Каурасону стало неприятно, что этому человеку постоянно напоминают о совершенном им убийстве, и скальд уже был готов стать на его сторону.
– Дорогое это удовольствие, если человек должен за него платить двадцатью годами тюрьмы, – сказал он. – Мне кажется, что у него есть все основания быть высокомерным.
– Золотые слова, – сказал фальшивомонетчик. – Для того чтобы жениться, надо обладать большим мужеством, но чтобы убить человека, мужества требуется еще больше. Самогонщик в таких делах ни черта не смыслит. Провонял насквозь. Гонит свое зелье, спрятавшись за коровьи задницы, зарывает его в навозную кучу, чтобы до него власти не добрались, а потом достает его из этого дерьма и продает людям.
– Да, черт побери! – сказал мелкий воришка, подпрыгнув от удовольствия.
– А ты заткнись, – сказал фальшивомонетчик. – Позор сидеть в тюрьме только оттого, что ты болван.
– Но ведь он совсем еще мальчик, – сказал Оулавюр Каурасон, беря мелкого воришку под свою защиту. – Зачем на него сердиться?
– Никчемная нынче молодежь пошла, – вздохнул фальшивомонетчик. – Я презираю этих молокососов, которые взламывают лавку, чтобы спереть печенье, солодовый экстракт да шнурки для ботинок, таскаются по ночам на завод, чтобы набить карманы напильниками и трехдюймовыми гвоздями, или воруют по прихожим всякие вшивые пальто. И все эти подонки вбили себе в голову, что они настоящие преступники. Мелких воришек следует держать в больницах для психов.
Самогонщик был человек свободомыслящий и любил поэзию – это довольно часто случается среди людей его ремесла. Он спросил Оулавюра Каурасона, правду ли говорят, что он поэт.
– Ну, это слишком сильно сказано, – ответил Оулавюр Каурасон.
– Сколько стоит сочинить стихотворение для нас? – спросил мелкий воришка.
– Для друзей и братьев я сочиняю бесплатно, – сказал скальд.
– Сочини про меня стихотворение, – попросил мелкий воришка.
– Дорогой друг, к сожалению, я не гожусь на то, чтобы сочинять стихи про мужчин, – ответил скальд. – Но если тебе нужно сочинить стихи в честь хорошенькой девушки…
– Да, черт побери, завтра как раз новенькая придет мыть коридор, – сказал мелкий воришка.
– Стыд и позор, что порядочные люди должны сидеть вместе с таким отребьем, – сказал фальшивомонетчик. – Эту мразь надо запирать в одну клетку с пьяницами.
Неожиданно скальд оказался в центре этого почтенного собрания за тюремной стеной, все столпились вокруг него, кроме убийцы, тот все еще стоял поодаль, и мелкий воришка взял его за руку, чтобы подвести поближе.
– Он сочиняет стихи, – сказал мелкий воришка.
– Подумаешь, – сказал убийца.
Оулавюр Каурасон смутился и начал отказываться. Многие тут же предложили прочесть сложенные ими стихи, если Оулавюр Каурасон первый прочтет свое стихотворение. Убийца хотел уйти.
– Не уходи, – сказал кто-то убийце. – Послушай стихи.
– Мне скучно слушать стихи, – ответил убийца и направился в дом к своей работе.
– Почему? – крикнули ему вслед.
– А зачем они? – ответил убийца и скрылся в доме.
Ни цветы, ни стена, ни стихи. Неужели все человеческие поступки вкупе с красотой мира настолько ничтожны по сравнению с убийством? Неужели даже цветы не имеют никакой ценности рядом с этим могучим и необъяснимым поступком? Убийца был одновременно и оправданием этого дома и доводом в пользу его существования, его чемпионом, его епископом, миллионером и высшим авторитетом, роковая безмолвная тайна убийцы делала всех остальных людей ничтожными.
Удивительно, до чего люди, сидящие в тюрьме, похожи на людей, живущих на свободе: не успел прозвучать сигнал, как все наперебой стали читать свои стихи, позабыв, что сначала хотели послушать стихи Оулавюра Каурасона. В действительности каждому нравились лишь собственные стихи и плевать он хотел на стихи скальда.
Убийца занимал особое положение, он не пожелал слушать стихов Оулавюра Каурасона, но зато он и сам не писал стихов и не пользовался случаем, чтобы заставить кого-то их слушать.
Через несколько дней снова пришел пастор. На нем по-прежнему было черное толстое пальто, калоши и высокий воротничок, пастор быстро семенил по коридору мелкими старческими шажками, припадая от старости на обе ноги.
– Какие теплые и светлые дни, – приветливо пробормотал пастор, входя в открытую тюремщиком дверь. Пастор улыбнулся своими добрыми глазами, обнажая испорченные зубы; среди бездны дневных дел этот человек считал своим главным долгом и первой жизненной потребностью прийти в дом к своим братьям и сказать им теплое слово. Не только его улыбка, но и вся манера держаться вместе с его дружеской, как бы машинальной речью, не обращенной ни к кому в отдельности, производили в этом холодном доме впечатление теплого очага, в котором вдруг затрещали ароматные березовые поленья; скальд приветствовал пастора. – Какие теплые и светлые дни, сколько в них благословенного покоя, чувствуется, что милосердие Божие – истинный смысл таких дней, – сказал пастор. – Можно мне присесть на край твоей постели, хотя, собственно, у меня нет времени оставаться надолго? Но когда человек становится стар, брат мой, его ноги делаются непослушными, как малые дети.
– Мне хотелось бы, чтобы у меня в старости было такое же лицо; как у вас, – сказал Оулавюр Каурасон, глядя с восхищением на пастора.
– Если мое лицо выражает радость милосердию Божьему, брат мой, то это лишь потому, что я большему научился у тех, кто заключен среди этих стен, чем у тех, кто живет за ними, – сказал пастор. – Я большему научился у тех, кто повержен наземь, чем у тех, кто уверенно стоит на ногах. Поэтому мне так хорошо в этом доме. Господи, благослови этот дом.
– А что вы думаете об убийце? – спросил Оулавюр Каурасон.
– Ну-у, – сказал соборный пастор, – Христос судит человека не по делам его, а по тому, понял ли он в глубине души своей истинный смысл жизни. Я уже старик. Когда годы усталого человека подходят к концу, он больше уже не говорит о грехах, брат мой. Радость обретения милосердия – вот истинная радость. Тот, кто понимает, что испытание и милосердие – две сестры, владеет большим домом, прекрасным домом, стоящим на высокой горе.
Пастор вынул из кармана книжечку и протянул скальду.
– Я хочу предложить тебе небольшое произведение одного знаменитого датчанина, – сказал он. – Оно называется «Приди к Иисусу».
– Большое спасибо, – ответил скальд. – В прошлый раз вы мне уже оставили эту книгу.
– Вот как, брат мой? Ну, я очень рад, – сказал пастор. – Я уверен, что ты почувствовал благословенное тепло, которое исходит от этой небольшой книжки.
Скальду пришлось признаться, что он, к сожалению, еще не начал ее читать.
– Быть может, брат мой не очень любит книги? – спросил пастор.
– Меня воспитывали на таких скучных проповедях, что, по-моему, я никогда не оправлюсь от этого, – сказал скальд.
– Какая досада, – сказал пастор тем же тоном, что и раньше, он был готов извинить всех. – Наверное, это были проповеди Ауртни. Этот достойный человек иногда бывал чересчур многословен. Одни многословны, когда пишут об Иисусе, другие наоборот. Но это ничего не значит, ты не должен отчаиваться из-за того, что некоторые чересчур многословны, когда пишут об Иисусе. Дело не в том, чтобы длинно или коротко говорить об Иисусе, а в том, чтобы молча стремиться к нему, чтобы иметь для него место в своем доме и быть счастливым.
Оулавюр Каурасон долго молчал, восхищенный этими словами, и продолжал рассматривать желтоватое, пергаментное лицо под серебристыми волосами, на котором страдания уже давным-давно превратились в благодарность Богу; есть ли более блаженный человек на всей земле? Близость его казалась надежной защитой от всех бурь.
– Я думаю, – сказал пастор наконец и встал, – что ты разрешишь мне оставить тебе небольшую книжечку, прежде чем я уйду. Ее написал один знаменитый швед, она называется «Приди к Иисусу». Так же как плохие книги плохи, если они плохие, хорошие книги – хороши, если они хорошие, брат мой.