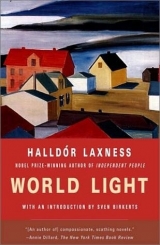
Текст книги "Свет мира"
Автор книги: Халлдор Лакснесс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц)
Глава восьмая
Пьетур сказал, что по дороге ему надо заглянуть к доктору, а когда он вышел от доктора, полы его пиджака оттопыривались над карманами брюк, в которые было засунуто по бутылке.
– Ну, теперь мы готовы к встрече с Хоульмфридур, – заявил он.
Длинный хлев стоял на краю поселка у самого моря, одна половина чердака была жилая, в другой от пола до самого конька крыши было навалено сено. Наверх вела скрипучая лестница. Над лестницей была дверь, сколоченная из неструганых досок, затворявшаяся при помощи подвешенной гири. Навстречу гостям вышла женщина и сказала, что ее муж спит.
– Спит? Летом, когда делают запасы на весь год? – спросил директор.
– Единственное, чем можно запасаться в Свидинсвике, – это сон, – ответила она.
Высокая темноволосая женщина, острая на язык; ясные глаза, странный тонкий голос с металлическим призвуком, который слышался явственнее на высоких нотах.
– Сегодня я не желаю слушать никаких жалоб, дорогая Фрида, – сказал директор. – Сегодня хорошая погода, а все мы – дети жизни. Я привел с собой молодого скальда из глухой долины над фьордом, как видишь, он очень милый и вежливый молодой человек. Не прочтешь ли ты ему мое последнее стихотворение, если оно у тебя уже готово?
– К сожалению, мне было некогда сочинить твое последнее стихотворение – у одной из коров утром началась течка, – ответила женщина с напускным безразличием. В уголках рта у нее залегло страдальческое выражение, которого юноша никак не мог понять, оно было совсем не похоже на обычное туповатое выражение страдания, свойственное беднякам, то выражение, которое легко приобрести и на которое так мало обращают внимания; это было выражение утонченного, редкого, купленного дорогой ценой страдания, какая-то смесь голода и отвращения, и гость почувствовал в этой женщине что-то родственное, несмотря на равнодушный взгляд, которым она скользнула по нему.
– Все вы хотите быть материалистами, – сказал директор, – вот вам и кажется, что случка скотины для вас важнее, чем душа. Но вы, несчастные, еще убедитесь в своей ошибке, когда умрете, как сказал один скальд. Сколько раз я тебе говорил, что душа гораздо важнее, чем скотина.
Они немного поспорили из-за этого директор Пьетур, сентиментальный и принимающий все близко к сердцу защитник человеческих чувств, и поэтесса, немногословная, угрюмая, сдержанная. Юноша замер на ступеньках лестницы, весь обратившись в слух. Внезапно на чердаке послышался гром проклятий – это проснулся муж женщины. Он появился в дверях, растрепанный, в пуху от перины, с красными глазами, отекший, небритый и беззубый, он почесывался и сплевывал. Оулавюр Каурасон изумленно посмотрел на эту женщину с орлиным взглядом, светлой кожей, густыми пышными волосами и яркими молодыми губами.
– Водка есть, Пьетур? – спросил муж женщины без обиняков.
– Мне кажется, сначала надо пригласить человека войти, а потом уже задавать ему вопросы, – обиженно сказал директор.
– Входи! – приказал муж женщины.
Они захлопнули дверь перед носом у женщины и скальда и скрылись внутри. Женщина и бровью не повела, лишь кашлянула так высоко и звонко, словно кто-то тронул пальцем струну.
– Их вечно мучит жажда, – сказала она. – В этом для них вся жизнь.
Скальд не знал, что ей ответить.
– Старик что, опекает тебя? – спросила она, вводя скальда в кухню.
– Не знаю, – ответил он и прибавил простодушно: – но он сыграл мне псалом.
Он не мог оторвать взгляд от лица женщины, от этой безмолвной смеси любопытства, настороженной женственности и застывшей горечи, словно женщина эта была безразлична ко всему на свете, безразлична вопреки всему, непостижимо, вызывающе безразлична, фанатически безразлична, безразлична сто тысяч миллионов раз; в ее необычных, бьющих без промаха ответах было что-то неземное, как будто это были стихи, юноше почему-то показалось, что он уже давно знает эту женщину, и неожиданно для самого себя он сказал:
– Мне кажется, я когда-то видел тебя.
– Правда? – удивилась она. – Должно быть, в другой, прежней жизни. Ты откуда?
Он обдумал ее слова и потом ответил:
– Мне это никогда не приходило в голову. Там, где я вырос, всегда говорили, что другая жизнь наступит только после этой. Но теперь я вижу, что она может быть и прежде этой.
– Ты всегда всему веришь? – спросила женщина.
– Я чувствую, что ты говоришь правду, – ответил он. – Я видел тебя в прежней жизни.
– Ты, верно, голоден? Хочешь поесть? – спросила она.
– Нет, – ответил он и покраснел, задетый тем, что она так быстро перевела разговор на столь земную тему; по правде говоря, есть ему уже не хотелось.
– Ах да! Тебя же угостили в обед псалмом, – сказала женщина.
Он не мог удержаться от смеха.
– А теперь я накормлю тебя рыбой, – сказала она, – и, может быть, хлебом.
– Хорошо, спасибо, только немножко, – сказал он. Он ждал, что она без всяких церемоний сунет ему кусок рыбы, но она так не сделала, она достала с полки цветастую тарелку, нож, вилку и накрыла на стол, как будто он был почетный гость. У него сделалось праздничное настроение, и он все время внимательно наблюдал за ней. Через минуту на столе появились рыба и хлеб.
Эта женщина была как бы составлена из двух разных людей, одному принадлежала верхняя половина туловища, другому – нижняя. Сверху она была похожа на юную стройную девушку-подростка с гибкой талией, тонким голосом и умным лицом, нижняя половина была крупная и грузная, толстые ноги и особенно широкие тяжелые бедра явно принадлежали совсем другой женщине; верхняя половина казалась хрупким цветком, растущим в грубом горшке. Скальд был уверен, что ее душа нисколько не виновата в том, что она замужем за плохим человеком. Неожиданно женщина прервала свои дела и взглянула на него, и он почувствовал, что она прочла его мысли, от стыда он покраснел до корней волос и мысленно молил Бога помочь ему.
– Что же ты? Ешь, ешь, – сказала она, а увидев, как ему стыдно, простила его и попросила: – Прочти какое-нибудь свое стихотворение.
Он исполнил ее желание.
– Где ты научился всем этим кеннингам? – удивилась она.
– У одного старого скальда, – ответил он.
– Почему ты пишешь о любви, ведь ты еще так молод? – спросила она.
– Потому что я был влюблен, – сказал он, не подымая глаз, потом прибавил, как бы оправдываясь: – Но это продолжалось недолго. – И поднял на нее глаза.
– Любовь проходит, – заметила женщина, ее губы в первый раз улыбнулись, но зато взгляд, как ему показалось, стал строже.
– Это была не очень счастливая любовь, – сказал он.
– А счастливая любовь – это и не любовь вовсе, – сказала она.
– Мне бы очень хотелось послушать твои стихи о любви, – сказал он.
– Я пишу стихи о смерти, – ответила она.
– О смерти? Не понимаю, какое это имеет отношение к любви, – удивился он.
– Это неважно, – сказала она.
– Должно быть, ты очень несчастная… в любви, – сказал он.
– Мой муж на голову выше всех людей, он возвышается над ними, как ясень над терновником, – сказала женщина. – Взгляд его проникал в морские просторы на многие мили. Когда я увидела его в первый раз, это был герой. Но человеческая жизнь – позор.
Что она хотела этим сказать? Почему она вдруг начала защищать мужа? Или она хотела таким образом оправдать себя?
– К сожалению, он оказался недостаточно дурным человеком для этого общества преступников, – прибавила она. – Преступником он не был, к сожалению.
Юноша забыл про еду и с удивлением смотрел на женщину, но она не поднимала глаз и продолжала заниматься своими делами, как будто не сказала ничего особенного.
– Возьми дуб и посади его на голой скале, – сказала она.
Он не знал, что ответить.
– Вот так я пишу о любви, – сказала она и умолкла, молча она подала ему кофе и сахар.
Наевшись, он долго сидел у окна и смотрел на фьорд, женщина уходила и возвращалась, занимаясь делами, спокойная и невозмутимая, а мужчины пели за стенкой: «В Вифлееме дитя родилось».
Глава девятая
Когда вифлеемская стадия окончилась, они запели «Блаженство мира». Потом они исполнили «Скачем, мчимся» и «Через холодные пески пустыни», делая между куплетами невероятно длинные паузы. Вечером море и берег окутал белый туман. Оулавюр Каурасон помог загнать в хлев и привязать к стойкам коров, принадлежавших Товариществу по Экономическому Возрождению, потом он стоял и смотрел, как Хоульмфридур их доит. Она дала ему парного молока столько, сколько он смог выпить. В ее обязанности входило пропускать молоко через сепаратор, готовить творог, сбивать масло и варить сыр для директора; снятое молоко она раздавала в дверях хлева рабочим, имевшим кредит в Товариществе по Экономическому Возрождению. Около полуночи Хоульмфридур управилась со всеми делами. После этого она вернулась в кухню и, не говоря ни слова, начала быстро вязать; кот под плитой, тарелки в цветочках, занавески в голубую клеточку; скальд сидел у окна и глядел на белую мглу; в летних сумерках на густую траву выпала роса, почти под окном, у береговых камней поблескивал белый, как сливки, фьорд, в тумане кричали морские ласточки, и скальду казалось, что эта ночь может длиться вечно. Он попытался завязать разговор, но у женщины не было охоты разговаривать. Скальду страстно хотелось послушать ее стихи, однако он не смел попросить ее почитать ему.
Наконец пение за стеной прекратилось, и лишь время от времени слышалось невнятное бормотание. Несколько раз директор громко позвал хозяина дома, но ответа не последовало. Пьетур Паульссон вышел из комнаты без пенсне, без вставных зубов, с багрово-синим лицом, он едва держался на ногах, из угла рта у него текла табачная струйка, но целлулоидный воротничок по-прежнему красовался у него на шее. Он подошел к хозяйке, схватил ее руку, сжал с чувством и заговорил на незнакомом языке. Поговорив немного, он хотел поцеловать ее, но она выскользнула из его объятий.
– Ты должен сделать что-нибудь для этого молодого человека, которого ты бросил здесь на произвол судьбы, – сказала женщина.
– Меня зовут Педер Паульсен Three Horses[10]10
Три Лошади (англ.)
[Закрыть],– ответил он, картавя сильнее, чем обычно, к тому же у него заплетался язык.
– Где твое пенсне, Пьетур? – спросила женщина.
– Никакой я к черту не исландец! – объявил Педер Паульсен Three Horses. – Мою бабушку звали фру София Сёренсен. Она была датчанка.
– А где твоя шляпа и зубы? – спросила женщина.
– Не твое дело, – отрезал он. – Эту ночь я буду спать с тобой.
Она пошла в комнату и вынесла оттуда потерянные атрибуты директорского достоинства, завернула пенсне и зубы в газету, сунула сверток ему в карман, а котелок надела ему на голову.
– Из всех женщин ты самая великая поэтесса Исландии, – провозгласил Педер Паульсен и начал снова трясти ее руку, повторяя по-датски: – Эту ночь я буду спать с тобой.
– Это с какой же стати? – спросила женщина.
– Потому что я тебя люблю, – ответил Педер Паульсен.
– Мне тебя жаль, – сказала женщина.
– Никакой я к черту не исландец! – повторил Педер Паульсен.
– Да, к счастью, – сказала женщина.
– Ты так говоришь потому, что у тебя нет души, – сказал Педер Паульсен. – Ты виновата, что я стал таким же мертвецом, как и все люди здесь на берегу.
Он опустился на лавку и заплакал.
– Ну-ну, не хнычь, милый Пьетур, – сказала женщина и, чтобы немного утешить, так как он не переставал плакать, погладила его по плечу.
– Никакой я тебе не милый Пьетур, – сказал он и громко всхлипнул. – Ты хочешь убить меня. И лишить меня загробной жизни.
Слова его тонули в рыданиях и всхлипываниях, глаголы перестали подчиняться спряжениям.
– Если ты сделаешь что-нибудь для этого юноши, которому некуда деться, ты наверняка обеспечишь себе вечную жизнь, дорогой Пьетур, – сказала женщина.
Директор перестал плакать, вскочил, схватил руку Оулавюра Каурасона, сжал ее изо всех сил и сказал на ломаном исландском языке:
– Ты, покинутый, войди в мое сердце! Если ты голоден, я устрою для тебя пир. Если у тебя нет дома, я подарю тебе замок! Любовь – это единственное, что окупается. Меня зовут Three Horses! – Он прижал скальда к своей груди и снова заплакал, охваченный восторгом перед любовью вообще и перед своей любовью в особенности. Потом он злобно погрозил кулаком хозяйке, осыпал ее бранью и пригрозил, что выгонит, ее и никогда больше не разрешит писать для него стихи, если она не ляжет с ним спать.
– Плевать нам на эту суку, дружище! Она никогда не понимала, что значит Экономическое Возрождение. Но ты понимаешь меня и последуешь за мной.
Он заковылял вниз по лестнице, скальд пожелал женщине доброй ночи и пошел за ним. Когда они оказались на улице, Three Horses обхватил скальда за плечи, чтобы не упасть. Он все время разглагольствовал о любви, спотыкался, икал, плевался, принимался плакать, но говорил преимущественно по-датски, так что Оулавюр Каурасон, к сожалению, понимал лишь отдельные слова. Было за полночь, и поселок давно спал.
Тропинка шла по берегу моря вдоль каменистой гряды, по обе стороны тропинки между грядой и заливом стояли сушильни для рыбы, а дальше за ними у самой воды, обособленно от поселка, высилось громадное здание. Своими размерами оно превосходило все сделанное человеческими руками, все, что когда-либо видел Оулавюр Каурасон. Даже в самом фантастическом сне скальду ни разу не привиделось ничего, хотя бы отдаленно напоминавшее этот дом. Первое, что бросилось ему в глаза, были три башни, ведь до того дня он никогда не видел башен. Боковые башни были похожи на гигантскую репу, выкрашенную в красный цвет, а средняя была квадратная, с вогнутыми стенами и маленькой плоской крышей. При ближайшем рассмотрении и весь дом оказался столь же необыкновенным. Фасад был обращен к волнам океана, посередине шел сквозной проем, открытый всем ветрам. На первом этаже, в стене, обращенной к морю, было множество окон, и каждое окно было из цельного стекла, хотя оно было величиной со стену обычного дома. К сожалению, здесь, по-видимому, недавно произошло жестокое сражение с метанием камней, потому что все стекла оказались разбиты целиком или частично. Правда, в окнах еще оставалось достаточно стекла, чтобы в нем могло отражаться заходящее солнце, и тогда тем, кто проплывал мимо, казалось, что на берегу стоит замок из чистого золота. На втором этаже окна были закруглены сверху, как в богатых церквах, и их рамы состояли из множества мелких переплетов. Видимо, стекла соблазняли разгневанных вояк тем сильнее, чем выше они были расположены, ибо требовали большой меткости и более серьезной военной подготовки, – во всяком случае, на втором этаже не осталось ни одного целого стекла. Та же судьба постигла и маленькие цветные окошечки, составлявшие когда-то гордость центральной башни. Но, несмотря на выбитые стекла, скальд смотрел на этот громадный дом с восхищением и невольно в немом восторге начал считать окна.
– Что это тут перед нами? – спросил директор и слегка покачнулся в сторону.
– Дом, – сказал Оулавюр Каурасон.
– А что это за дом? – спросил директор.
На этот вопрос юный скальд ответить не мог. Он был не в силах достаточно быстро подобрать слова, чтобы выразить те удивительные чувства, которые охватили его при виде этого дома. Если бы он просто сказал, что это самый большой дом в Исландии, это, по существу, еще ничего не выразило бы. Скорей всего, этот дом был построен каким-то высшим существом в каких-то высших целях, недоступных человеческому пониманию, может быть, из уважения к океану или как прибежище, предназначенное для небесных бурь. И пока скальд ломал голову, подыскивая подходящий ответ на вопрос директора, из щели дома выползла старая облезлая крыса, с трудом проковыляла по дорожке и исчезла в прибрежных камнях.
Тогда директор сказал:
– Этот дом выстроил Тоти Масло из четырех королевских дворцов, которые он купил у правительства через год после того, как к нам в страну приезжал король. Этот дом построен из четырех королевских дворцов! Как ты думаешь, сколько он стоит?
Юноша задумался, он гадал, следует ли ему сказать сто тысяч или, может быть, миллион, но тут директор спросил, неужели он такой болван, что не в состоянии прикинуть, сколько стоит дом.
– Сто тысяч, – брякнул наугад юноша.
– Болван, – сказал директор.
– Миллион, – сказал юноша.
Педер Паульсен еще никогда в жизни не встречал такого болвана. Скальд перестал гадать.
– Нет, приятель, – сказал директор, – когда заключают торговые сделки с правительством, говорят так: «Ни гроша, пока я не стану государственным советником». А когда становятся государственным советником, то говорят правительству: «Никакой я, черт побери, не исландец».
Директор так захохотал над своей остротой насчет Тоти Масло и правительства, что чуть не опрокинулся навзничь.
– Но, – продолжал он, – одной вещи Тоти Масло так и не смог постичь, хотя он и сделался государственным советником и оставил правительство с носом. Он не смог понять новых времен. Он был крыса. А вот я, Педер Паульсен Three Horses, понимаю новые времена. «Образование, наука, техника, организация, – говорю я. – Но прежде всего духовная зрелость, любовь, свет». Понимаешь? «Все для народа», – говорю я. Я социалист, вот как это называется по-иностранному. Я верю в разумное христианство. Знаешь, что я хочу сделать из этого дома, который старый Тоти Масло бросил, как крыса? Я хочу сделать из него фабрику рыбной муки и планетарий для народа. Понимаешь? Я хочу сделать из него театр, универсальный магазин, сетевязальную мастерскую и церковь, ибо Бог вечен, что бы там ни плел этот парень из Скьоула. Я сделаю из него лавку, торгующую рыбной приманкой, ресторан, гостиницу, холодильник, академию наук, свинарник, ну и еще жилой дом для своей семьи. Я сделаю этот дом для народа оплотом исландской культуры, базой просвещения, если ты в состоянии понять, что это значит. Хочешь быть моим скальдом?
Директор пытался стать перед юношей прямо и пристально смотрел на него то одним, то другим глазом.
– Если я смогу, – сказал скальд.
– Ты мне нравишься, – заявил директор и приветствовал скальда долгим страстным рукопожатием. – Ты, черт побери, хороший парень! Ты наверняка сможешь написать стихи про старосту и про всех остальных, которые считают меня идиотом и хотят выжить отсюда.
– Если бы у меня была крыша над головой, я мог бы написать великие книги, – сказал Оулавюр Каурасон.
– Крыша, – сказал директор. – Стыд и позор, что у великого скальда нет крыши. Великий скальд должен иметь кров. Это говорю я, Педер Паульсен Three Horses. Где была бы сейчас Фрида с Чердака, если бы я не разрешил ей ходить за моими коровами и поддерживать движение Экономического Возрождения? А ее муж, эта падаль, болван и осел, хотел открыть тут лавку и конкурировать со мной! У них не было бы никакого крова. Они жили бы, как крысы. Если ты поклянешься быть моим скальдом, ты получишь кров.
– Я не умею клясться, – сказал скальд.
– Тогда убирайся к черту! – сказал Педер Паульсен, отпустил руку скальда и оттолкнул его от себя.
Верхняя губа скальда задрожала, и он сказал с горечью:
– Меня прогнать нетрудно.
– Да, – сказал Педер Паульсен. – Ты крыса. Тот, кто не хочет поднять вверх три пальца за Экономическое Возрождение, тот крыса.
Тогда скальд передумал и сказал, что за Экономическое Возрождение он с удовольствием поднимет вверх три пальца.
Директор вновь проникся любовью к скальду, обнял его и пролил несколько слезинок.
– Давай оба поднимем вверх три пальца и поклянемся во имя Отца, Сына и Святого Духа, – сказал он.
И они оба подняли вверх три пальца и поклялись во имя Отца, Сына и Святого Духа. У юноши сильно стучало сердце, и он про себя молил Бога простить его, если он дает ложную клятву. Когда они поклялись, Педер Паульсен рассмеялся своим беззубым смехом и сказал:
– Экономическое Возрождение и я – это одно и то же, приятель.
Потом он указал рукой на замок.
– Милости прошу. Вот твой дом.
– Что? – не понимая, спросил скальд, у него перехватило горло от страха, что он все-таки дал ложную клятву.
– Это твой дом, – повторил директор.
– Он принадлежит мне одному?
– Это твое дело, – сказал директор. – Ты поклялся.
– Но ведь ты собирался использовать этот дом совсем для другого, – сказал скальд, сердце у него продолжало громко стучать, он надеялся, что клятва будет считаться недействительной, если он откажется от дома. – Я сам слышал, как ты только что говорил, что хочешь использовать его для народа.
– Я что, по-твоему, исландец? – спросил Педер Паульсен.
Юноша не мог ответить на этот вопрос, он был в замешательстве, ложная клятва не выходила у него из головы. На этот раз помутилось в глазах у него, а не у директора, и ему пришлось напрячь все силы, чтобы не потерять равновесия.
– Нет, никакой я, черт побери, не исландец! – заявил Педер Паульсен, приподнял перед своим скальдом котелок и с достоинством большими зигзагами поплыл прочь, вскоре он скрылся за углом.
Скальд остался стоять на мощеной площадке перед своим домом. Господи, значит, он все-таки дал ложную клятву. У него так заломило голову, что он чуть снова не заболел. Юноша обнаружил, что входная дверь в его доме забита досками. Он поискал другую дверь, нашел, но и она оказалась на запоре. Растерянный, не зная, что делать, он стоял в ночном тумане перед своим домом; он дал ложную клятву. Серая полосатая одичавшая кошка выскочила из подвального окна и побежала за угол, но сперва она остановилась и зашипела на скальда.








