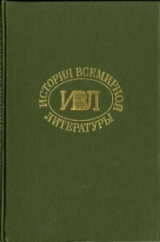
Текст книги "История всемирной литературы Т.7"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 76 (всего у книги 102 страниц)
Сходные мотивы – неудовлетворенность миром, одиночество – звучат в творчестве другого крупного поэта, Симона Грегорчича (1844—1906). Отчасти они были порождены его несложившейся судьбой – он был вынужден из-за бедности поступить в семинарию, стать священником и всю жизнь подвергался злобной травле со стороны клерикальных кругов. Но еще больше, чем личная драма, угнетала поэта судьба родины, которой он посвятил такие ставшие хрестоматийными стихи, как «Реке Соче», «Родине», «Окропите кровью моего сердца». Многие из стихотворений поэта положены на музыку и стали народными песнями.
Свою особую ноту внес в поэзию и Й. Стритар, автор лирических, эпических и сатирических стихов, из которых наиболее интересны «Венские сонеты» (1872), обличающие консервативных лидеров и уродливую буржуазную действительность.
В начале 80-х годов в поэзию вошел первый поэт-реалист Антон Ашкерц (1856—1912). Выходец из небогатой крестьянской семьи, католический священник, сложивший с себя сан и порвавший с церковью, Ашкерц своими произведениями мужественно боролся за национальное и социальное освобождение родины. На формирование этого самобытного поэта оказала влияние русская реалистическая литература (его любимыми поэтами были Пушкин, Лермонтов, Некрасов). Глубокий демократизм поэзии Ашкерца нашел выражение не только в содержании, но и в форме его произведений. Эпический характер его таланта проявился в многочисленных балладах и романсах, своеобразных новеллах в стихах, сатирических притчах; его мужественная, сильная поэзия полна света и красок, ее образы пластичны и полнокровны, в них запечатлена жизнь Словении на рубеже веков, а также ее историческое прошлое.
В середине 90-х годов Ашкерц сблизился с рабочим движением. Он первым в словенской литературе обратился к изображению жизни рабочего, заложив основы пролетарской поэзии. Восприятие Ашкерцем социалистической идеологии не было до конца последовательным, он не освободился от некоторых представлений буржуазного либерализма. Несмотря на это Ашкерц был властителем умов прогрессивной интеллигенции своего времени. Его читателям, как писал позже крупнейший словенский поэт XX в. Иван Цанкар, была «видна современная жизнь, такая, какая она есть: безуспешная борьба угнетенных за свободу и правду; видно гордое осмеяние лицемеров и эгоистов...». Действительно, стихи Ашкерца вобрали в себя самые острые вопросы словенской действительности XIX в.
Первый сборник Ашкерца «Баллады и романсы» (1890) проникнут идеей патриотизма и борьбы за национальную независимость. В нем особенно выделяется цикл баллад «Старая правда», воспевающий восстание крестьян под руководством «крестьянского короля» Матии Губца. В книге «Лирические и эпические стихотворения» (1896) Ашкерц обращается к острым социальным проблемам, вводит в поэзию образ рабочего, выражает его протест против эксплуатации (цикл «Из песенника неизвестного бедняка»). Такие стихотворения этого цикла, как «Песня рабочего о каменном угле», «Весенняя песня бедняка», «Дочь рабочего», сыграли важную роль в развитии демократической и социалистической литературы в Словении. Реализмом, пластичностью и глубиной отличается и описание труда и быта крестьян («Камень на меже», «Свадьба в Логах»). «Вечерняя молитва бедняка» гневно и страстно разоблачала лживую клерикальную мораль. В Словении, по словам Цанкара, эти стихи «звучали как боевые фанфары». Все это делало Ашкерца трибуном прогрессивной молодежи, определило его влияние на формирование поэтов последующих поколений.
Словенская драматургия 60—90-х годов заметно отставала в своем развитии от прозы и поэзии. Значительная ее часть предназначалась для репертуара любительских театральных обществ. С резкой критикой этих дилетантских, малохудожественных пьес выступил Стритар, ориентировавший национальное театральное искусство на классическую европейскую драму. В целях «европеизации» словенской драматургии Стритар написал несколько драм в духе европейского романтизма («Орест», 1869; «Медея», 1870; «Косана», 1878; «Клара», 1880, и др.).
Большим успехом пользовались у зрителей того времени комедия из сельской жизни Мирослава Вильхара «Жупан» (1871), резко критикующая германофилов, и комедия Йосипа Огринца «Где межа», рассказывающая о тяжбе двух крестьян из-за клочка земли. В этих незамысловатых пьесах с их грубоватым юмором проскальзывают элементы реализма. Однако почва для развития реалистической драмы еще не была подготовлена.
Вершинными достижениями словенской драматургии рассматриваемого периода остаются романтические трагедии Юрчича и Левстика. Одна из них, историческая трагедия «Тугомер», написанная Юрчичем и Левстиком, повествует о трагической участи словенского князя Тугомера, обманутого захватчиками-франками и невольно ставшего причиной национальной катастрофы своего народа. Национально-освободительный пафос этой трагедии был направлен против онемечивания словенского народа австрийским правительством. Поэтому постановка трагедии была запрещена австрийской цензурой вплоть до 1914 г.
Постановкой трагедии Юрчича «Вероника Десеницкая» (1886) начал свой первый сезон Словенский Национальный театр, открытый в Любляне в 1892 г. Деятельность Драматического общества в 1867—1892 гг. и создание центра театральной культуры подготовили почву для подъема словенской драматургии на следующем этапе ее развития, в начале XX в.
*Глава восьмая*
СЕРБОЛУЖИЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Литература лужицких сербов во второй половине XIX в. продолжала развиваться на основе собственного накопленного опыта и во взаимодействии с немецкой и соседними славянскими литературами. Деятели серболужицкой культуры в условиях усиливающегося национального и социального гнета стремились к преодолению территориальных, языковых и религиозных различий для сохранения и упрочения национально-этнического самосознания своего небольшого народа (около 150 тыс. человек в середине XIX в.). Территориальные изменения в Германии последовавшие за разгромом Наполеона, оказались для серболужичан не особенно благоприятными. Лишь пятая часть из них сохранила саксонское подданство (а именно с с Саксонией исторические культурные связи были наиболее долговременными и прочными), остальные же вместе с территорией были переданы во владение Пруссии. Учитывая, что прусскими подданными оказались серболужицкие католики и протестанты, которые к тому же говорили на двух языках (верхнелужицком и нижнелужицком), можно не удивляться, что развитие национального самосознания проходило здесь в особенно трудных условиях.
Основоположником серболужицкой национальной литературы является Гандрий Зейлер (1804—1872), первый подлинно народный поэт, гуманист-патриот, ученый. В 1845 г. Г. Зейлер стал председателем инициативной группы по созданию научно-издательского и просветительско-педагогического общества лужицкой интеллигенции «Матица сербска» (1847—1933). Г. Зейлер – крупнейший выразитель национально-романтических настроений в верхнелужицкой литературе. Многие стихотворения Зейлера, положенные на музыку композитором К.-А. Коцором, стали лужицкими народными песнями. Зейлер написал также большую поэму «Времена года» (1845—1860), дающую реалистическую картину лужицкой народной жизни и до сих пор исполняемую как оратория на народных праздниках (музыка К.-А. Коцора). Сборник «Сербские песни» (1855) сделал Зейлера популярнейшим лужицким баснописцем; он широко использовал фольклорные сюжеты и обычные житейские ситуации, воссоздавая и в басенном жанре широкую панораму народной жизни.
Несколько десятилетий стоял Г. Зейлер во главе молодой лужицкой литературы, воспитав целую плеяду продолжателей, из которых наиболее известны Ян Веля-Радысерб (1822—1907), первая лужицкая поэтесса Герта Вичазец (1819—1885), Ян Богувер Мучинк (1821—1904), Михал Горник (1833—1894), Кжесцан Богувер Пфуль (1825—1889), Михал Домашка (1820—1897) и др. Некоторые из них стояли на левых демократических позициях и участвовали в революционных волнениях 1848—1849 гг. Деятели национального возрождения подготовили почву для творчества крупнейшего лужицкого поэта XIX в. Якуба Барт-Чишинского (1856—1909), выступившего со своими стихотворениями через три года после смерти Г. Зейлера.
Наряду с Г. Зейлером крупнейшим деятелем лужицкого национального возрождения был Ян Арношт Смолер (1816—1884), всю жизнь активно собиравший и изучавший лужицкий фольклор.
Смолер был редактором многих научных изданий, в том числе в 1847—1852 гг. – первым редактором журнала «Часопис Матицы сербской», в 1848—1868 гг. – редактором «Ежегодников славянской литературы, культуры и науки», с 1861 г. возглавлял литературный журнал «Лужичанин» (с 1882 г. после слияния с журналом «младосербов» «Липа сербска» – «Лужица»), с 1872 г. являлся председателем «Матицы сербской». Чтобы обеспечить средствами свои обширнейшие предприятия, Смолер пытался привлечь к ним внимание широкой славянской общественности, в том числе он совершил несколько поездок в Россию (1859—1860, 1867, 1873, 1881—1883) и получил некоторую помощь от русских славянофилов на строительство лужицкого Дома культуры («Матичны дом», открыт в 1904 г.), чем навлек на себя злобные упреки немецких шовинистов в русском панславизме. По словам известного современного серболужицкого поэта К. Лоренца, Смолер «представлял в редкой завершенности сущность лужицкого национального возрождения; он в значительной степени способствовал формированию буржуазной серболужицкой национальности от ее духовной, культурной, политической и организационной консолидации перед революцией 1848 г. до укрепления и защиты достигнутых позиций в условиях бисмарковской Германии». Ближайшими соратниками Смолера в деле лужицкого национального возрождения были Ян Петр Иордан (1818—1891), проводивший демократически-просветительскую линию до поражения революции 1848 г. (активно сотрудничал в чешских и австрийских журналах, с 1860 г. жил в Вене), и Михал Горник, ставший с 1882 г. председателем «Матицы сербской» и много способствовавший взаимному сближению славянских культур и народов.
Младшим современником Г. Зейлера и наиболее значительным представителем революционно-демократического течения в серболужицкой литературе XIX в. был учитель по профессии, поэт, прозаик и ученый Ян Веля, взявший себе псевдоним Радысерб (т. е. «рад быть сербом»). В период революционного подъема 1848—1849 гг. он был одним из немногих лужицких интеллигентов, перешедших с позиций конституционной монархии на позиции поборника демократической республики. Вместе с Яном Бартко (1821—1900) он основал в 1848 г. еженедельник «Сербские новости», который через полгода был закрыт за пропаганду радикально-демократических взглядов. Веля-Радысерб был талантливым народным писателем, опубликовал с 1847 г. девять сборников прозы, книги стихотворений, басен. В историю лужицкой культуры он вошел как непревзойденный знаток и неутомимый собиратель народной мудрости: в 1902 г. он издал собрание «Сербские пословицы» (десять тысяч пословиц), в 1909 г. вышла книга «Народные метафоры» (5600 метафорических выражений), в 1907 г. – сборник «Загадки» (девятьсот загадок). Все это богатство писатель постоянно использовал в своих рассказах, песнях, балладах, поэмах. Он писал рассказы на исторические и современные сюжеты. Особенно популярной стала новелла «Ян Манья» (1886), где отражена сложная судьба эмигрировавшего в Калифорнию лужичанина, тоскующего по родине и в конце концов возвращающегося назад (в конце XIX в. эмигрировали многие сотни лужичан, в том числе и талантливый нижнелужицкий поэт Мато Косык, 1853—1940).
Усилия деятелей национального лужицкого возрождения способствовали постепенному формированию с середины XIX в. и позднее серболужицкого литературного языка, для чего необходимо было проломить барьеры политических, религиозных и диалектных различий. Однако процесс слияния письменных языков и диалектов в единый письменный литературный серболужицкий язык в XIX в. еще не мог завершиться.
Крупнейшим классиком серболужицкой литературы XIX в. стал Якуб Барт-Чишинский (1856—1909), воплотивший в своем творчестве многие лучшие устремления национального лужицкого возрождения и поднявший художественный уровень лужицкой литературы до общеевропейского. Владея многими европейскими языками, Барт-Чишинский переводил на родной язык гекзаметры Гомера, Фосса и Гёте, сонеты Шекспира, Мицкевича и Врхлицкого, стихотворения Лермонтова, Шиллера, Я. Неруды, Я. Коллара и др. Свою главную культурно-политическую задачу Барт-Чишинский видел в максимальном приближении духовной культуры к народу, в ее демократизации, превращении в подлинный «глас народа». Эти мысли он ясно выразил в полемических очерках «Голоса из Лужицы к лужичанам», опубликованных в журнале «Липа сербска», в 1877—1878 гг., чем вызвал восторги «младосербов» и протесты «старосербов» – деятелей группировавшихся вокруг К. Б. Пфуля и составлявших в эти годы большинство в «Матице сербской». «Младосербы» развивали оппозиционную программу сохранения этнической цельности лужицкого народа и его культуры в эпоху развития капиталистических отношений на лужицких землях, особенно заметно усилившегося после объединения Германии под эгидой Пруссии в 1871 г. Помимо усиления национального и социального гнета капитализм нес с собой и разрушение традиционной патриархальной общности – индустриализация и разрушение деревенских общин могли в условиях национальной дискриминации привести сначала к уничтожению лужицкого народа как этнической целостности, а затем и к полному его вымиранию. В этих условиях «младосербы» отстаивали идею единства народа и интеллигенции перед лицом надвигавшейся опасности и укрепление национального этнического самосознания, которое должно было противостоять любым попыткам разрушить его. Литературная программа Барт-Чишинского включала в себя создание «для крестьян произведений с национальным содержанием», для чего он пишет крестьянский эпос «Жених» (1877) и исторические стихотворные драмы «Старый серб» (1878) и «В крепости» (1880) – о борьбе легендарного сербского короля Милидуха (погиб в 805 или 806 г.) за свободу и независимость своего народа. Эта драма осталась первой частью незавершенной трилогии о попытках полабских и сербских славянских родов объединиться в борьбе против франков. Еще раньше была написана историческая новелла «Юнкер» (1873—1874) об эпохе наполеоновских войн и «роман из нашего времени» «Патриот и ренегат» (1878—1879), где возникает образ подлинно народного интеллигента. Свои идеи консервативно-антикапиталистической народности Барт-Чишинский защищал в публицистике и практической деятельности. Сложная гражданская и художественная позиция Барт-Чишинского совмещала в себе черты демократизма и консерватизма, реализма и эстетизма. Защищая лужицкое крестьянство от юнкеров и капиталистов, он писал острые и злободневные сатиры, свидетельствовавшие о сильной реалистической струе в его творчестве. Но, спасая традиционное народное единство, писатель склонен был порой резко отвергать все новые течения в философии и литературе (например, натурализм). В высоком уровне национальной художественной культуры Барт-Чишинский видел возможность вырваться из духовной и культурной изоляции к признанию за своим народом права на национальную независимость. Эта утопическая в социально-экономическом плане программа оказалась весьма плодотворной для собственного творчества Барт-Чишинского, заставляла его постоянно искать новые выразительные возможности в родном языке. Наибольшую славу Барт-Чишинскому принесли его поэтические сборники «Книга сонетов» (1884), «Формы» (1888), «Сербские голоса» (1897) и др. Лужицкая поэтическая культура достигает здесь высокого совершенства в философской, пейзажной, любовной лирике, в строгом внимании к классическим формам, к точной рифме. Подлинную поэтичность лучшим его стихотворениям придает выражение трагического разрыва между духовным идеалом и действительностью, боли за свою родину и за свой народ. Творчество Я. Барт-Чишинского, являя собой высший взлет национального лужицкого возрождения, одновременно и завершает этот важный период в истории серболужицкой литературы.
*Глава девятая*
ВЕНГЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Вторая половина XIX в. в Венгрии – это дальнейшая история романтизма, который продолжал играть существенную роль в общественном и художественном сознании. Одновременно начинал складываться критический реализм, который в венгерской литературе вполне утверждается в начале нашего столетия.
Основным идеалом венгерского романтизма была национальная свобода, вне которой не мыслилась и свобода личная. Но чем народнее понималась свобода, тем историчней становился романтизм; от этого историзма прямо зависел переход романтического мироощущения в нечто иное: нарождение реализма. Этот процесс наполнения национальных чувств социальным содержанием оказался сильно стесненным, замедленным после поражения революции 1848 г. вследствие кризиса и либерального перерождения самого дворянского свободомыслия. Вдобавок происходило это перерождение в оболочке старых, успокоительно патриотических фраз. И многие подчас даже не замечали, как от идеалов их оставались пустые иллюзии. Это приводило к неожиданным и далеко идущим, порой неосознанным, а порой трагически переживаемым противоречиям и парадоксам.
Кто в литературе, в общественно-литературной мысли отстаивал вечный, «естественный» мадьярский народный характер, закрывая глаза на урбанизацию, расслоение нации, крестьянства и самого дворянства, тот застревал на почве обветшалого, в дурном смысле романтического – патриархально-националистического – мировоззрения, даже если в поэтике стоял за бытовую подлинность, «эпичность», реалистические изобразительные приемы. Такова была историческая судьба господствующей «народно-национальной» школы во главе с критиком и писателем Палом Дюлаи (1826—1909), хотя она и внесла известный первоначальный вклад в реалистическую эстетику. И сам Дюлаи в литературе остался прежде всего как автор повести («Последний хозяин старой усадьбы», 1857), в основе которой – реалистически наглядный конфликт между изменившейся исторической обстановкой и устарелыми, упрямо-маниакальными взглядами героя-помещика, делающими его архаичной, трагикомической фигурой. Те же, в ком социальный протест горел сильнее национального «долга», в который возводилась умеренность, кто ощущал неблагополучие, провал между патриархальными иллюзиями и жизнью, оказывались подчас в ее оценке трезвее и аналитичней писателей «народно-национального» направления и объективно прокладывали более широкие пути реализму, даже в поэтике своей оставаясь романтиками.
Тут нужно выделить двух крупнейших: Имре Мадача и Яноша Вайду. Но раньше надо отметить трагическую окраску творчества обоих. Общая в той или иной степени для всей литературы, стоявшей вне господствующего направления, она помогает понять атмосферу эпохи. Трагичность эта не была просто пессимизмом в узком, расхожем смысле слова. В ней отразилось сознание безвременья: с одной стороны, разочарование в дворянстве с его своекорыстным соглашательством, с другой – безнадежность, невозможность отыскать противовес, иную положительную, подлинно прогрессивную историческую и идейную силу.
То и другое остро пережил участник еще предреволюционного движения за реформы, выходец из старой дворянской семьи Имре Мадач (1823—1864). Глубокой горечью проникнуто его главное, всемирно известное произведение, живо заинтересовавшая в свое время молодого Горького философско-романтическая драма в стихах «Трагедия человека» (1861). В цепи аллегорических картин воспроизведена в ней история человечества от далекого прошлого (Древний Египет) до столь же далекого, воображаемого будущего (замерзающая Земля). Картины эти – иносказательные рамки для скептических раздумий над доктринами своего времени от эгоистического буржуазного утилитаризма, социальной демагогии до утопическо-социалистических панацей (в плоском мелкобуржуазном понимании); для размышлений над несчастливой европейской и венгерской историей, в которой желаемое, ожидаемое разошлось с действительно восторжествовавшим.
Люцифер, одно из трех главных действующих лиц «Трагедии человека», проводит Адама с Евой через деспотическую древность, распущенную античность, темное средневековье, по революционно-террористической Франции и торгашеской Англии, показывает Адаму уравнительное царство фаланстера и грядущих наших потомков в звериных шкурах, впавших опять в полупещерное варварство. На каждом шагу подчеркивает он безысходную циклическую замкнутость истории в кругу жестоко стихийной эмпирии, злорадно-неумолимо пытаясь внушить мысль о несовместимости с ней, с голой реальностью, всякой розовой и радужной мечты. Он, этот хладнокровный резонер и мрачновато-настойчивый гипнотизер, представляет словно бы приземленно механический детерминизм, в то время как филантропический созерцатель, фантазер Адам – витающую в облаках мечтательно-отвлеченную свободную волю. Но оба равно односторонни. Один полемически сгущает краски, другой словно бы «разжижает», разводит их водой бесплодно идеального созерцания. Однако Мадач не останавливается на универсальном сомнении. Есть в драме и третья, деятельно созидательная, хотя не вполне проявившаяся, не осознавшая себя сила: Ева. Она останавливает готового уже отчаяться Адама и посрамляет холодные умствования Люцифера одним простым заявлением, что ждет ребенка. Этот наивный голос жизни и оказывается высшей правдой, подкрепляющей, казалось бы, нелогичную, никак не вытекающую из всего показанного, даже идущую вразрез с ним концовку – заключительную реплику всевышнего: «Человек, борись и верь!» Именно в сопоставлении с образом Евы вполне раскрывается высокая этическая позиция автора, вера в необходимость, конечный смысл исторических изменений.
Мадач был также автором лирико-философских стихотворений, предварявших пролематику «Трагедии человека», и драмы «Мозеш» (1862). В фигуре Мозеша (Моисея), который выводит свой народ из египетского (т. е. как бы австрийского) полона, не без оснований угадывали идеализированный образ Кошута. При всем том в своих литературно-эстетических взглядах Мадач отчасти сходился с «народно-национальным» направлением.
Первым крупным венгерским художником, решительно от него отошедшим, был поэт Янош Вайда (1827—1897). Сын лесника и мелкий чиновник, в 1848 г. доброволец венгерской республиканской армии, Вайда глубоко разочаровался в либерально-дворянском приспособленчестве. С этим связан перелом в его поэзии в 50—60-х годах, особенно после соглашения господствующего класса с Австрией (1867). Именно тогда в его лирике возобладала та скорбная, трагически возвышенная серьезность, которая придает ей своеобразный «лермонтовский» оттенок.
Не приняв компромисса 1867 г., который положил начало австро-венгерскому государственному дуализму, Вайда не удовлетворился и чисто императивной мадачевской этикой, слишком «слепой» в своей не требующей доказательств надежде. Природе, вселенной, жизни он смотрит прямо в глаза, добиваясь полной правды о своем времени без всяких агностических прибавлений и сам проникаясь ее беспощадной трезвостью. Его лирика – это мир без бога и других утешительных иллюзий; его лирический герой – не подвижник будней, довольствующийся скромной заповедью: «Довлеет дневи злоба его», а, скорее, невольник исторической ответственности, который, не смиряясь, с поднятой головой несет ее тяжко безотрадное бремя. Переход к отмеченной этим трагически скорбным фатализмом поздней поэзии ознаменовала любовная лирика Вайды (циклы 50—60-х годов «Проклятие любви» и «Воспоминания о Джине»). Мотивы расчетливой неверности, холодной измены, проклинаемого трезвого вероломства кажутся в ней поэтическим парафразом типичной ситуации эпохи: измены самого «исторического» сословия (как именовало себя венгерское дворянство) делу свободы ради низменной выгоды. И, взирая на небеса, где когда-то блистали созвездия его юношеского республиканизма, стареющий поэт видит теперь лишь всезатмевающую комету, чей «реющий траур» словно символизирует его полное одиночество («Комета», 1882). Однако кроме безысходности это словосочетание заключало в себе и гордость (траур – реет). Поэт не падал под бременем своего одиночества и еще меньше любовался им. Он вел с ним борьбу – пусть отчаянную, быть может, даже обреченную, но, по крайней мере, мужественную. В ней черпал он нравственное удовлетворение, в ней видел залог своей будущей жизни в литературе, коль скоро в сегодняшнем признании ему было отказано.
Ибо господствовавшая литературная школа корила, даже травила поэта за «пессимизм», сомнения, уход в себя, за «искажающую» реальность склонность к символико-романтическому образному строю. Все это казалось дерзким отступлением от народности, грубым ее нарушением. Но «народность» в патриархальном истолковании все больше изживала себя. И лучшим художникам даже самого «народно-национального» направления рано или поздно становилось поэтому тесно в его добровольно или поневоле наложенных на себя нормативных оковах. Это прежде всего относится к крупнейшему из них, поэту-реалисту Яношу Араню (1817—1882). Крестьянский сын, друживший в молодости с Петефи, который горячо одобрял его интерес к фольклору, его попытки создать полусказочный народно-героический эпос, Арань и в пореволюционную пору оставался демократом, хотя думал, что нужно лишь терпеливо переждать неблагоприятное стечение обстоятельств: они изменятся, и все вернется в свою колею. Когда же ожидания оказались тщетными, Арань пережил тяжелый душевный кризис. Лирические памятники его – стихотворения «Взгляд в прошлое» (1852), «Как впавший в беспамятство путник...» (1853) и др. Их можно уподобить «Тучам» Шандора Петефи – с той разницей, что нравственно-эстетический выход Арань обрел более стоический и трагичный. Но одновременно и более трезвый, чем делавшая упор лишь на поучительности всякого трагического крушения «народно-национальная» художественная программа.
Арань – например, в известной балладе «Уэльские барды» (1857) – сделал, с одной стороны, упор на сопротивлении: жертвенную смерть на костре пятьсот уэльских бардов предпочитают повиновению жестокому королю-завоевателю. Мятежный этот смысл усиливается тем конкретным обстоятельством, что баллада писалась перед ожидаемым посещением побежденной Венгрии австрийским императором. С другой же стороны, сам реализм воспринимался Яношем Аранем серьезней и глубже: как моральное содержание, а не форма; как условие возрождения нации и литературы, а не смирение перед «фатумом». Пятисот «бардов», которые взошли бы во имя родины на костер, в Венгрии того времени, конечно, не нашлось бы. Но куда же канули дух, мужество, вся общественная армия 1848 г.? Где национальное достоинство, честь и слава, их истоки и опора? У высоких романтиков (Мадача, Вайды) вопросы эти находили главным образом негативный или косвенный, отвлеченный ответ. Для Араня реализм – вот прямой позитивный выход из отчаяния и тупика отвлеченности. Надо объективно-исторически исследовать, художественно-аналитически осмыслить народные, национальные пути-дороги, коль скоро они пересеклись, запутались и затерялись в пореволюционную и послесоглашенческую пору.
Удалась ли ему самому эта попытка? В разных сферах и плоскостях по-разному. Больше, иногда блестяще удавалось воспроизвести близкое, повседневное, общественно-бытовое в его трагичных и трагикомических проявлениях.
В особенности в поэмах о крестьянстве и крестьянской жизни. Таков в первую очередь «Иштван-дурачок» (1850). Героем был совершенный «негерой», третируемый плебей-найденыш; хуторская, деревенская жизнь показывалась не в идиллическом, а сером, убогом свете. К «Иштвану-дурачку» в этом смысле примыкает хрестоматийное ныне стихотворение «Соловей» (1854). Точно выписанные типы смешных в своей полупатриархальной несуразности, но от этого не менее алчных деревенских собственников делают стихотворение маленьким сатирико-психологическим шедевром. Вместе с тем изображение крестьянской повседневности окрашивалось и преследовавшим поэта ощущением зловещей кризисности, ущербности эпохи. Через фольклорно-исторические темы преломлялось оно в принесших славу Араню многочисленных балладах («Агнеш-молодица», 1853; «Сирота», 1855; «Лущенье кукурузы», 1877; «Ребек Вёреш», 1877; «Открытие моста», 1877). Ощущением бездуховности эпохи, устремившейся куда-то прочь от гуманистических ценностей, проникнут и поздний лирический цикл «Безвременники» (1877—1880). Искренне и безыскусно, словно наедине с собой и для одного себя, запечатлены в нем переживания престарелого поэта, который оттесняется на обочину общественной жизни из-за его честной скромности.
Меньше удавались произведения (поэмы) с отвлеченно-философским замыслом и подтекстом, претендовавшие обобщить черты национального характера и объяснить ими исторический жребий народа. Это, например, историко-героическая поэма «Смерть Буды» (1863) или же «Любовь Толди» (1879). Правда, в последней Арань добился большой глубины в изображении любви, рисуя противоречивость страсти и опережая в этом венгерский роман. Все же реалистический анализ человеческих взаимоотношений (в данном случае незнатного, простого и благородного духом Толди и низкопоклонствующего и развращенного, «цивилизованного» королевского двора) ограничивается идеей непостижимой, заложенной как бы в природе венгров легкомысленной безответственности, которая толкает на гибельно-опрометчивые решения.
Преодолевать умозрительность, всякую утопическую, агностическую отвлеченность по-своему помогали исторические романы Жигмонда Кеменя, поэзия Ласло Араня (сына Я. Араня), проза Лайоша Толнаи. Сильной стороной Жигмонда Кеменя (1814—1875) было осуждение всякого, не только религиозного, фанатизма. Под ним разумелся вообще отрыв от исторической почвы, нежелание считаться с реальностью; любые необдуманные, «волевые», как бы мы сейчас сказали, решения, навязчивые идеи, которые приводят к роковым для личности и нации последствиям. Ласло Арань (1844—1898) был автором талантливого романа в стихах «Герой миражей» (1872). Это иронически изложенная история дворянского юноши, который в погоне за мерещившимися ему мечтами испытывает разные способы и пути их осуществления, но убеждается в одинаковой несовместимости всех с действительностью и, опустив руки, предается праздному, разгульному ничегонеделанью на родине. Одно явствовало из этого произведения с очевидностью: надо не предаваться нелепым мечтаниям и еще более нелепой праздности, а трезво, упорно действовать. Начавший с подражательных стихов – баллад в духе Яноша Араня – Лайош Толнаи (1837—1902) обнаружил затем в своих рассказах, повестях дар склонного к сатире наблюдателя повседневного быта. Вначале писателя занимала психология обездоленных и обойденных, не умеющих приспосабливаться, чей внутренний мир и жизненное падение он с сочувствием изображал. Более поздний Толнаи – обличитель хищников, которые топчут, пускают ко дну чужие необеспеченные, незащищенные существования.








