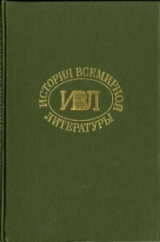
Текст книги "История всемирной литературы Т.7"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 102 страниц)
ПОЭЗИЯ 50—60-х ГОДОВ. «ПАРНАС». ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ. БОДЛЕР. ЛОТРЕАМОН
В истории французской лирики вторая половина XIX в., по словам Луначарского, – пора «блистательно пышного расцвета». К рубежу XIX—XX столетий поэтическое первенство в Западной Европе, прежде поделенное между собой англичанами и немцами, мало-помалу переходит к французам. Бытовавшие подчас и в самой Франции толки о врожденной суховатости, рассудочном риторстве «галло-романского» здравомыслия хотя и не смолкли совсем, однако после Бодлера, Верлена, Рембо, Малларме поутихли.
Между тем столь же очевиден, требует внятных объяснений, а по-своему и помогает нащупать причину этих достижений разительный парадокс: никогда еще раньше, да, пожалуй, и позже во Франции не было таким прочным убеждение многих стихотворцев, и как раз тех, которые пошли по новым путям, что им выпала недобрая доля жить и работать в обстановке цивилизации недужной, клонящейся к старческому упадку.
Пути Франции в дальнейшем не подтвердили тех мрачных сетований и чересчур поспешных приговоров. Однако они позволяют различить, откуда взялись ущербные кризисные умонастроения. Источник их – крутой исторический перепад в атмосфере еще вчера напористо сражавшейся республиканской демократии, убыль и иссякание ее наступательного духа. Дав простор – с 1871 г. уже необратимо,
без стеснительных помех – торгашескому делячеству и политиканской возне, она тяготела все сильнее к самодовольно-охранительному застою, стремительно опошляясь, мельчала и мелела. Перед воцарившейся снизу доверху удручающей «разлученностью действия и мечты» (Бодлер) умы незаурядно одаренные, с несуетными запросами испытывали понятную подавленность, воспринимая происходившее вокруг как свое неизбывное злосчастье, чреватое для них уделом изгнанников в болоте сытой серой обывательщины. Сами по себе жизни певцов «конца века», как окрестили они свое время, сплавив хронологическую отсылку к истекавшему календарному столетию и намек на библейский «конец света», – сплошь и рядом участь отверженных по собственному предпочтению, черпавших, впрочем, в своем добровольном изгойстве гордыню, отмеченных судьбой, избранных среди званых.
Нравственное сиротство их среди благоденствующих мещан вытекало – и здесь была заложена возможность возвести его в редкую доблесть, тут и разгадка всего смущающего парадокса – как раз из жажды ценностей, во всем чуждых постылому окружению, и впрямь – «не от мира сего». Словесность в подобных случаях понимают как своего рода добывание утраченного было соотечественниками, но страстно чаемого смысла жизни – залога душевного спасения вопреки обступающей отовсюду житейской бессмыслице.
Упование на заново обретенный в ходе поисков смысл жизни, своей собственной, а быть может, и вселенской, заданное самосознанию мастеров культуры тех лет историческим временем, которое переживалось и осмыслялось ими как томительно скверное безвременье, и заключало в себе предпосылки непререкаемого для них «культа искусства» в самых разных его преломлениях.
«Культовый» настрой, как и само обозначение, это их исповедание веры получило не случайно. Во Франции середины прошлого века с немалым пылом и на разные лады обсуждалось будущее западной цивилизации, былая духовная опора которой – христианство, подточенное вольнодумством просветителей, расшатанное чредой революционных потрясений с конца XVIII в., теснимое наукой, – изношена, выветривается все сильнее. И постепенно перестает быть поставщиком «священного» как для отдельной личности, так и для всего гражданского целого. Задачу задач всякой ответственной работы в культуре зачастую и полагали в том, чтобы подыскать угасавшему, как мнилось, христианству некую земную замену, которая бы так или иначе удовлетворяла ту же потребность в миросозерцательных устоях и, однако, не выглядела ветхим предрассудком. Чести сделаться таким замещением, обнародовать «благую весть» обновленной мирской веры, а то и светской церкви грядущего домогались и ряд социально-политических утопий, и выдвинутая О. Контом философия науки, точнее – ее позитивистская мифология, и словесность, когда она выдвигала перед собой цели, далекие от развлекательства. «В сей век затмения богов, – выскажет помыслы многих писатель Поль Бурже, обретавшийся на перекрестке тогдашних умственных веяний, – я убежден, что художник это священнослужитель, и чтобы им оставаться, должен всем сердцем ввериться Искусству, единственному действительному богу».
Лирика с ее непосредственным проникновением в сокровенные недра душ была особенно упоена подобными притязаниями. Вслед за Леконт де Лилем, который впервые причислил себя и своих собратьев по перу к сословию «новой теократии», – уместнее было бы назвать ее своего рода «культурократией» – французские поэты конца XIX в. лелеяли «религию» своего труда как личного душеспасения и одновременно спасения рода людского через Красоту, она же Истина, и непременно с заглавной буквы.
Тщетность, превратность столь непомерных самообольщений – сплава горьких разочарований в текущей истории и завышенных донельзя ожиданий, вкладываемых в труды на лирическом поприще, – отнюдь не мешали тому душевному горению, с каким самозваное жречество от культуры предавалось служению святыням своей «веры», творя молитвы божеству нетленной Красоты так, что в иных устах они коробили надменным пренебрежением и к нуждам житейским, обыденным, и к заботам граждански-историческим. Но в этом беззаветном подвижничестве следует ощутить и всю его неподдельную выстраданность, чтобы вскрыть – наряду с причиной немалых издержек и за упадочническими поветриями – подспудный побудитель вереницы взлетов, во многом способствовавших перестройке лирики, как собственно французской, так и – шире – западноевропейской.
Переломное для гражданской истории Франции грозовое трехлетье, открывшееся революционной «весной народов» в феврале 1848 г. и плачевно завершившееся декабрьским государственным переворотом 1851 г., было перевалом и для французской лирики. Отчетливость он обрел уже в 1852 г. с выходом в свет двух книг: «Эмалей и камей» Т. Готье и «Античных поэм» Леконт де Лиля.
Как выяснилось полвека спустя, дорога, предпочтенная на тогдашнем перекрестке, была скорее тупиковой, хотя и не без своего сравнительно удачливого начального отрезка. Узловое его событие – выпуск в 1866 г. альманаха «Современный Парнас»; в 1871 и 1876 гг. еще два сборника были изданы ему в подхват под тем же названием, уже тогда не лишенным налета намеренной старомодности. Отсюда и прозвище тех, кто там сотрудничал, сперва прозвучавшее насмешливо, однако обращенное в похвалу их поклонниками: «парнасцы». Правда, самые одаренные из них – Верлен, Малларме – вскоре склонятся к другим, самостоятельным путям; Бодлер же и сразу был скорее чужд устремлениям составителей. Тем не менее и ряд собственно парнасцев – прежде всего Леконт де Лиль, Жозе-Мариа де Эредиа (сб. «Трофеи», 1893), Теодор де Банвиль (сб. «Акробатические оды», 1857), ранний Анатоль Франс (сб. «Золотые поэмы», 1873) – снискал признание и во Франции, и в других странах.
При всей разнице парнасцев между собой, обычной для подобных содружеств, они едины в стараниях приглушить, загнать под спуд прямую исповедальность и перенести упор на описательную зарисовку – если не вовсе бесстрастную, то принявшую вид безлично-отстраненный: пластическая зрелищность, скульптурное равновесие подминают душевное самовыражение. О себе и сегодняшнем упоминают крайне неохотно, гораздо увлеченнее зарываются в прошлое. Однако и тут сбивчиво-приблизительный, зато окрыленный мифотворческий историзм романтиков тесним скрупулезной, но как бы опавшей изнутри, порой тяжеловесной археологичностью. Природа, раньше одухотворенная – приветливо или грозно, – предстает теперь совершенно безучастной к людским треволнениям и порывам. Самих себя мыслят уже не столько певцами-пророками во власти наития, восторга или нестерпимой боли, сколько усердными мастерами, вознамерившимися придать своей работе «научно» расчисленную выверенность.
Решимость взять вдохновение под присмотр интеллекта во всеоружии секретов и приемов письма – установка, по-своему разделявшаяся тогда же Бодлером, а вскоре доведенная до изощренности Малларме, – сулила стихотворному хозяйству Франции очередное упорядочение после предшествующей реформаторской «бури и натиска». И все же преувеличенное почитание если не стародавних правил, то гладкой правильности выдавало вялость чересчур хладнокровного жизнечувствия, ослабленный накал духовно-мыслительной работы, сопутствующую ей одышку. Всем существом парнасцы «ненавидят свою эпоху из естественного отвращения к тому, что нас убивает» (Леконт де Лиль) и жаждут избавиться от ее удушливой заразы. И однако, в том, какой именно вид принимает это надменное отталкивание, исключавшее возможность почерпнуть, подобно Бодлеру или Флоберу, в окрестном ничтожестве по-своему живой материал для претворения в слове, заметно оскудение мировоззренческой подпочвы «Парнаса». При всех их претензиях, его обитатели – кровные отпрыски все того же безвременья, пусть и брезгающие этим своим родством.
Если последний романтик Т. Готье был их старшим опекуном, то вождем всего кружка выступил Шарль Леконт де Лиль (1818—1894). Выходец с острова Реюньон, переселившийся в Париж по приглашению друзей-фурьеристов, поборник республики и до конца своих дней изобличитель церковничества, ратовавший за возврат к обогащенному просвещением язычеству древних как источнику духовного здоровья, Леконт де Лиль, едва нахлынуло революционное половодье 1848 г., в него окунулся. Но ненадолго. Крах освободительных надежд Леконт де Лиля на текущую, да и завтрашнюю, историю повлек за собой вскоре решение удалиться с поприща жгучих гражданских страстей в добровольное заточение «башни из слоновой кости», дабы служить там прекрасному во всех смыслах самозабвенно: в невозмутимой отрешенности и от злободневной суеты, и от самого себя. Леконт де Лиль намерен добиваться «безличностности» письма, призвав себе в наставники естественнонаучное знание и учредив культ мастерства как «священной» самоценности.
На деле искомая безучастность виденья жизни давалась Леконт де Лилю разве что в картинах растительного или – особенно – животного царства – таких, как «Ягуар», «Джунгли», «Сон кондора» («Варварские поэмы», 1862—1878), принесших ему славу непревзойденного стихотворца-анималиста Франции. Среди них хрестоматийные «Слоны» – зрелище тропических исполинов, шествующих на родину по раскаленной пустыне. Оно действительно безлично – пристальная, однако совершенно отрешенная, а потому усугубленно ничья, как бы отсутствующая приглядка некоего очевидца привносит здесь во все, на чем она задерживается, какое-то оцепенение. Под пером Леконт де Лиля даже то, что непрестанно меняется, текуче, летуче, – скованно замирает («неподвижное струение... медных паров» знойного воздуха, красные дюны – как застывшая морская зыбь), зависает над корявыми спинами неспешно бороздящих пески «живых утесов», перекликаясь с сонной медлительностью их поступи:
Бредут, закрыв глаза. Тяжелые бока
Дымятся и дрожат. И вместе с душным по́том
Над ними, как туман вечерний над болотом,
Клубятся жадных мух живые облака.
(Перевод Л. Успенского)
Гораздо сложнее обстояло с невозмутимостью в преобладавших у Леконт де Лиля переложениях легенд. Весь этот археологично-книжный эпос, где старательно соблюдается внешнее бесстрастие, – на поверку прямое вторжение в умственную жизнь середины XIX в. Вполне страстным, а то и крайне пристрастным был уже взгляд Леконт де Лиля на историю как на скольжение под уклон от цивилизаций древнейшей Индии, языческой Греции и дохристианской Скандинавии, через изуверство церковников и злодеяния рыцарей-разбойников средневековья, а далее через упадок нравов растленного торгашеского XIX столетия вкупе с обветшанием христианства – к неминуемо грядущей земной катастрофе, когда однажды «кровянистый свет солнца тускло забрезжит над беспредельностью, безмолвием объятой, над косной пропасти глухим небытием» («Багровое светило»).
Отрешенность Леконт де Лиля проникнута нередко безутешной мудростью, навеянной древнеиндийскими учениями о смерти как блаженном растворении во вселенских просторах вечности – этом «божественном небытии» («Полдень»), сравнительно с которым все бренное изменчивое, земное есть только «круженье призраков», «поток мимолетных химер» («Майя», «Секрет жизни»). Двусмыслица Леконт де Лиля как певца цивилизаций прошлого – она проступает при сопоставлении с «Легендой веков» Гюго, где седая старина мощно и щедро живет благодаря как раз своей подключенности к становящемуся настоящему, – состоит в том, что былое и безвозвратно канувшее рисуется ущербным даже в пору своего цветения. Сущее искони тяготеет к гибели, с тем чтобы обрести единственно возможную долговечность, представ «красивой легендой» (И. Анненский), памятником – мертвым, зато нетленным. На «высеченных из камня, литых из бронзы» (Луначарский) ликах природы у Леконт де Лиля лежит отпечаток странной безжизненности, коль скоро они тут же истолкованы как призрачная мнимость.
От безутешных приговоров маете человеческих дел и упований, а заодно и вселенскому круговороту бытия-небытия Леконт де Лиль нет-нет да и порывался к мятежному богоборчеству (поэма «Каин») или растроганным воспоминаниям о собственном отрочестве среди щедрот тропической природы («Носилки»). И быть может, именно этой неспособности везде и до конца выдерживать хладнокровную неприязнь ко всему на свете, кроме навеки окаменелой Красоты, обязаны добротно сработанные стихотворные изваяния Леконт де Лиля тем, что в них сквозь кованые строки и поныне мерцает порой живое свечение.
Старания Леконт де Лиля и его сподвижников поменять своевольно изливавшуюся личность на прилежную «безличностность» не были ни единственным, ни самым плодотворным путем обновления поэзии во Франции второй половины XIX в. Уже Нерваль, а вскоре Бодлер, Рембо, Малларме каждый по-своему помышляли о задаче куда более трудной, зато и притягательной: о встрече, желательно – слиянности этих двух распавшихся было половин лирического освоения жизни. Но в таком случае и решать ее приходилось не простым отбрасыванием исповедального самовыражения, а перестройкой его изнутри.
Столь нелегкий перевод французской поэтической культуры в поисково-неканоническое русло, отнюдь не исключавший из нее унаследованного от прошлых мастеров, – дело прежде всего Бодлера.
С конца XIX в. лирики Франции, возводя к Бодлеру свою родословную, платили ему дань признательности столь же восторженно, как это сделал мало к кому испытавший почтение ершистый подросток Рембо: «Бодлер... это король поэтов, настоящий Бог». И хотя всякий раз заслуги Бодлера истолковывали по-разному, прежде всего их усматривали в горделиво-дерзком завете придать трудам художника достоинство такой духовной деятельности, которой по плечу домогательства исключительные, прямо-таки сакрально-магические. Бодлер звал своих собратьев по перу «колдовски» чародействовать в разгар просвещенно-здравомыслящей цивилизации – быть устроителями «празднеств мозга» для «природных существ, изгнанных в пределы несовершенного и жаждущих причаститься безотлагательно на самой здешней земле блаженств возвращенного рая».
Другой важнейший урок Бодлера в том, что им окончательно утвержден обозначившийся во Франции и раньше, у Стендаля, Гюго и Бальзака, перенос упора с преемственности на первопроходчество. Мастерам былых времен, предпочитавшим обычно самоопределяться внутри векового канона даже и тогда, когда они исподволь его меняли, он отчетливо противополагает мастеров новейших, приглашая их вдохновляться прежде всего «красотой и героизмом сегодняшней жизни», без оглядки на «учения о единой абсолютной красоте», зато с полным доверием к «безупречной наивности» собственного ви́денья вещей – «источнику самобытности». Именно этой тщательно обдуманной Бодлером откровенно поисковой посылке обязан он – да и не он один – своими писательскими, человековедческими открытиями.
Жизнь Шарля Бодлера (1821—1867) была вереницей повседневных поражений – терзаясь от щемящего чувства своей «обреченности на вечное одиночество», он расплачивался ими за упорное нежелание поступать и думать как все.
В детстве потеряв отца, Бодлер до конца дней мучительно переживал разлад с обожаемой им матерью, вышедшей замуж вторично за преуспевающего военного. В 1841 г. строптивый юноша был отправлен отчимом в кругосветное плавание в надежде на то, что оно излечит его от «баловства пером» и податливости на парижские соблазны, однако с полпути самовольно вернулся назад. Достигнув совершеннолетия, Бодлер предпочел добропорядочному благонравию богемное житье, сперва вызывающе расточительное – пока семья, опасаясь за быстро таявшее отцовское наследство, не добилась учреждения над ним оскорбительной опеки, – потом на грани нищеты.
Несмотря на рассеянную жизнь денди, беспорядочный быт, осаждавшие его долги, Бодлер работал всегда с полной самоотдачей, и то, что могло казаться ремеслом ради заработка, для него было творчеством. Так случилось с переводами из Э. По, неотъемлемой частью писательского становления самого Бодлера. Так было и с очерками о живописи, литературе, музыке этого горячего поклонника Делакруа, Бальзака, Флобера, Вагнера. Свои разрозненные критические выступления он замышлял собрать когда-нибудь вместе, но сделать это удалось лишь его душеприказчикам в двух книгах: «Эстетические достопримечательности» (1868) и «Романтическое искусство» (1869) – памятниках французской мысли XIX в., помещаемых ныне в один преемственный ряд с искусствоведческой эссеистикой Дидро, Стендаля, Аполлинера.
Подобно многим своим сверстникам, Бодлер пережил революционный 1848 год – он был на баррикадах и в феврале, и в дни июньского восстания парижских рабочих – как краткое опьянение радужными, весьма сбивчивыми надеждами переделать жизнь снизу доверху. Тем тягостнее было его духовное похмелье после декабря 1851 г., сопровождавшееся отречением от всяких граждански-политических порывов. С тех пор неприязнь к жизнеустройству имперски-мещанской Франции сгущена у него до предела: «Современная шваль внушает мне ужас. Ваши либералы – ужас. Добродетели – ужас. Порок – ужас. Приглаженный стиль – ужас. Прогресс – ужас».

Шарль Бодлер
Фотография Каржа. Около 1863 г.
По Бодлеру, упадок возобладавших в XIX в. нравов, когда духовность подмята погоней за чистоганом, – опровержение «выдумок нынешней философистики» об историческом прогрессе, не менее бесспорное, чем колеблющая все мнения о врожденной доброте людской жестокость первобытных нравов, облагороженных позже как раз «надприродными» установлениями морали и культуры. Предрасположение к чистому, достойному, благому столь же исходно у человека, как и податливость на вожделения порочные, злые, дремуче-темные. В себе самом эту неустранимую расколотость Бодлер обнаруживал на каждом шагу и, не будучи истово верующим, искал, однако, мыслительный ключ к ее объяснению в христианском философствовании о «первородном грехе».
На такой мировоззренческой площадке и возводится Бодлером здание «сверхприродной», по его словам, эстетики с надстраивающей ее, в свою очередь, «магической» поэтикой.
Писательство в XIX в., согласно Бодлеру, «сверхприродно» прежде всего потому, что порождено цивилизацией, приближающейся к «старости», с возрастом утрачивающей и здоровье, и простодушную наивность, зато утонченно изысканной, изощрившейся в умении. «Предзакатность» ее накладывает отпечаток на вкусы, внушая чуткость к красоте увядания, одухотворенно-скорбной, изведавшей горечь злосчастий, сочетающей в себе «пылкость и печаль». Отсюда же предпочтение, оказываемое мастерски сделанному, искусному перед безыскусным, естественно бесхитростным; ведь последнее в пору «упадка» неминуемо впитывает болезнетворные поветрия и тем обрекает себя на упадочничество, тогда как старания превозмочь ущербность подручного материала благодаря умелой обработке причастны «героизму времен упадка».
В результате Бодлер склоняется к пересмотру классической аристотелевской установки на подражание природному как важнейшей задаче живописца, музыканта, писателя. Для него «королева способностей» – не тяга к «мимезису», а воображение. Вовсе не тождественное расслабленной непроизвольной фантазии, оно есть дар волевой и действенный. В природе оно черпает, как в «словаре» или «складе образов и знаков», только сырье, которое подлежит обогащению и переплавке согласно замыслу как раз внеприродному, выпестованному духом, культурой.
Непременным залогом красоты и в жизни, и в искусстве он полагал ту или иную долю «странного», от «странности непредумышленной, бессознательной», до гротеска – этого «видимого парадокса», когда насыщенная личностная выразительность письма повышена тем, что сама «правда облачена в странные одежды». Другим таким залогом Бодлер считал внятно осмысленный, вскормленный «логикой и анализом», прозрачный для себя «метод», вырабатываемый каждым под опекой интеллекта применительно к собственным задаткам и пристрастиям.
«Сверхприродному» творчеству Бодлер задает вместе с тем нацеленность на постижение сущего, в том числе и собственно природы. Предмет этой особой познавательной деятельности – скрытое от взоров корневое родство всех на свете вещей. Мироздание, согласно Бодлеру, являет собой «дивный храм» со своим законосообразным устроением, так что все телесное и духовное, все краски, звуки, запахи, как гласит бодлеровский сонет «Соответствия», в конце концов суть лишь разные наречия одного «иероглифического» праязыка. Улавливая и облекая в слова позывные «вселенского подобия» между раздельными вереницами слуховых, обонятельных, зрительных ощущений, поэт, по Бодлеру, проникает сам и вводит за собой всех желающих за ним следовать в святая святых нерукотворного мирового «собора».
Отсюда, из продуманных на всех уровнях построений, и извлекались Бодлером те приемы словесно-стиховой работы, которые он обозначал как намекающе-окликающую ворожбу (sorcellerie évocatoire). Существо этого «колдования» в том, чтобы закрепить на бумаге – и тем дать другим возможность испытать – «празднества мозга»: они наступают, когда мысленно преодолена расщепленность бытия на природу и личность, вещи и дух, внешнее и внутреннее, когда «мир вокруг художника и сам художник совместились в одно». Но подобные благодатные переживания упорно ускользают от рассудочных описаний. Зато их можно окольно подсказать, внушить, навеять. Намекающее, «ворожащее» письмо, которое бы пробуждало, подобно музыке или живописи, взаимоперекличку безотчетных откликов в самых разных ответвлениях нашей воспринимающей способности, и привито Бодлером впервые столь широко культуре лирики во Франции.
Книга всей сознательной жизни Бодлера «Цветы Зла» вышла первым изданием в 1857 г. и была выстроена так, чтобы смотреться собранием внутренне цельным – исповедальным рассказом о скитаниях души, мятущейся, страждущей посреди жизненной распутицы, где злое и больное (французское «mal» сочетает оба эти значения) разлито повсюду, гнездится в сердцах и умах.
Охранительное благомыслие тогдашней Франции сразу же усмотрело посягательство на добродетель в бодлеровском беспощадно трагическом высвечивании сдвоенного грехопадения – «предзакатного» века и самой личности. Последовало судебное разбирательство; шесть пьес из «Цветов Зла» были признаны «безнравственными», подлежали по приговору (отменен только в 1947 г.) изъятию из книги, на нее же впредь до этой «чистки» налагался запрет. Бодлер не смог включить их в расширенное, кое в чем подправленное переиздание «Цветов Зла» (1861). Он продолжал работать над книгой и позже, готовя третье, снова дополненное ее издание, увидевшее свет посмертно, в 1868 г. Что же касается исключенных стихотворений, то они составили часть книжечки «Обломки» (1866), выпущенной полуподпольно.
«В эту жестокую книгу, – писал Бодлер о „Цветах Зла“ за год до смерти одному из знакомых, – я вложил все мое сердце, всю мою нежность, всю мою веру (вывернутую наизнанку), всю мою ненависть. Конечно, я стану утверждать обратное, клясться всеми богами, будто это книга чистого искусства, кривлянья, фокусничества; и я солгу, как ярмарочный зубодер». «Цветы Зла» и в самом деле – «обнаженное сердце» Бодлера (как озаглавил он свои дневниковые записи). Ничего равного этой книге по пронзительной оголенности признаний – будь они навеяны искусами порока, ослепленной мстительностью, грезой, обожанием, покаянным настроем, изломанной страстью, ужасом перед неотвратимой смертью, жаждой чистоты, пресыщением, бунтарством, свинцовой хандрой, – ничего подобного по твердой убежденности, что все это и еще очень многое способно уживаться в одной душе, лирика французов до Бодлера не знала, да и после него достигала не часто.
Причина здесь не просто в бестрепетно честной, «как на духу» откровенности, но и в другом взгляде на человеческую личность, чем у романтиков, чтимых Бодлером и одновременно оспариваемых. Исповеди этих «сыновей века» бывали и доверительно искренними, и удрученными, однако источник дурного, чадного, порочного помещался ими где-то вовне – в скверных обстоятельствах, убожестве обстановки, злокозненности судеб. Первый из «сыновей конца века», Бодлер с усугубленной ранимостью испытывает гнет неладно устроенной жизни, где он сам, носитель редкого дара, обречен на отщепенство в семье («Благословение»), в пошлой толпе («Альбатрос»), в потоке истории («Маяки»). Облегчение он находит разве что в пробах обратить доставшийся ему роковой жребий в горделивую доблесть, предписав себе неукоснительный долг свидетельствовать от лица «каинова отродья» – всех отверженных и обездоленных, откуда бы ни проистекала их беда («Авель и Каин», «Лебедь»).
Разрыв «я» и окружающего – ценностная разнозаряженность, с одной стороны, самосознания, раньше неколебимо уверенного в собственной правоте и нравственной безупречности, а с другой – неблагополучного миропорядка – дополняется у Бодлера их зеркальностью, взаимопроникновением. В потаенных толщах души, дотоле обычно однородной, равной самой себе, Бодлер обнаруживает неустранимую двуполюсность – совмещение вроде бы несовместимого, брожение непохожих друг на друга задатков и свойств, легко перерождающихся в свою противоположность. С первых же строк пролога к «Цветам Зла», бросая вызов расхожим самообольщениям и намеренно делая крен в сторону саморазоблачения, он приглашает всякого, кто возьмет в руки его книгу, честно узнать себя в ее нелицеприятной правде:
Глупость, грех, беззаконный законный разбой
Растлевают нас, точат и душу и тело.
И, как нищие – вшей, мы всю жизнь, отупело
Угрызения совести кормим собой.
(Перевод В. Левика)
Дальше, прослеживая от раздела к разделу («Сплин и идеал», «Парижские картины», «Вино», «Цветы Зла», «Мятеж», «Смерть») мытарства взыскующего «духовной зари» в разных кругах повседневного ада, Бодлер оттенит «сатанинское» «ангельским», наваждения «сплина» томлением по «идеалу», ущербное – окрыляющим, провалы в отчаяние и отвращение ко всему на свете, включая себя, – душевными взлетами, пусть редкими и краткими. Головокружительная бездонность человеческого сердца («Человек и море», «Бездна») и соседство в нем, сцепление, «оборотничество» благодатного и опустошающего («Голос») – ключевые посылки всей бодлеровской самоаналитики в «Цветах Зла».
Здесь, в самом подходе к личности как сопряжению множества «протеистических» слагаемых, коренятся и причины исключительного богатства, глубины откровений любовной лирики Бодлера. Между молитвенной нежностью и каким-то исступленно-чадным сладострастием в «Цветах Зла» переливается бесконечное обилие оттенков, граней, неожиданных изгибов страсти. И каждое из ее дробных состояний, в свою очередь, чаще всего чувство-перевертыш, когда лицевая сторона и изнанка легко меняются местами («Мадонне»); порок и повергает в содрогание, и манит («Отрава», «Одержимый», «Окаянные женщины»), а заклинание любящего иной раз облечено в парадоксально жестокое назидание («Падаль»). Потому-то в самом развертывании бодлеровских признаний столь часты внезапные перепады («Искупление»), разбросанные тут и там связки взаимоотрицающих уподоблений или ударные завершающие словесные стяжения-сшибки: «О, величие грязи, блистанье гниенья» («Всю вселенную ты в своей спальне вместила...»).
Не менее насыщен положениями двойственными, внезапно опрокидывающимися и круг преобладающих у Бодлера умонастроений. Томительная скука источает апокалипсическую жуть («Фантастическая гравюра»), повергая в уныние, или, наоборот, прорастает яростным бунтом («Авель и Каин»), выплескивается желчной язвительностью («Плаванье»), побуждает устремляться помыслами в царство сладостных грез («Приглашение к путешествию»).
Зарницы мятежного «богоотступничества», когда с уст срываются клятвы переметнуться в стан князя тьмы («Отречение святого Петра», «Моление Сатане»), нет-нет да и рассекают свинцовую мглу тоски и сердечной растравы («Разбитый колокол», «Осенняя песня», «Дурной монах»), цепенящего страха перед необратимым ходом времени («Часы»), бреда среди бела дня («Семь стариков», «Скелет-землероб») – всех тех мучительных душевных перепутий, проникновенность передачи которых изнутри особенно способствовала распространению славы Бодлера на рубеже XIX—XX вв. Сугубо личное всякий раз повернуто у него так, чтобы вобрать истину черных часов своих сверстников («Полночная самопроверка»), да и трагического людского удела на земле («Крышка», «Бездна»).
В свою очередь, передуманное обретает у Бодлера всю свою полновесность, когда предстает прожитым и дает толчок к тому, чтобы прихотливо разматывался клубок воспоминаний, мечтаний, воображаемых метаморфоз непосредственно наблюдаемого. Метафорический оборот, навеянный предельно изощренной ассоциативной чувствительностью Бодлера к запахам, краскам, приметам вещей, мерцающе колышется между предметным обозначением и намекающей отсылкой к ощущениям, иносказанием и прямосказанием. Внешнее, созерцаемое в таких случаях овнутрено, а внутреннее, испытываемое сейчас – овнешнено:
Будь мудрой, Скорбь моя, и подчинись Терпенью.
Ты ищешь Сумрака? Уж вечер к нам идет.
Он город исподволь окутывает тенью,
Одним неся покой, другим – ярмо забот.
...............
Ты видишь – с высоты, скользя под облаками,
Усопшие Года склоняются над нами;








