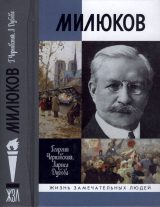
Текст книги "Милюков"
Автор книги: Георгий Чернявский
Соавторы: Лариса Дубова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц)
Глава вторая
ПУТЬ В БОЛЬШУЮ НАУКУ
Начинающий ученый и учительОставление окончившего курс обучения летом 1882 года Милюкова при университетской кафедре русской истории прошло более или менее гладко. Правда, некоторые сомнения высказал В. О. Ключевский, полагавший, что одновременное увлечение русской и зарубежной историей может привести соискателя к верхоглядству. Позже Милюков высказывал мнение, что Ключевский уже почувствовал в нем, своенравном молодом человеке, конкурента, который станет оспаривать его методы изучения отечественного прошлого.
Думается, однако, что находившийся в зените славы, да еще и преподававший историю царскому сыну Георгию Александровичу Ключевский никак не мог испытывать такие чувства. Скорее всего, он имел в виду именно то, чем мотивировал свои сомнения: слишком широкий круг интересов Милюкова, который мог воспрепятствовать его научной специализации. Он оказался прав, хотя Милюков, создав ряд ценных исторических трудов, сравнительно скоро расстался с русской историей по другой причине – он стал профессиональным политиком.
Пока же необходимо было закрепить оставление при кафедре научным сочинением, которое именовалось тогда кандидатским. Его полагалось представить факультетскому совету не позднее чем через шесть месяцев после окончания университета. 15 декабря 1883 года на факультете была рассмотрена работа выпускника «О землевладении Московского государства XVI века». Ключевский в отзыве отметил использование в работе важных архивных источников – писцовых книг – и статистическую обработку материала, добавив, что «все свои положения автор подкрепляет многочисленными цифрами и таблицами, составление которых стоило ему большого труда»{105}. Это был серьезный и уважительный отзыв. Ознакомление с черновыми материалами этой работы показывает, что у Милюкова вырабатывался свой стиль источниковедческого анализа: он не только делал выписки и цитировал документы, но и сравнивал их, тут же формулируя первичные выводы. Таким образом, уже на начальном этапе работы у него складывалась определенная концепция, которая затем, трансформируясь, становилась фрагментом будущей работы{106}. Такой стиль научного анализа позже стал ведущим в творчестве ученого и значительно ускорял работу над новыми произведениями.
Седьмого мая 1884 года Милюков получил новый аттестат, удостоверявший, что он окончил курс при «очень хорошем поведении» и «отличных успехах» и утвержден в степени кандидата. Факультетское и университетское руководство поостереглось оценить поведение Милюкова как отличное, помня, что его обучение на выпускном курсе было прервано в связи с участием в студенческих беспорядках. В этом, однако, не было, по крайней мере в тогдашних условиях, какой-либо опасности – на «проступки», приведшие к снижению оценки за поведение, смотрели сквозь пальцы.
Оставление при кафедре было делом в известной степени условным. Оно давало право сдавать магистерские экзамены и писать соответствующую диссертацию, не исключалось и преподавание какого-либо специального курса, однако штатным сотрудником университета соискатель не становился и должен был заботиться о хлебе насущном.
Милюков специально не готовился к преподавательской стезе, да и никакие педагогические дисциплины студентам не читались. Предполагалось, очевидно, что при наличии некоторых исходных данных соответствующие навыки будут приобретаться опытным путем, который, видимо, считался наилучшим способом формирования хорошего преподавателя. Всякие методики преподавания предметов, в частности истории, появились в университетском образовании через много лет.
Случай испытать себя в качестве школьного учителя подвернулся сразу после выпускных экзаменов. Через знакомых Павел получил сразу несколько предложений, которые давали возможность и прилично существовать, и приобретать педагогический опыт, и формировать свою концепцию отечественной истории, и налаживать новые связи. Павел стал преподавать историю в 4-й женской гимназии на Садово-Кудринской улице и в Земледельческом училище на Смоленском бульваре. Его больше привлекала работа в гимназии – не только потому, что это было одно из наиболее престижных женских учебных заведений Москвы, но и в связи с тем, что 25-летнего учителя волновали почти взрослые ученицы, которые при встрече, почтительно делая книксен, кокетливо поглядывали на учителя. В женской гимназии Милюков проработал почти 12 лет, до высылки из Москвы в 1895 году.
И девичье внимание, и любовь к преподаваемому предмету вносили живость в обучение. Милюков отказался от зубрежки. Материал учебника оставался обязательным минимумом знаний, но цель состояла в том, чтобы девушки не заучивали материал, а понимали логику явлений и событий. Происходило почти невероятное – события и даты запоминались как бы сами собой. Половину урока Павел беседовал с классом, стимулируя его к дискуссии, постановке вопросов и поиску ответов. В своем рассказе он уделял внимание не столько деятелям и событиям, сколько схеме исторического процесса. Немало времени уходило и на повторение пройденного. Вторая половина каждого урока посвящалась изложению новой темы, которое можно было прерывать вопросами, а материал следовало конспектировать. Всё это вносило в преподавание известную «демократическую» новизну, за которую Павла нередко ругали старшие коллеги; однако, судя по тому, что официальных замечаний он не получал, администрацию гимназии такой подход устраивал.
Такой же метод обучения он применял и в Земледельческом училище. Там однажды к нему на урок без предупреждения явился ревизор, который отметил, что ученики знают историю лучше, чем обычно в подобных учебных заведениях «специального предназначения»{107}.
Но с гимназистками – в основном девушками из богатых купеческих семей – Павлу было значительно приятнее иметь дело. Несколько раз он посвящал уроки истории в разных классах нравам пушкинской эпохи, рассказывал биографию поэта, а затем предлагал девицам вслух читать отобранные им стихи. «Дело не обошлось без трудностей: раз, по недосмотру, я дал прочесть лучшей ученице одно из лицейских стихотворений с весьма опасными местами. Она прочла его, не сморгнув глазом, а другие не подали вида, что что-то вышло неладно. Дело обошлось без последствий»{108}. Можно не сомневаться, что никакого недосмотра не было – у молодого учителя играла кровь, и его эмоции передавались ученицам. Скорее всего, гимназистка «не сморгнув глазом» прочитала пушкинскую «Вишню», в которой вполне откровенно описывался акт любви, но без неприличной лексики, встречавшейся в других ранних стихах поэта.
Однако всё же главной своей задачей после окончания университета Милюков считал подготовку к магистерскому экзамену. Это была далеко не простая проверка знаний. Хотя считалось, что на степень магистра надо было сдать только один экзамен, по существу, речь шла и о проверке знаний по сопутствующим предметам. В данном случае, помимо русской истории, проверялись знания всеобщей истории и политической экономии. Вопросы требовали углубленного изучения первоисточников, чтения монографий, определения самостоятельной позиции. Весьма любопытна была одна из тем политической экономии: «Место изолированного государства», то есть отстраненного от любых внешних влияний и связей. Разработку этой проблемы Милюков позже использует применительно к структуре русского быта в своих четырехтомных «Очерках по истории русской культуры».
Круг научных занятий Павла после окончания университета был широким. В детальном отчете за второе полугодие 1884 года он сообщал, что наиболее подробно работал над тремя главными темами: дипломатическими отношениями с Литвой при Иване III и Василии III; историей поместного владения; крестьянским вопросом до реформы 1861 года. При этом он признавал, что результаты его анализа не всегда были достаточны для достоверных научных выводов{109}.
Готовясь к магистерскому экзамену, Павел Милюков одновременно стремился попасть в штат университета. Чтобы стать приват-доцентом, необходимо было, помимо сдачи экзамена, подготовить и прочитать несколько пробных лекций по тематике исследований, так что невозможно было обойтись компиляцией с высказыванием некоторых своих мыслей. Надо было напряженно трудиться.
При этом Павел сознательно создавал себе дополнительные трудности. Еще со студенческих лет он критически относился к формально-хронологическому построению исторических курсов. По окончании университета, углубляясь в научную работу и преподавание, он всё более утверждался в мнении, что курс отечественной истории необходимо строить по проблемам. Именно такой подход он избрал при определении тематики пробных лекций.
Он предполагал в будущем читать общий курс русской истории, что требовало глубокого знания историографии и построения на этой базе своей концепции исторического процесса. Поэтому одной темой своих пробных лекций он избрал именно историю развития отечественной исторической науки. В то же время, определяя область истории, которая была слабее всего разработана учеными, он вслед за Виноградовым убеждался, что таковой является история быта и учреждений. А разработка этих вопросов требовала знания содержания архивных фондов, умения извлекать из них необходимую информацию и доказательно использовать ее. Так возникла вторая тематика пробных лекций.
Занявшись историографией, Милюков провел сопоставление взглядов трех крупных русских историков – Бориса Николаевича Чичерина, Константина Дмитриевича Кавелина и Василия Ивановича Сергеевича. Милюков анализировал взаимодействие исторических и политических взглядов Чичерина – виднейшего представителя «государственной школы» в русской историографии, сосредоточив свое внимание на его труде «История областных учреждений Московского государства XVIII века», попутно обращая внимание и на другие его работы, в частности на «Опыты по истории русского права», где обосновывалась решающая роль государства в русской истории. Милюков показывал, что оценка этим ученым исторического значения государства в значительной мере соответствовала гегелевской философии истории.
Развитием и значительной модификацией схемы Чичерина молодой ученый считал взгляды Кавелина – также сторонника «государственной школы», обращавшего особое внимание на то, что государство, «высшая форма общественного бытия русского народа», являлось инициатором и гарантом прогресса.
Наконец, Милюков констатировал, что труды Сергеевича, особенно о земских соборах в Российском государстве, свидетельствуют о стремлении автора вырваться за пределы «юридической школы».
Наработки при подготовке пробных лекций по историографии позже вылились в статьи и стали фундаментальной базой «Очерков по истории русской культуры».
Вторая тема пробных лекций должна была относиться к сугубо специальным вопросам отечественной истории и демонстрировать умение будущего профессора работать с источниками – выявлять, определять степень подлинности, трактовать содержание, воссоздавать на их основании истинную картину жизни общества.
Занимаясь в архивах, Милюков уже имел дело с разрядными книгами конца XV–XVII века, куда записывались извлечения из официальных документов по конкретным вопросам государственного управления как директивного, так и информационного характера: повод и порядок употребления «служилых военных сил», ежегодные назначения служилых людей на военные, гражданские и придворные должности. В них содержались статистические сведения, в частности перечислялись «береженые головы» – те жители Москвы, которых надо было охранять от пожара и «всякого воровства». Встречались также «записи о счетных делах» в конце каждого года – отчеты о финансовом состоянии государства.
Милюков познакомился с несколькими разновидностями разрядных книг. Наиболее полными были так называемые служебные книги (или пространная редакция родословных книг). Их оригиналы не сохранились, однако в большом числе существовали всевозможные копии, отрывочные записи, взаимно противоречащие и во многих случаях явно сфальсифицированные в угоду лицам, по распоряжению которых они делались. Были и краткие редакции разрядных книг, причем как официальные (так называемые государевы разряды середины XVI – начала XVII века), так и составляемые по частной инициативе. В архиве Министерства иностранных дел Милюкову удалось обнаружить правительственный текст 1556 года, в который были добавлены тексты 1565 года. Путем кропотливого анализа, многочисленных сопоставлений Павлу удалось доказать официальный характер этой разрядной книги. Именно она легла в основу второй пробной лекции «Древнейшая разрядная книга», разумеется, с обширным экскурсом в историю этого вида источников. Спустя довольно продолжительное время Милюков опубликовал результаты своих исследований вместе с текстом названной разрядной книги{110}.
Надо отметить, что авторы работы о первом этапе деятельности Милюкова выражают обоснованное сомнение в том, что уже в пробной лекции была доказана подлинность древнейшей разрядной книги. Сопоставляя даты работы Милюкова в архиве с датой пробной лекции, они считают, что в аудитории Павел лишь высказал предположение, которое затем было доказано в опубликованной работе{111}.
Обе пробные лекции были прочитаны успешно. Слушатели – и студенты, и профессура – выразили удовлетворение, хотя и отметили, особенно студенчество, некоторую сухость изложения. Так или иначе, традиционное неофициальное решение dingus est intrare (достоин вступить), весьма лестное для молодого ученого и педагога, было принято. Практически же это выразилось в том, что 19 октября 1887 года Милюков был принят в Московское общество истории и древностей российских{112} – старейшее и авторитетнейшее научное объединение историков, основанное еще в 1804 году. Членство в обществе давало возможность участвовать в его научных конференциях и диспутах, устанавливать неформальные контакты со специалистами, публиковаться в изданиях общества, в частности в его «Записках и трудах», «Русском историческом сборнике», «Русских достопримечательностях». Быть представленным в этих изданиях считалось весьма почетным для исследователей российской истории.
Имея в виду скорее не уже достигнутые научные результаты, а интерес к материальным памятникам отечественной праистории, Павла приняли еще в два авторитетных научных объединения – Московское археологическое общество и Общество естествознания, географии и археологии.
Всё это значительно расширяло возможности не только научной, но и общественной деятельности. Он не просто состоял в этих организациях, а деятельно трудился: выступал с докладами, рецензировал материалы коллег как устно, так и в печатных органах.
Милюков был активным участником VIII археологического съезда, проходившего в Москве в январе 1890 года. Правда, в то время он еще не участвовал непосредственно в археологических раскопках, но и сам предмет археологии понимался тогда расширительно – к ней относилось всё, что было связано с древностями, тем более с материальной культурой старых цивилизаций. На съезде Павел работал секретарем отделения древностей историко-географических и этнографических, а также выступил с докладом об одной из греческих «записок» о славяно-греческих отношениях, сумев путем анализа текста сравнительно точно датировать ее между 783 и 813 годами. О съезде Павел написал большую статью{113}.
На первый взгляд может показаться удивительным, но по существу было логичным, что в такое развитие карьеры молодого человека вплелось изменение его семейного статуса. Он женился на коллеге.
Маловероятно, что до начала 1888 года, когда Павлу исполнилось уже 29 лет, у него не было связей с представительницами прекрасного пола. Однако мы остаемся о них практически в неведении. Заигрывания молодого учителя с почти взрослыми гимназистками были, конечно, совершенно невинными. Но о том, что «что-то было», свидетельствует упоминание, как он «каялся» будущей жене: «На моем листе было кое-что написано. Рассказав про свои тайны, я почувствовал – да и она тоже, – что взаимное ознакомление перешло границу, за которой начинается взаимность»{114}. В рукописи мемуаров Павел Николаевич упомянул, что в студенческие годы у него была недолгая связь с некой замужней дамой{115}, однако редакторы первого издания, заботясь о репутации Милюкова, вычеркнули эти строки. Не вошли они и в современные издания.
Между тем в 1877 году в доме В. О. Ключевского Павел познакомился с ученицей профессора Анной Смирновой, дочерью протоиерея Сергея Константиновича Смирнова, видного церковного историка и специалиста по древнегреческому языку, профессора и помощника ректора Московской духовной академии. Анна, годом младше Павла, только что окончила Высшие женские курсы, организованные профессором Герье, на которых Ключевский преподавал русскую историю, и собиралась под его руководством вести научную работу.
Как раз в это время в высших церковных и правительственных кругах обсуждался вопрос о назначении нового ректора академии, и в конце концов выбор пал именно на Смирнова – в 1878 году он стал ректором и председателем совета и правления академии. В следующем году по его инициативе стал функционировать Комитет по изданию творений Святых Отцов, и Сергей Константинович стал его председателем. Начал выходить издаваемый комитетом академический журнал под названием «Творения Св. Отцов»; Смирнов не только руководил им, но и печатал в нем свои исследования. Он продолжал читать лекции по древнегреческому языку и словесности. Только в 1884 году с введением нового устава академии он как ректор должен был выбрать какой-нибудь богословский предмет и стал преподавать курс Нового Завета. Смирнов оставил пост ректора в 1896 году и скончался через три года.
У С. К. Смирнова были сын и шесть дочерей. Сын уже служил священником, четыре дочери пребывали в замужестве (из них три – за лицами духовного звания). Самая младшая позже выйдет замуж также за священнослужителя и профессора академии.
А вот предпоследняя дочь Анна в эту традицию не очень вписывалась. За ней ухаживали холостые преподаватели академии, но все получали от ворот поворот не только потому, что Анна увлекалась наукой, но и в силу определенной «светскости» ее характера, образа мышления и манер. Она была человеком решительным: когда отец воспрепятствовал ее поступлению на женские курсы, она просто ушла из родительского дома, сняла крохотную квартирку в Москве и стала кормиться уроками музыки. Она была хорошей пианисткой, и учеников было много, что не препятствовало ей быть образцовой курсисткой, почему Ключевский и выделил ее среди других слушательниц.
Вначале знакомство Милюкова с Анной Смирновой носило, как он рассказывал, чисто товарищеский характер, представляло собой общение коллег. Правда, очень быстро отношения стали превращаться во всё более близкие, хотя еще не любовные. «Оба мы почувствовали потребность знать друг о друге больше, чем дозволяло простое знакомство, – так сказать, проэкзаменовать друг друга. В то же время мы не хотели вводить в свои отношения третьих лиц, а она не желала принимать меня в своей скромной квартирке»{116}.
Молодые люди стали встречаться в отдаленном городском сквере, поверяя друг другу не только заботы, но и тайны. Затем встречи были перенесены домой к Анне. Последовало предложение руки и сердца, которое было принято, но с отсрочкой свадьбы на какое-то время, чтобы проверить взаимные чувства. «Проверочный период» продолжался недолго – обе стороны согласились, что тянуть более не следует, встретились с родителями и объявили им о своем решении вступить в брак.
Венчание состоялось 11 января 1885 года в женском Покровском Хотьковом монастыре, недалеко от Троице-Сергиевой лавры, но в месте пустынном – молодые люди не желали широко оповещать о своем браке. Только через четыре года, 11 июля 1889-го, в семье появился первенец Николай, в 1895-м родился Сергей, а еще через три года – Наталья. Родителей пережил только старший сын – он скончался в 1957 году. Наталья умерла в 23 года, едва успев выйти замуж за инженера Дмитрия Сократовича Старынкевича, сына известного царского чиновника, и пережив мужа, умершего в 1920 году в Ростове-на-Дону от тифа, всего на год. Еще раньше, в 1915-м, на фронте Первой мировой войны при отступлении русских войск из Восточной Галиции погиб Сергей.
Павел Николаевич прожил с женой 47 лет – до ее смерти во Франции в 1935 году. По поводу семейных трагедий А. В. Тыркова-Вильямс писала в некрологе: «Я знала всю бездонность горя А[нны] С[ергеевны], она была редкой матерью и жила одной жизнью с детьми»{117}.
Тем не менее Анне Милюковой нравилась исследовательская работа – позже она опубликовала ряд статей о женском движении в России. Одновременно она занималась общественной деятельностью, активно участвуя в организациях, боровшихся за эмансипацию женщин, полное уравнивание их в правах с мужчинами. Постепенно отношения супругов охладели (да и с самого начала этот брак был результатом скорее холодных размышлений, нежели страстных чувств), хотя в переписке Анна Сергеевна явно была более нежной, чем Павел Николаевич.
Как видим, в личной жизни Милюкова встречались и радости, и невзгоды. Но если след от тех и других и оставался в душе, то в самой ее глубине. Наружу чувства не выплескивались. В воспоминаниях Милюкова даже не названы даты рождения его детей.
Согласно принятым в тогдашней России обычаям, после свадьбы новобрачные должны были поселиться в доме мужа. Но у Павла своего дома не было. Жил он в это время вместе с матерью в гостиничных номерах в Большом Козихинском переулке, в районе Патриарших прудов, чуть в стороне от Большой Бронной. Журналист П. Иванов оставил описание Козихи в конце XIX века: «Узкие, преузкие улицы… Небольшие колониальные лавочки с немытыми окнами. Отталкивающего вида ворота. Безобразные дворы – антисанитарные до последней возможности. И всюду вонь, смрадная вонь подвалов, отхожих мест и помойных ям. В воздухе словно носятся ядовитые испарения… Население почти сплошь состоит из пролетариата – людей без определенных занятий, мелких канцелярских служащих, вдов и женщин разного типа»{118}.
При всём своем показном демократизме начинающий ученый, общавшийся с московской интеллектуальной элитой, давно уже стремился расстаться с этим районом. Решение было ускорено поведением матери: по неизвестной причине, скорее всего просто в силу характера, она не одобрила выбор сына и невзлюбила невестку. Анна встречала выражения ее недовольства сдержанно, но тем сильнее была материнская агрессия. Дотерпев до лета, молодые супруги нашли дешевую квартиру в полуподвале на Садовом кольце, в районе Зубовского бульвара, куда и переселились.
Их соседом оказался преподававший в университете иностранную литературу крупный шекспировед Николай Ильич Стороженко. Узнав о появлении в доме коллеги, он стал приглашать Павла с Анной в гости. Квартира Стороженко была местом сбора молодых тружеников пера, представителей только формировавшихся литературных течений, в частности символистов, импрессионистов и других «декадентов», то есть проповедников «упадничества», как их высокомерно называли консерваторы.
Стороженко буквально боготворила молодежь, которой он, тонкий ценитель талантов, покровительствовал. Назначенный библиотекарем (директором) библиотеки Румянцевского музея, Стороженко сразу же обратил особое внимание на научные отделы библиотеки и за непродолжительное время, насколько позволяли средства, довел их фонды до максимальной полноты. Вслед за этим он стал организатором особой общедоступной научно-популярной библиотеки, общего читального зала, непрестанно обновлявшего литературу и имевшего свой капитал.
У Стороженко Милюков познакомился с Константином Дмитриевичем Бальмонтом. Ему недавно исполнилось 20 лет, но он уже заслужил известность как талантливый поэт и блестящий переводчик. Незадолго до знакомства с Павлом Бальмонт издал первый сборник стихов. Милюкову было интересно беседовать с Бальмонтом еще и потому, что тот в ранней юности сотрудничал с революционными народниками, а будучи студентом юридического факультета Московского университета, некоторое время поддерживал связь с тайными кружками, за что и был исключен.
Через много лет Милюков, став редактором русской эмигрантской газеты, будет не очень охотно печатать стихи Бальмонта, считая их не соответствующими позициям эмигрантской интеллигенции. Пока же он просто восхищался «солнечным поэтом», как вскоре назовут Бальмонта, и его стихами.
На встречи у супругов Стороженко приходил и известный математик Николай Васильевич Бугаев, иногда приводивший с собой десятилетнего сына Андрея, который позже станет известным поэтом Андреем Белым. Мальчик, скучавший в обществе взрослых и затаивший раздражение на эти сборища (отец брал его с собой, скорее всего, потому, что дома его не с кем было оставить), позже совершенно безосновательно обрушится и на Стороженко, и на тех, кто у него бывал, включая Милюкова. «Я научился, как не следует писать и как не следует интерпретировать литературные феномены», – писал А. Белый{119}. Такой несправедливости Милюков не мог простить и не раз с обидой вспоминал ее, в том числе в мемуарах{120}.
Стороженко, у которого были обширные контакты с европейскими литературными кругами, связал Павла с лондонским журналом «Атенеум», дав молодому человеку рекомендацию как способному литературному критику и обозревателю. Начиная с 1889 года Павел писал для этого журнала ежегодные итоговые обзоры русской художественной и общественно-политической литературы. Это был его первый выход на арену европейской журналистики.
Судя по воспоминаниям и некоторым документам, уже к этому времени отношения супругов Милюковых не были особенно нежными. Они, люди трезвомыслящие, исполняли все обязанности членов образцовой семьи среднего достатка, однако у каждого была своя жизнь, в которую второй супруг не вмешивался. В начале 1890-х годов Павел познакомился с С. С. Маньковской, писательницей и журналисткой, ныне полностью забытой, которая стала его любовницей. Милюков пытался помочь ей пробиться в журналы, но, несмотря на дружеские чувства к нему, редакторы оказались единодушны – ни один «толстый журнал» не принял к публикации произведения его протеже, хотя некоторые редакторы признавали наличие у нее способностей, которые, если их развивать, могли бы дать какие-то результаты. Эта связь продолжалась до 1897 года. Видимо, Маньковская настаивала, чтобы Павел ушел к ней. Он отказался. Произошел разрыв, и больше они, по всей видимости, не встречались[2]2
А. В. Макушин и П. А. Трибунский, ссылаясь на личный архивный фонд Ивана Шишманова в Архиве Болгарской академии наук, сообщают, что позже, находясь в Болгарии, Милюков краткое время находился в близких отношениях с сестрой профессора Ивана Шишманова Марой (Марией) (см.: Макушин А. В., Трибунский П. А. Павел Николаевич Милюков: Труды и дни (1859–1904). Рязань, 2001. С. 44). Однако в дневнике Шишманова (Шишманов И. Дневник. 1879–1927 гг. София, 2003) имя его сестры вообще не упоминается.
[Закрыть].
Однако в центре интересов, всей жизни Павла Милюкова продолжал оставаться Московский университет. Прочитав пробные лекции, он получил право на преподавание в университете, а в июле 1886 года после ряда бюрократических процедур был зачислен приват-доцентом историко-филологического факультета.
Этот ранг был очень скромным. Он сравним со статусом внештатного преподавателя-почасовика в современных вузах. Немаловажное отличие от должности штатного доцента, которая к этому времени в российских университетах почти исчезла, состояло в том, что за тот же труд приват-доцент получал не «жалованье», а «вознаграждение», значительно меньшее по размерам. Об этом Милюков несколько позже с досадой писал в энциклопедической статье, посвященной университетскому образованию в России{121}. Павел, разумеется, не мог претендовать на чтение общего курса русской истории, которым «монопольно владел» Ключевский. Трезво оценивая свой потенциал, он еще не считал себя достаточно подготовленным. Его уделом стали курсы, не обязательные для студентов (в наше время их называют факультативными), на которые записывались те, кто проявлял особый интерес к их тематике. Слушателей было немного, но это были люди, всерьез рассчитывавшие посвятить себя науке.
Поэтому Милюков решил по примеру Виноградова сочетать лекции с семинарами, на которых заслушивались и обсуждались студенческие доклады. Постепенно он утвердился в мнении, что лекционный курс необходимо строить проблемно-хронологически, то есть рассматривать в пределах эпохи отдельные вопросы, составляющие ее сущность. Правда, он подчас сомневался, следует ли хронологически выделять крупные эпохи, о чем писал Александру Сергеевичу Лаппо-Данилевскому{122}.
Одним из его слушателей был Александр Александрович Кизеветтер, позже ставший известным русским историком. Он вспоминал: «Лекции Милюкова производили на тех студентов, которые уже готовились посвятить себя изучению русской истории, сильное впечатление именно тем, что перед нами был лектор, вводивший нас в текущую работу своей лаборатории, и кипучесть этой исследовательской работы заражала и одушевляла внимательных слушателей. Лектор был молод и еще далеко не был искушен в публичных выступлениях всякого рода. Даже небольшая аудитория специального состава волновала его, и не раз во время лекции его лицо вспыхивало густым румянцем… Молодой лектор сумел сблизиться с нами, и скоро мы стали посещать его на дому. Эти посещения были не только приятны по непринужденности завязывавшихся приятельских отношений, но и весьма поучительны. Тут уже воочию развертывалась перед нами картина кипучей работы ученого, с головой ушедшего в свою науку. Его скромная квартира походила на лавочку букиниста… Письменный стол был завален всевозможными специальными изданиями и документами. В этой обстановке мы просиживали вечера за приятными и интересными беседами»{123}.
Как видим, следуя примеру своих учителей, Павел стал приглашать студентов к себе на квартиру. Это стало возможным, поскольку уже на первом году чтения университетских лекций доход несколько возрос и он с женой смог переехать в значительно более комфортабельную квартиру на Плющихе, где прежде всего позаботился об устройстве кабинета и непрерывно растущей библиотеки: были куплены книжные шкафы и книги расставлены так, чтобы в любой момент можно было достать нужный том.
Впрочем, с читаемыми Милюковым специальными курсами не всё было гладко. Среди преподавателей стал распространяться слух, что своими новаторскими курсами истории древнерусской колонизации и исторической географии (они требовали серьезной подготовки и эрудиции не только в области отечественной истории, но и в смежных науках) Милюков будто бы опровергает позицию маститого Ключевского, считавшего, что в Древней Руси происходило неуклонное перемещение племен с юга на север (это давало ему основания рассматривать древний Киев как чисто русский город, что явно не нравилось сторонникам уже возникшего и активно пропагандируемого «украинизма», столь же обоснованно рассматривавшего Киев как древнюю украинскую столицу).






