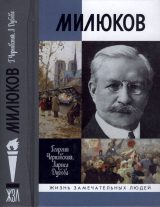
Текст книги "Милюков"
Автор книги: Георгий Чернявский
Соавторы: Лариса Дубова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц)
Часть первая

ИСТОРИК
Глава первая
НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛА
Раннее детствоВидный российский историк, публицист, политический и общественный деятель Павел Николаевич Милюков родился 15 января 1859 года[1]1
Все даты, связанные с историей России до марта 1918 года, приводятся по юлианскому календарю. Датировка событий, происходивших за рубежом, а также более поздних событий в России (СССР) дается по григорианскому календарю.
[Закрыть]. В метрической книге Московской духовной консистории записано, что это произошло «в Москве в доме артиллерии подполковника К. В. Тишенинова. 26 января младенец был крещен в Предтеченской, что в Кречетниках, церкви, Пречистенского сорока, приходским священником А. К. Смирновым»{29}.
Еще задолго до его появления на свет родители договорились, что ребенок будет назван в честь святого, чья память празднуется в день, когда он родится. 15 января было днем поминовения святого преподобного Павла Фивейского. Милюков через десятки лет вспоминал, что ему было в детстве очень обидно – у других детей были дни рождения и именины, на которые приглашали гостей, приносивших подарки, ему же такая радость выпадала только раз в году, поскольку день рождения и именины совпадали{30}.
Первый западный биограф Милюкова американский историк Томас Риха начинает свою книгу о становлении Милюкова как политика констатацией совпадений. В тот самый день, когда родился Павел, на свет появился будущий последний германский император Вильгельм II. Российский политик и немецкий кайзер никогда не встречались, но интерес к Германии и особенно к ее внешней политике был постоянно присущ Милюкову, причем, добавим, это всегда был не особо дружественный интерес; в 1917 году именно он в качестве министра иностранных дел Временного правительства настаивал на продолжении войны против Германии до победного конца. Правда, позже Милюков в течение недолгого времени пытался установить контакт с германскими дипломатами и военными для совместной борьбы против большевистской власти.
В день, когда будущий русский ученый и политик появился на свет, в Петербурге заседали Редакционные комиссии во главе с либералом Яковом Ростовцевым, готовившие текст документа об отмене в России крепостного права. Манифест, подписанный императором Александром II еще через два года, 19 февраля 1861-го, положил начало освобождению крестьян и сравнительно быстрому экономическому и социальному развитию России. Однако еще оставались значительные пережитки крепостничества (прежде всего кабальные условия аренды земли – отработки, испольщина), и Милюков как руководитель либеральной Конституционно-демократической партии уделял исключительное внимание полному преодолению остатков феодализма в российской деревне, превращению крестьян из забитого сословия в равноправный и активный класс прогрессивных земледельцев-землевладельцев.
В дни, непосредственно следовавшие за рождением Павла, в лондонском журнале «Колокол» шла дискуссия его издателя Александра Ивановича Герцена с просветителем украинского народа Николаем Ивановичем Костомаровым о необходимости отказа от рассмотрения территории Украины как Малороссии, признания украинцев формирующейся нацией и создания равноправной федерации народов на месте самодержавной империи. Как мы увидим, проблема места Украины в Российском государстве, решение национального вопроса в целом на началах равноправия и сотрудничества наций также будет находиться в сфере внимания Милюкова на протяжении многих лет.
Т. Риха лишь несколькими строками обозначил все эти совпадения{31}. Детально о них будет идти речь в соответствующих разделах нашей книги.
Отец Павла, Николай Павлович, происходивший из семьи тверских мещан среднего достатка, перебравшихся в Сибирь в поисках лучшей доли, возводил свою родословную к глубоким далям русской истории. Существовала некая грамота, упоминавшая, что его отдаленный предок Семен Мелюк (Мелик), «выходец из немцев», участвовал в Куликовской битве и отдал свою жизнь во имя освобождения Руси. Мелюк происходил вроде бы из Тверского княжества. По этой причине Николай Павлович, собрав дополнительные бумаги, обратился в Тверское дворянское собрание, чтобы быть признанным потомственным дворянином. По мнению местных дворянских лидеров, бумаг оказалось недостаточно, и в признании дворянства Милюковым было отказано{32}. Впрочем, отец не сильно переживал по этому поводу – во второй половине XIX века принадлежность к «благородному сословию» постепенно начала девальвироваться.
Дед и полный тезка Павла, отправившись из Твери в Сибирь на поиски золота, вложил в экспедицию весь свой капитал и почти полностью разорился, возвратившись в Москву лишь с остатками былого состояния; правда, их хватило на то, чтобы дать детям приличное образование.
Сын неудачливого золотоискателя проявил художественные способности, но ярким талантом не блистал. Несмотря на это, отец смог добиться его принятия в Академию художеств, которую Николай Павлович окончил как «середнячок», без каких-либо наград.
Николай Павлович не был чрезмерно претенциозным. Получив специальность архитектора, он не стремился особо выдвинуться, спроектировав лишь несколько зданий, которые были оценены специалистами как оригинальные архитектурные творения. Он, правда, на конкурсе в Академии художеств получил премию за этюд «Христос среди палачей», но она оказалась единственной его наградой за художественное творчество.
Николай Павлович читал курс архитектуры в Училище живописи и ваяния Московского художественного общества (с 1865 года – Московское училище живописи, ваяния и зодчества), но и на преподавательском поприще особых высот не достиг. Поскольку жалованье в училище не было высоким, он перешел на «практическую» работу – стал оценщиком произведений искусства в одном из московских банков. Там он и завершил свою карьеру. В 1857 году указом императора Александра II ему был пожалован чин титулярного советника, соответствовавший чину армейского пехотного капитана{33}.
В то же время он был образованным, начитанным, великолепно знал историю искусств, особенно архитектуры. Его сын почерпнул первоначальные художественные знания именно из альбомов отцовского книжного собрания, которое позже перешло к нему по наследству. Из книг этой библиотеки П. Н. Милюков, помимо альбомов и архитектурных справочников, особенно запомнил гомеровскую «Илиаду» и тома «Русского архива», что явно выдает ранний интерес к отечественной и мировой истории.
В первые годы жизни Павла родители часто меняли место жительства: вначале обитали в Лефортове, затем перебрались в самый центр Москвы, в район Арбата, где поселились в Староконюшенном переулке, а чуть позже – на пересечении этого переулка с Сивцевым Вражком, где занимали комфортабельную четырехкомнатную квартиру. У семьи была и небольшая дача в поселке Пушкино.
Павлик рос энергичным, бойким, но в общем более или менее спокойным ребенком. Его брат-погодок Алексей был куда более резвым, непоседливым, непослушным.
В своих воспоминаниях Милюков был довольно осторожен в оценке взаимоотношений между родителями. Будучи человеком крайне деликатным во всём, что не касалось крупных политических вопросов, он стремился осветить как можно более общими словами ранние детские впечатления о родительских склоках, глубоко запавшие ему в душу, но подчас они всё же прорывались. Вот одно из них: «Мы сидим в слабо освещенной керосиновой лампой комнате. Между отцом и матерью ведется крупный разговор, для нас непонятный и кончающийся тем, что в отца летит тарелка и разбивается о противоположную стену. Мы сидим ни живы ни мертвы и потихоньку хныкаем. В таких случаях на младенцев не обращают внимания – и напрасно. Эта сцена отложилась у меня в памяти на всю жизнь»{34}.
Историк Н. Г. Думова полагает, что у Милюковых семьи как таковой не было – между родителями существовал настолько глубокий разлад, что дети были предоставлены сами себе{35}. Разлад действительно был, но он не разрушил семью, а о детях заботились так, как было принято в столичных разночинных семьях. Отец, занятый делами, предоставил все родительские заботы матери. В воспоминаниях Павла Николаевича говорилось: «Руководила нами мать; к ней мы были гораздо ближе – и ее по-своему любили, хотя и страдали по временам от припадков ее воли. Однако ее заботы ограничивались преимущественно внешней стороной воспитания и, вероятно, немногими моральными внушениями общего характера»{36}.
Мать, Мария Аркадьевна, была дама энергичная, волевая, шумная, временами даже истеричная. Дочь подполковника, она гордилась дворянским происхождением, кичилась девичьей фамилией Султанова, которая якобы должна была свидетельствовать об очень знатных восточных предках.
Она не только воспитывала детей в том духе, который сама усвоила и который был свойствен ее приятельницам, но и фактически являлась главой семьи. Ее нрав сложился еще до брака с Николаем Павловичем. Первым ее супругом был некий помещик Баранов, столь оголтелый крепостник, что его прикончили в поле крестьяне.
Милюков, по-видимому, не случайно включил рассказ об убийстве Баранова в свои мемуары{37}. Эпизод глубоко врезался в его память и стал, вместе с другими впечатлениями детства, одним из элементов того фундамента, на котором строились будущие либеральные воззрения Павла.
И природный характер матери, и ее дворянское происхождение, и первый брак, завершившийся гибелью мужа, предопределили ее поведение в новой семье. Кроме истерической выходки с бросанием тарелки Павлу особенно запомнились телесные наказания, которым он с братом подвергался в детском возрасте за малейший выход за рамки материнских наставлений. В «Воспоминаниях» читаем: «Конечно, общий уровень культурного быта семьи не мог не отразиться на нас: мы знали правила поведения, подчинялись им и вышли послушными, благонравными мальчиками»{38}.
Скорее всего, мать всерьез считала, что именно поркой детей, которую под ее руководством осуществлял послушный супруг, она создает и укрепляет свое семейное владычество. Телесными наказаниями детей, тем более осуществляемыми мужем по ее команде, она старалась компенсировать раздражение по поводу своей «неудавшейся жизни», считая второй брак явным мезальянсом. Вот как вспоминал об этом Милюков: «Кара появлялась как-то внезапно и была неумолима. Слезы, вопли, просьбы о прощении – ничто не помогало. Решение, продиктованное, конечно, матерью, выполнялось отцом. Приготовления к экзекуции ощущались, кажется, еще страшнее самой экзекуции. Потом отчаяние, нечеловеческие крики, боль, злоба, непримиренный конец, чувство обиды, несправедливости… Телесное наказание рвет моральную связь и уничтожает доверие к родителям. Между детьми и ними становится стена; за невозможностью взаимного понимания, сговора и убеждения создается система укрывательства внутренних побуждений и, по необходимости, лукавства и лжи»{39}. Из этих строк отчетливо видно, насколько глубокий след в его душе оставили отвратительные физические наказания. Это был еще один камушек в основание той системы моральных ценностей, которая формировалась у нашего героя.
Впрочем, ценности эти были весьма относительные. Саму систему оброка, фактически сохранившегося на два с лишним десятилетия после отмены крепостного права, ребенок воспринимал как должное – разумеется, по своим, чисто детским мотивам. У матери было небольшое имение в Ярославской губернии, и ежегодно в доме, где жила барыня, появлялись крестьянские посланцы – сильно «окавшие» мужики в армяках и лаптях, бабы в больших не очень чистых платках, привозившие всякую снедь. Павлу особенно по душе были черные жирные лепешки. Дома пытались их печь, но крестьянские были вкуснее. Так что первые контакты с земледельцами оставили в памяти скорее благостные чувства, хотя и сопряженные с чем-то странным, непривычным.
Читать Павлик научился как бы сам собой. Он не помнил, чтобы его специально учили буквам. Видимо, этим всё же занималась мать. Но никаких букварей он не знал. Единственным «пособием по чтению», которое он запомнил, был сборник басен Крылова. Не всё в них было понятно, особенно обязательно следовавшая за основным текстом «мораль», но стихи очень нравились, и многие из них остались в памяти на всю жизнь. Милюков вспоминал, что именно басни Крылова ввели его в «мир животных» – намного раньше сочинений Альфреда Брема.
За домашним обучением последовала некая «французская школа» – пансион, куда Павел и Алексей поступили «приходящими учениками». Обучение там было никудышным. Очевидно, что родители прельстились низкой оплатой. Несколько попыток матери хотя бы узнать, получают ли дети хоть какое-то «французское» или «русское» образование, привели к неутешительному ответу – оказалось, что детей там почти ничему не учат. Единственным учебником, который запомнился Павлу и Алексею, была некая книга по географии, одна на весь класс и, видно, настолько плохая, что ее коллективно ненавидели все ученики, а Милюковы взяли на себя инициативу истребления противника. При одобрении соучеников «География» была изорвана и спущена в отхожее место. Дети ожидали возмездия. Но… учитель просто не заметил происшедшего. Так география «была упразднена сама собой, не только в качестве книги, но и в качестве учебного предмета»{40}.
Поскольку детей собирались отдать в гимназию, для зачисления в которую необходимо было сдать вступительные экзамены, у родителей хватило разума забрать детей из пансиона. Но мать с отцом по-прежнему старались, чтобы подготовка чад к экзаменам обошлась как можно дешевле. Был найден старик-еврей по фамилии Блонштейн – видимо, неплохо образованный, но крайне нуждавшийся, – который согласился заниматься с ребятами за незначительную оплату. Занятия проходили в крохотной комнате его почти нищенской квартиры. Но это были подлинные уроки, преподаваемые хорошим педагогом, обладавшим неплохим кругозором, добросовестно относившимся к работе и заботившимся о детях. «Всё это внушало нам какое-то уважение», – вспоминал Милюков{41}. Однако мальчики уже привыкли, что серьезно относиться к занятиям не следует, что с уроками можно справиться кое-как, чтобы было побольше свободного времени для развлечений.
Павлу запомнились уроки арифметики и немецкого языка. Но главное, старый учитель просто научил его заниматься: вслушиваться в объяснения, работать над книгой, излагать выученное своими словами, выполнять элементарные задания. Как это ни казалось удивительным самому мальчику, и он, и младший брат были хорошо подготовлены к вступительным испытаниям, оказались в числе лучших и были приняты в гимназию в 1869 году{42}.
Гимназические годыКо времени поступления в гимназию у Павлика выработалась некоторая самостоятельность – стремление принимать решения, заниматься теми предметами, которые ему нравились, и кое-как справляться с остальными заданиями. Всё это рождало чувство оппозиционности к родителям и вообще к окружающему миру.
Гимназия – среднее учебное заведение для подготовки юношества к поступлению в университет, преимущественно на гуманитарные факультеты. Срок обучения составлял восемь лет.
Гимназические годы Павла (1869–1877) пришлись на то время царствования Александра II, когда правительство, сочтя, что либеральные реформы первой половины 1860-х годов зашли слишком далеко, несколько отступило, в частности в области образования.
Назначенный министром народного просвещения (1866) граф Дмитрий Андреевич Толстой вопреки протестам либералов и даже некоторых членов Государственного совета (совещательного органа при императоре) утвердил гимназический устав 1871 года, согласно которому гимназии еще более отрывались от реальной жизни и сосредоточивались на изучении классических языков – латыни и древнегреческого. Граф полагал, очевидно, что зубрежка склонений, спряжений и исключений, преклонение перед классической древностью создадут тот благоприятный фон, на котором в головы ученикам не будут проникать «вредные идеи».
Разумеется, «охранительный дух» доминировал и в той гимназии, где учился Павел, и он испытал все прелести зубрежки. Но всё же квалификация учителей в московских школах была выше, чем на периферии. В высоких кругах российской бюрократии на инициативу Толстого смотрели если не с осуждением, то во всяком случае с долей иронии, а в школьном образовании шла подспудная борьба между консервативным «классицизмом» и современным разносторонним общим образованием. Это касалось и 1-й мужской гимназии, в которой учился Милюков. Она находилась в самом центре Москвы – на Волхонке, в доме 16. Основанная еще в 1804 году, она была учебным заведением с внушительными традициями, знаменитым своими выпускниками. Здесь в разное время учились драматург Александр Николаевич Островский, историки Сергей Михайлович Соловьев и Михаил Петрович Погодин, знаменитый народник, философ и историк Петр Алексеевич Кропоткин, философ Иван Александрович Ильин, математик Василий Яковлевич Цингер, писатель Илья Григорьевич Эренбург, один из большевистских лидеров Николай Иванович Бухарин.
Годы учебы неоднозначно повлияли на формирование черт характера и мировоззрения Павла Милюкова. Это было связано и с атмосферой в учебном заведении, и с особенностями самого подростка.
Неожиданно для себя оказавшись одним из лучших среди поступавших, Павел решил, что знания будут ему даваться легко, что в классе он будет схватывать всё на лету. Оказалось, что это было не так. В результате после первых нескольких успешных месяцев учебы (он даже попал на «золотую доску» класса) он стал получать всё более низкие оценки и в списке учеников передвигался всё дальше, пока не оказался на одном из последних мест.
Вместе с тем начали проявляться рассудочность, стремление найти некий неопасный выход из сложного положения. Конечно, это были еще детские заботы и волнения, но в них уже проявлялись некоторые будущие черты политического мышления и действия.
Уже на первом году обучения произошел показательный случай. Павел, дежуривший по классу, заметил, что его младший брат уж больно расшалился. Попытки урезонить Алексея не дали результата. Опасаясь, что брат совершит что-то из ряда вон выходящее и навлечет на себя серьезное наказание, Павел доложил о его поведении классному надзирателю. Тот даже немного опешил, но нестрого наказал шалуна – поставил к стене класса. «Я почувствовал себя ужасно скверно, – вспоминал Милюков. – Класс разделился: одни товарищи меня порицали, другие хвалили, а я не знал, куда деваться от похвал и порицаний. Этот моральный конфликт и до сих пор выплывает у меня в памяти из ряда забытых событий»{43}.
Любопытно, что он ни слова не пишет о реакции брата на его «предательство». Можно лишь предположить, что экспансивный Алексей долго не мог его простить. Вообще же складывается впечатление, что после естественной близости ранних лет жизни отношения между братьями стали охладевать. Этому явно способствовало и то, что родители вскоре перевели Алексея, не укладывавшегося в рамки гимназического регламента, в созданное в 1868 году Московское императорское техническое училище, дававшее ремесленную профессию и позволявшее по окончании шести классов еще три года продолжать образование в области инженерного дела.
Склонность к поискам средней, примирительной линии, нежелание бунтовать проявлялись у Павла и во многих других случаях. Как-то директор гимназии увидел его на улице за совершенно невинным занятием, которое показалось педагогическому самодуру неприличным: подросток взрывал хлопушки. Директор приказал нарушителю порядка на следующий день явиться к нему в кабинет. Не понимая, что плохого он сделал, Павел рассказал о происшедшем родителям. Вместо того чтобы взять сына под защиту, мать распорядилась, чтобы он написал на имя директора обширное заявление с извинениями, да еще и в стихах (ей было известно, что сын пытался сочинять какие-то вирши).
Павел не взбунтовался и даже не попытался оправдаться, а послушно выполнил материнскую волю – правда, стихотворное извинение оказалось написано корявым слогом. В заявлении даже было сказано: «Буду я вперед ходить без покупок глупых».
На другой день мать пошла в гимназию вместе с сыном. Величественный директор был снисходителен, и дело ограничилось нетяжелым наказанием – Павла на несколько часов оставили в пустом классе. Милюков долго вспоминал этот случай со «стыдом и горечью» – но не за устройство фейерверка, а за то, что столь позорно, под материнскую диктовку, спасовал перед директором{44}.
Постепенно зарождалось критическое отношение к религии и даже к власти. Оно не было значительным, и сам Милюков, казалось, не придавал ему особого значения. Но постепенно складывалось некое внутреннее чувство – скорее не отрицания, а равнодушия. Когда его первый раз вели на исповедь, предварительно строго предупредив, что он должен покаяться священнику во всех грехах, он отнесся к этому до предела серьезно, стал вспоминать всё недостойное, что было им сделано. Но едва он начал исповедь, батюшка прервал его, накрыл епитрахилью и отпустил грехи – необходимо было побыстрее завершить обряд, поскольку своей очереди ожидали еще многие прихожане. В первый раз Павел счел свое разочарование случайным, но когда подобное стало повторяться вновь и вновь, он понял, что исповедь – лишь формальная процедура, ожидание «таинства» сменилось равнодушием, хотя он на всю жизнь сохранил уважение к Церкви, ее атрибутам, художественным и историческим ценностям.
Однако скептическое отношение к духовенству, возникшее в подростковом возрасте, с годами только крепло. Сам он полагал, что это отчуждение связано не только с собственным опытом, когда батюшка лицемерно отпустил грехи, не выслушав исповедь. Подобное отношение к Церкви было присуще и его родителям. Он не помнил, чтобы в доме была Библия. Священное Писание оставалось неизвестным ему до гимназического возраста, когда надо было приступить к изучению Закона Божьего в качестве учебной дисциплины: «Проявления домашней религиозности не шли дальше обязательного минимума»{45}.
Другое событие способствовало возникновению не очень сочувственного отношения к институту абсолютной монархии. Однажды в гимназии произошло событие «исключительной важности»: в нее заглянул посетивший Москву Александр II. Понятно, что не только директор и большинство преподавателей были взволнованы до крайности – учащимся также казалась чрезвычайной возможность увидеть своими глазами самодержца. Император лишь на минуту-другую заглянул в классы, затем состоялась процедура проводов: «Нас повели, по двое в ряд, вниз по лестнице, вслед за царем. Но мы видели сверху только его светящуюся лысину… Проводы приняли восторженный характер. С крыльца многие бросились бежать за царским экипажем. Помню, мне этот жест не понравился. Это был единственный раз, когда я близко видел Александра II»{46}. Ясно, что мальчик, в отличие от многих соучеников, не говоря уже о педагогах, не испытал при виде царя восторженного чувства.
Тем временем всё яснее становилось, что на прошлой подготовке и способностях далеко не уедешь. Когда приближалось окончание третьего класса, возникла серьезная опасность вылететь из гимназии. Именно в это время он почувствовал, что должен отвечать за свои поступки. По его мнению, начинался переход к взрослой сознательной жизни. Конечно, это было не совсем так – между четырнадцатилетним подростком и взрослым молодым человеком существует безусловная разница.
Провалиться на школьных испытаниях не позволяло самолюбие, полагал Милюков на склоне лет. Но это и означало, что тогда начала формироваться самодостаточная личность – Павел уже не был тем робким ребенком, который писал извинительные стихи.
То, что осознание ответственности за себя начало проявляться у Павла Милюкова сравнительно рано, – факт безусловный. Имея весьма приличные способности и великолепную память, он перестал отвлекаться на второстепенные дела, стал напряженно заниматься, выработал план, которого четко придерживался. С полным основанием Милюков писал в мемуарах, что новый способ мышления и поведения не только привел к успешному переходу в следующий класс, но «сообщил моральный толчок сознательным элементам моей натуры». В результате последние гимназические годы Павел вновь учился вполне успешно. По окончании седьмого класса он получил награду второй степени.
Столь же удачными были и результаты, достигнутые в выпускном, восьмом классе{47}. Педагогический совет оценил его знания средним баллом 4,7. Он оказался на втором месте среди своих одноклассников. Между прочим, как часто бывает, заслужив отличную оценку почти по всем предметам, будущий выдающийся историк получил по истории только «хорошо». Он отвечал на вопросы явно нелегкие: разделение Руси на Северо-Восточную и Юго-Западную; географический обзор Древней Греции; начало возвышения Пруссии; Новороссия{48}. Что не удовлетворило экзаменаторов, неизвестно; можно предположить, что причиной снижения оценки были неординарные суждения.
Одновременно у Павла пробуждались художественные интересы. Он продолжал писать стихи, хотя отчетливо понимал, что большого таланта в этом деле у него нет. Он на всю жизнь так и остался камерным поэтом для близкого круга друзей и членов семьи, отнюдь не пытаясь выставить свои стихотворные опусы на обозрение широкой публики.
Точно так же, преимущественно для собственного удовольствия, остался интерес к музыке. Побывав в Большом театре на нескольких оперных спектаклях, он почувствовал, что может воспроизвести не только арии певцов, в частности из «Жизни за царя» М. И. Глинки, но и оркестра, особенно скрипичные партии. Он потребовал от отца (говорить на эту тему с Марией Аркадьевной было делом бесперспективным), чтобы его учили игре на скрипке. В данном случае художественная натура родителя взяла верх: несмотря на недоумение матери, Павлу купили недорогую скрипку и наняли дешевого учителя. Первый учитель оказался снобом и педантом, заставлял играть только скучные упражнения и обращал внимание лишь на постановку руки. Такое обучение могло вызвать отвращение к музыке.
Но Павел оказался упорным – настоял, чтобы наняли нового учителя. Новым педагогом стал, по словам Милюкова, немец Вильгельм, а на самом деле француз Василий Юльевич Виллуан, сын учителя той самой 1-й гимназии, в которой постепенно мужал Павел. Виллуан учился в Московской консерватории по классам скрипки и композиции, его педагогами были П. И. Чайковский и директор консерватории Н. Г. Рубинштейн. Впоследствии В. Ю. Виллуан стал директором Нижегородской консерватории, учителем многих известных русских музыкантов и автором ярких скрипичных произведений и опер. (Милюков в мемуарах почему-то назвал его племянником будущего директора. Впрочем, запутаться было немудрено, поскольку музыкальный род Виллуанов был велик и пользовался заслуженным почетом{49}. Быть может, ошибка Милюкова была психологического свойства – он просто не мог поверить, что его, фактически не умеющего играть на скрипке юнца, учил «сам» Виллуан, который стал известен на всю Россию.)
Конечно, новый учитель тоже обращал внимание на постановку пальцев. Но он сразу стал задавать интересные пьесы, учил скрипичным аккордам, чтению партитуры, основам музыкальной теории.
Когда же Виллуан, окончив в 1873 году консерваторию, уехал из Москвы, Милюков продолжал музыкальное образование самостоятельно, особенно пристрастился к разучиванию скрипичных партий из опер, балетов и других оркестровых произведений.
Начальное музыкальное образование явилось важным элементом базы профессионального комплексного исследования истории русской культуры, фактическим основоположником которого станет Милюков.
Как ни странно, его интерес к художественной литературе поначалу был сравнительно умеренным – в том, что касалось классики, он не выходил за пределы гимназической программы, но сосредоточивался, как почти у всех мальчишек, на книгах Жюля Верна, Томаса Майна Рида, Фенимора Купера. В старости Милюков признавался, что из русских писателей его любимцами в гимназии были Загоскин и Лажечников. Произведения Михаила Николаевича Загоскина привлекали подростка, а затем юношу достоверным, как он полагал, воспроизведением исторической действительности. Писатель, хотя и не считался перворазрядным стилистом, получал, начиная с выхода первого романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1828), восторженные читательские отклики. Даже такой требовательный критик, как В. Г. Белинский, назвал «Юрия Милославского» «первым хорошим русским романом». Можно полагать, что исторические романы Загоскина сыграли важную роль в пробуждении у Милюкова интереса к отечественной истории.
Примерно таким же было отношение к историческим романам Ивана Ивановича Лажечникова, особенно к первому – «Ледяному дому», посвященному эпохе императрицы Анны Иоанновны. Критики, а вслед за ними и образованные читатели отмечали, что при явных художественных недостатках этого и других произведений Лажечникова он был очень точен в исторических деталях (вероятно, сказалась многолетняя служба в архивном ведомстве, где он получил первые важные уроки осторожного обращения с историческими источниками).
Романы Лажечникова и Загоскина были для Милюкова не только и, пожалуй, не столько художественными произведениями, сколько введениями в детали исторического процесса.
Подлинная любовь к художественной литературе, к книге возникла в известной мере случайно. У Павла были друзья-гимназисты Зерновы, которым родители наняли репетитора. Им оказался молодой человек Иван Васильевич Неговоров, только что окончивший семинарию, но не предполагавший служить по духовной части. Он не только познакомил юных учеников с основными этическими понятиями, причем делал это, болтая с ребятами, но и столь же ненавязчиво, своим примером прививал им любовь к чтению. «Он любил книги и покупал их по дешевой цене на «толкучке»; так он составил себе небольшую библиотечку. Спрашивая себя теперь, откуда я заимствовал свою любовь к книгам и свое раннее знакомство с «толкучкой», я не нахожу другого источника, кроме Неговорова»{50}.
Но систематические знания, в частности в области русской и мировой литературы, подросток, а затем юноша получил всё же в гимназии, несмотря на все пороки консервативного классицизма. Учитель истории литературы Тверской не являлся «прогрессистом» в полном смысле слова, но это был приличный преподаватель, который стремился привить ученикам интерес и вкус к подлинно ценной художественной литературе, причем добивался, чтобы ученики давали самостоятельные оценки произведений. Он ввел в свой предмет раздел «Теория словесности», стремясь разъяснить основные категории формы, стиля, выразительных средств, присущих художественным произведениям. Павел узнал, что собой представляют классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, познакомился с произведениями крупнейших писателей и их критической оценкой. Тверской даже позволял себе ссылаться на В. Г. Белинского. Разумеется, не по рекомендации учителя, но явно под его влиянием Павел в одном из старших классов каким-то образом достал и проштудировал крамольные «Очерки гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского.






