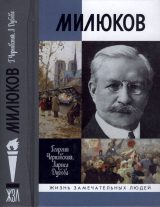
Текст книги "Милюков"
Автор книги: Георгий Чернявский
Соавторы: Лариса Дубова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 42 страниц)
Оба сына Милюкова успешно окончили средние учебные заведения: Николай – 3-ю гимназию, а Сергей – Тенишевское коммерческое училище. Они не проявляли блестящих знаний, но учились ровно, по большинству предметов получали отличные и хорошие оценки (знания Сергея по естествознанию были оценены как прекрасные){525}.
По окончании училища Сергей поступил на филологический факультет Петербургского университета, но вскоре бросил его, а затем переехал в Москву, по всей видимости, поссорившись с отцом (возможно, и с матерью) из-за ухода из университета. В Москве он поступил в Петровскую (ныне Тимирязевская) сельскохозяйственную академию, тщательно скрывая, что имеет отношение к известному политическому деятелю.
Сохранились трогательные, хотя по форме и строгие письма Милюкова-старшего Сергею (с Николаем, видимо, душевной близости не было). В ответ на неумеренные, по отцовскому мнению, восторги сына по поводу швейцарского Цюриха Павел Николаевич шутливо ворчал: «Негодный, стоит ли после этого брать тебя к англичанам? У них ты, пожалуй, вместо души найдешь совсем пар… а серые громады Лондона объявишь плохой подделкой под Петербург при помощи копоти и дождя». А вскоре он напоминал сыну, что следовало бы посетить родителей на даче в Финляндии: «Если же ты захочешь увидеть хотя бы след этого старого домика, то советую поспешить»{526}.
Когда началась мировая война, оба сына пошли добровольцами в армию. К тому времени Николай, импульсивный, нервный, часто менявший намерения, успел жениться (1911) и полностью оторвался от родителей. Он служил в артиллерии, затем перешел в авиацию, только-только появившуюся тогда в составе русской армии. Николай участвовал в военных действиях в качестве летчика-наблюдателя, совершил ряд боевых вылетов, был награжден Георгиевским крестом. (Через много лет в эмиграции Николай Милюков станет председателем Союза русских летчиков за границей, но долго на этом посту не удержится из-за пьянства и дебошей.)
Сергей был значительно спокойнее и последовательнее. Когда началась война, он окончил краткосрочные офицерские курсы при Военно-пехотном училище в Одессе. Будущих офицеров воспитывали жестко. Сергей писал отцу: «Нас сразу поставили в положение нижних чинов, очевидно, чтобы потом ослабить всякую чувствительность, когда мы сами будем командовать»{527}. Перед получением назначения в войска он приехал к родителям попрощаться и невзначай сказал отцу, что у него есть две возможности – отправиться на Дальний Восток или на юг. Было ясно, что первый вариант означал неучастие в боевых действиях, по крайней мере в ближайшее время, второй – немедленную фронтовую жизнь. Отец указал ему, «где была настоящая борьба»{528}, то есть, по существу, упрекнул сына за колебания. Можно как угодно объяснять этот поступок – патриотизмом, заботой о собственной репутации, воспитательными эмоциями и т. п.; но, безусловно, сын сделал выбор, прислушавшись к его мнению.
С фронта Сергей успел прислать одно письмо, в котором восхищался своими подчиненными, учившими его азам военной науки. Вслед за этим поступило известие о его гибели: часть, в которой служил Сергей, после боев получила право на краткосрочный отдых, однако из-за наступления австро-германских войск в районе города Холм уже отправившиеся в тыл солдаты и офицеры были возвращены на боевые позиции. Генерал Владимир Александрович Ирманов, в корпусе которого служил молодой офицер, пытался противостоять наступлению, сам участвовал в штыковых контратаках, но все они оказались безуспешными. В одном из таких боев и погиб Сергей. «Никогда я не мог простить себе, что не посоветовал ему отправиться на Дальний Восток, – писал Милюков в мемуарах. – Это была одна из тех ран, которые не заживают… Она и сейчас сочится»{529}.
Однако свои чувства Милюков прятал в самые дальние закоулки души, продолжая как ни в чем не бывало вести политическую деятельность. Скорее всего, это было наилучшее лекарство для заживления душевной раны.
Между тем в исполнительной власти резко усилились консервативные силы. Дошло до того, что Иван Григорьевич Щегловитов, в июне 1915 года уволенный с поста министра юстиции, но сохранивший полное доверие императора, назвал Манифест 17 октября 1905 года «потерянной грамотой» и предложил возвратиться к законосовещательной Думе. В целом, однако, правительство действовало более обходительно. В ноябре 1915 года должны были завершиться думские каникулы, однако под предлогом, что еще не завершено рассмотрение бюджета в комиссиях Думы, ее созыв был отложен императором на неопределенный срок.
Прогрессивный блок решил действовать обходным маневром. Используя свое влияние в комиссиях, руководимые Милюковым депутаты-кадеты добились к конце декабря завершения работы над бюджетом, о чем председатель Думы Родзянко доложил царю, попросив (фактически потребовав) немедленного созыва представительного органа. Несмотря на сопротивление премьера Горемыкина, под нажимом и думцев, и части министров император решил созвать Думу, но всего на пять дней и только для утверждения бюджета.
Милюков с тревогой и негодованием наблюдал, как в условиях войны, на фоне ухудшавшейся экономической ситуации, роста недовольства низов на самой вершине власти происходили позорные политические игры, возрастало влияние авантюриста Распутина, вплоть до назначения с его подачи министрами «фигур из оперетки». В фундаментальном труде по истории революции 1917 года Павел Николаевич писал: «Конфликт власти с народным представительством и с обществом превращался отныне в открытый разрыв. Испытав безрезультатно все мирные пути, общественная мысль получила толчок в ином направлении. Вначале тайно, а потом всё более открыто начала обсуждаться мысль о необходимости и неизбежности революционного исхода»{530}. Однако нам представляется, что таким было не непосредственное, а последующее впечатление, навеянное исходом борьбы и вынужденной эмиграцией, тогда как в 1915 году Милюков еще не представлял себе и тем более не желал революционного решения проблем. Это было против всего его политического опыта, против всей его натуры. Выход из тяжелого кризиса, в который всё глубже погружалась страна, он всё еще видел в компромиссе.
Впрочем, сам он подчас принимал участие в политических играх во имя восстановления влияния Думы, а тем самым и его фракции и Прогрессивного блока в целом. Об одной из таких интриг Милюков рассказал в воспоминаниях. В середине января 1916 года к председателю Думы Родзянко приехал настоятель Александро-Невской лавры митрополит Питирим, известный близостью к Распутину, и «по секрету» сообщил, что в придворных кругах решено «стать в дружественное отношение» к Думе, а для этого устранить Горемыкина, заменив его Штюрмером.
О 68-летнем Борисе Владимировиче Штюрмере было известно, что он, как и Питирим, вхож в круг Распутина, то есть с его назначением хитрый «старец» Григорий мог еще расширить свое влияние. Штюрмер был к тому времени одним из высших придворных сановников – обер-камергером, к государственной деятельности не имел ни призвания, ни способностей, и его назначение, которое действительно состоялось 20 января 1916 года, явно было добыто Распутиным у Александры Федоровны, а той – у императора.
Поскольку было понятно, что созывать Думу всё равно придется и исполнительной власти нужно будет иметь с ней дело, двор и правительство решили проконсультироваться с думскими представителями, естественно, избрав для этого прежде всего Милюкова, фактически возглавлявшего Прогрессивный блок.
Для прощупывания позиции Милюкова его пригласил министр внутренних дел Алексей Николаевич Хвостов. Встреча состоялась на следующий день после назначения премьером Штюрмера в доме товарища председателя Думы октябриста Сергея Тимофеевича Варун-Секрета, входившего в Прогрессивный блок. Считая встречу важной, Милюков составил подробную запись – по всей видимости, в тот же день, судя по точности формулировок и свежести восприятия{531}.
Хвостов вначале попытался оказать давление на Милюкова, заявив, что вопрос о созыве Думы не будет решен, пока не выяснится, что с ее стороны не следует ожидать атак на Распутина. Высокомерно-пренебрежительно по отношению к императорскому фавориту Милюков, как и ожидалось, заявил, что у Думы имеются значительно более серьезные вопросы. Давая понять, что Дума не будет сосредоточиваться на личности главы правительства, Милюков перешел в атаку, заявив, что Дума начнет работу с того, чем занималась до каникул, – с вопроса о программе блока и создании «правительства общественного доверия».
Воспользовавшись упоминанием о блоке, Хвостов спросил, нельзя ли наладить более близкое сотрудничество между блоком и Штюрмером, и предложил устроить у премьера прием в честь руководства Думы. Пойдут ли кадеты на этот прием? Ведь пошла же Дума на раут, устроенный Горемыкиным. Милюков жестко ответил, что существует разница между январем 1915 года и январем 1916-го, что думское большинство поставило вопрос о «правительстве доверия», на прием к Штюрмеру представители его фракции не отправятся, а Дума будет ожидать решения капитальных вопросов, поставленных большинством.
Милюков воспринял отставку Горемыкина и образование нового правительства как победу Прогрессивного блока и слабость оппонентов, а потому вел себя наступательно, если не агрессивно. Не исключая возможности встречи со Штюрмером, он заявил Хвостову, что будет вести переговоры с премьером только от имени блока: «Если Штюрмер не имеет готового ответа на вопрос о блоке, то пусть не устраивает совещание с депутатами».
Пытаясь хотя бы в какой-то степени противостоять кадетскому напору, двор и правительство решили представить открытие краткосрочной сессии Думы как торжество единения монарха с народным представительством. 9 февраля, в день открытия Думы, Николай II прибыл в Таврический дворец. Это был единственный визит царя в Думу за всё время ее существования. На заседании он не присутствовал, но после молебна в его честь произнес небольшую речь перед окружившими его депутатами. Милюков стоял в стороне, речи не слышал и прочитать ее не смог, поскольку она не была опубликована. Лишь со слов коллег он узнал, что речь была бесцветной, но благожелательной к Думе.
Вслед за этим председатель Думы Родзянко сопроводил царя в Круглый зал дворца, где были собраны руководители фракций и другие члены так называемого сеньорен-конвента (совета старейшин) Думы. По всей видимости, думские лидеры считали, что их единственная встреча с императором будет способствовать повышению престижа народного представительства в глазах по крайней мере части общества. Монарх же пошел на эту встречу по совету приближенных, учитывая, что оппозиция имела фактическое большинство в Думе, правда, плохо спаянное, внутренне противоречивое, но всё же грозившее царизму опасными последствиями.
Милюков вспоминал встречу с царем: Родзянко «называл по имени каждого, и царь молча пожимал каждому руку. Мне это представление осталось памятно по маленькому эпизоду. Отойдя несколько шагов от нашей группы, Николай вдруг остановился, обернулся, и я почувствовал на себе его пристальный взгляд. Несколько мгновений я его выдерживал, затем неожиданно для себя… улыбнулся и опустил глаза. Помню, в эту минуту я почувствовал к нему жалость как к обреченному. Всё произошло так быстро, что никто этого никогда не заметил. Царь обернулся и вышел»{532}.
Вряд ли этот крохотный эпизод запомнился Павлу Николаевичу только потому, что удалось подержать императора за руку. Преклонения перед монархом он не испытывал. Скорее всего, у него именно в это время стала оформляться мысль, что самодержавный режим в России подходит к концу, хотя, разумеется, он не подозревал, в какие формы выльется дальнейшее развитие событий, и надеялся, что оно не станет катастрофическим. В то же время он не имел не только конкретного плана действий, но даже намека на характер мер, которые оппозиционным силам следовало принимать. Собственно, именно так происходит в любой революции, что бы ни утверждали ее участники, оглядываясь назад.
Следующий месяц прошел для Милюкова довольно спокойно. В соответствии с царским указом Дума в конце марта утвердила бюджет и 5 апреля была распущена на каникулы до 16 мая.
Миссия к союзникамВ промежутке между сессиями Милюков принял участие в поездке делегации российских представительных учреждений в Великобританию, Францию и Италию. Царские дипломаты стремились при помощи этой поездки продемонстрировать единство внешнеполитических установок правительства, Думы и Государственного совета.
В делегацию входили 17 человек – 11 от Думы и шестеро от Государственного совета. Большинство составляли представители Прогрессивного блока, но только наиболее левые его деятели, члены кадетской партии, оказались способны говорить на общем языке с депутатами британской палаты общин, французского и итальянского парламентов, в которых существовало фактическое единство действий консервативных сил, центра и левых, включая социалистов, вставших во время войны на патриотические позиции. Кадеты Милюков и Шингарев в очередной раз оказались в центре внимания и фактически представляли всю делегацию в переговорах с союзными парламентариями.
На протяжении всей поездки Милюков вел записные книжки{533} и дневник, который впоследствии оказался в советском архиве и был частично опубликован в журнале «Красный архив» (часть, посвященная Великобритании){534}.
Официально возглавлял делегацию товарищ председателя Думы (по замечанию Милюкова, был приставлен в качестве «гувернера») Александр Дмитриевич Протопопов, что Милюкову крайне не нравилось, ибо в качестве руководителя он видел себя. Отсюда и всевозможные выпады в адрес Протопопова в дневнике и особенно в воспоминаниях, несмотря на то, что он примыкал к Прогрессивному блоку, будучи членом фракции октябристов-земцев. Дело дошло даже до объяснения некоторых неудач Протопопова наличием у него сифилиса в запущенной стадии.
Впрочем, на Протопопова, который вскоре станет последним царским министром внутренних дел, шишки сыпались со всех сторон, несмотря на то, что за двухмесячное пребывание на министерском посту он с полного согласия царя провел такие важные меры из программы Прогрессивного блока, как фактическая ликвидация черты оседлости для евреев (им разрешено было жить во всех крупных городах, не входящих в зону военных действий) и значительное расширение земского самоуправления в сибирских губерниях. Думские деятели считали Протопопова предателем из-за самого факта его вхождения в правительство, правые круги – «салонным шармёром» (очарователем) и ничтожеством. Фактически же это была трагическая фигура, оказавшаяся не на том месте не в то время.
Протопопов был расстрелян большевиками вскоре после их прихода к власти, что не спасло его память от дальнейших наветов, включая высказывания Милюкова, на десятилетия сохранившего неприязнь к нему за то, что руководитель делегации, посетившей страны Антанты, лишь изредка пытался не выпускать его на первый план. Будучи действительно самым крупным в составе делегации экспертом в области внешней политики, признанным руководителем думского большинства, Милюков считал поведение Протопопова препятствием для осуществления миссии.
Из-за войны делегация отправилась кружным путем через Швецию и Норвегию – единственным, который оставался сравнительно безопасным. Хотя в Стокгольме пробыли всего два дня, Милюков успел встретиться с председателем Исполкома Социал-демократической партии Швеции Карлом Яльмаром Брантингом, фактически координировавшим деятельность социалистических и социал-демократических партий воюющих стран после распада с началом войны II Интернационала и активно поддерживавшим те течения в этих партиях, которые, занимая патриотическую позицию, в то же время прилагали усилия к прекращению бойни.
Брантинг и его товарищи стремились привлечь кадетов к «общественным» международным конференциям в пользу мира, но их усилия остались безрезультатными – Милюков ответил отказом. Однако сам факт контактов с социалистами свидетельствовал о зарождавшейся тенденции сближения либералов и правых социалистов на общедемократической основе.
Главной целью поездки была Великобритания. Невзирая на «гувернерство» Протопопова, Милюков и здесь вел себя в соответствии с собственными соображениями. Он даже позволил себе такой недипломатический ход, как посещение 24 апреля П. А. Кропоткина, для чего специально поехал в Брайтон, где жил знаменитый старец. Встреча с Кропоткиным прошла в более желательном для Милюкова духе, чем предыдущие контакты со шведскими социалистами. Оказалось, что теоретик анархизма поддерживал свою страну в мировой войне. Собеседники осудили манифест Циммервальдской международной конференции социалистов, состоявшейся в сентябре 1915 года в Швейцарии, за объявление войны «империалистической» с обеих сторон. Им не нравился и прозвучавший в Циммервальде лозунг мира без аннексий и контрибуций.
Сам Кропоткин не делал секрета из своей встречи с либеральным политиком, приехавшим в Великобританию в составе официальной делегации. «У меня был в прошлое воскресенье Милюков, – писал он 11 мая другому видному в прошлом анархисту Варлааму Николаевичу Черкезову. – К сожалению, на очень короткое время. Приехал в половине первого, и должен был уехать поездом в 2.20, чтоб попасть на прием к послу. Отсутствие было бы понято как манифестация. Надежды у него большие, радужные, на двойную победу. Многое говорит в пользу таких надежд»{535}.
«Радужные надежды» и на победу над внешним противником, и на либеральные преобразования внутри страны Милюков пытался стимулировать всеми силами, в том числе переговорами за рубежом. Несмотря на усиление всестороннего кризиса, он еще сохранял известную долю оптимизма.
Приемы – частью политически важные, частью чисто декоративные, но также игравшие на руку союзническим отношениям – следовали один за другим. Павел Николаевич был поражен внешним сходством британского короля Георга V с российским императором: «Передо мной стоял Николай II. Король был поразительно похож на своего кузена, только несколько прихрамывал после недавнего падения с лошади»{536}. Российский политик вспоминал, насколько близки были оба монарха. По желанию Георга Николаю II были присвоены звания фельдмаршала британской армии и адмирала флота. Иногда при встрече они даже менялись формой и разыгрывали окружающих. Задолго до описываемых событий, в день свадьбы Николая II обыватели Петербурга недоумевали, почему молодой император ходит по городу. Вскоре выяснилось, что это был приехавший на торжество будущий английский король.
При всём своем либерализме Милюков был явно польщен особым вниманием, которое уделил ему британский монарх, безусловно проинформированный о том, кто из делегатов является наиболее компетентным в области внешней политики. Георг произнес перед Милюковым целую речь о необходимости доведения борьбы до конца, чтобы через десять лет не воевать снова. Российский делегат полагал, что эти слова, полностью соответствовавшие его собственным настроениям и ходу мыслей, были вложены в уста короля его кабинетом.
Милюков просто любовался собой, когда на правительственном приеме в Ланкастерском дворце ему довелось отвечать на тост премьера Герберта Асквита, представлявший, по его словам, прочитанную по бумажке сухую речь, правда, не без малопонятного русским английского юмора. Милюков подготовил почти такой же сухой ответ, но во время речи под внезапным внешним впечатлением резко изменил его финал. Сквозь огромные окна зала, в котором происходил прием, пробились лучи заходившего солнца и осветили картину, изображавшую Марса, побежденного Венерой. Латинская надпись на картине гласила: «Veritas vincit, justicia vincit, Mars opprimatur» («Истина побеждает, справедливость побеждает, Марс терпит поражение»). Указав рукой на солнечный луч и картину, Павел Николаевич в завершение произнес: «Да! Правда победит, справедливость победит, и Марс будет подавлен!» Высокопоставленная публика разразилась аплодисментами, Асквит подошел к Милюкову и заявил: «Как досадно, что я этого не заметил. Очень вам завидую». Разумеется, всё это были слова, но они демонстрировали не только союзнические намерения российского деятеля, который, возглавляя оппозицию, полностью поддерживал обязательства своего правительства, но и представляли его как образованного и эрудированного деятеля, надежного союзника, удобного и желательного партнера для контактов на самом высоком уровне. Такую же роль сыграл и обмен приветствиями между Милюковым и председателем лондонского городского самоуправления{537}. Таким образом, своими демаршами в заграничной командировке Павел Николаевич вел и внутриполитическую игру, отнюдь не исключая, что будет призван к выполнению высоких правительственных функций, возможно, в качестве министра иностранных дел или даже премьера.
Подобный характер носили и другие приемы, встречи и беседы в Лондоне, а затем в Париже и Риме. В Париже Милюков дал несколько интервью, которые послужили предметом издевательств Л. Д. Троцкого, посвятившего им фельетон «Со славянским акцентом и улыбкой на славянских губах», опубликованный в эмигрантской социал-демократической газете. Язвительный Троцкий, ранее снисходительно относившийся к либеральному профессору, теперь оскорбительно писал: «О, г. Милюков! Что романтизм давно исчез из политики, об этом Вы «бормотали» Вашему собеседнику совершенно правильно. Но напрасно Вы отсюда сделали тот поспешный вывод, – вот она славянская душа нараспашку! – что настоящий реализм состоит в публичном отправлении всех политических потребностей»{538}.
Торопясь на родину, чтобы успеть отчитаться о поездке до роспуска Думы (делегаты телеграфировали Родзянко, попросив его затянуть сессию), Милюков не узнал, что руководитель делегации Протопопов на обратном пути в Стокгольме вступил в негласный контакт с представителем германского посла барона фон Люциуса банкиром Максом Морицем Варбургом, поинтересовавшись германскими условиями заключения сепаратного мира. Вскоре, однако, этот факт стал известен, так как сам Протопопов по возвращении в Петроград сообщил о нем немалому числу лиц. Поползли слухи, что Протопопов, выполняя распоряжения императрицы и Распутина, вел официальные переговоры о сепаратном мире, что не соответствовало действительности, но звучало правдоподобно. Эти слухи подливали масла в огонь. Раздражение поведением высших кругов ширилось, переходя в ненависть.
Милюков, пытаясь хоть в какой-то мере успокоить общественность, хотел убедить Протопопова сделать заявление, что никаких переговоров не было, а встреча с его старым германским знакомым Варбургом произошла случайно, причем Протопопов не знал, что тот связан с посольством Германии. Протопопов ничего не предпринял. Вскоре он был вызван в императорскую Ставку, где дал подробный отчет о своей встрече. Слухи об этом только усилили общественное недовольство.
В этих условиях официальные доклады делегации в Думе прошли под занавес ее заседаний, остались почти незамеченными или же вызвали недоверие. Милюков, как свидетельствует опубликованная протокольная запись, рассказал о настроениях общественности в союзных столицах на заседании военно-морской, а не военной комиссии, как он пишет в воспоминаниях (первая была рангом ниже){539}.
Докладчик пытался закрепить внутриполитические позиции Прогрессивного блока рассказом о том внимании, которое уделила его деятельности западная общественность: «Там не только понимают важность Прогрессивного блока, не только понимают громадную значимость этой парламентской организации, но и на него переносят некоторые из тех упований, которые возлагали прежде на русскую оппозицию. И, господа, более, чем когда-нибудь, я, представитель русской оппозиции, вернувшись из-за границы, чувствую, что, давши этот кредит, я обязан его оправдать»{540}.
Из доклада Милюкова вытекало, что благодаря его собственным усилиям и действиям его коллег по Прогрессивному блоку общественность и правящие круги Великобритании и Франции начали делать ставку не столько на российское правительство, императорский двор и военное командование, сколько на либеральную оппозицию, видя именно в ней более или менее надежную гарантию участия России в войне до полной победы. Милюков дал им диктуемые «повелительной необходимостью» заверения «сохранить духовное единство наше с нашими союзниками, сохранить мобилизацию общего народного настроения». Со своей стороны ведущие государственные деятели стран Антанты дали гарантии, что союзники никогда не заключат «такого акта, который бы противоречил интересам России». Особенно порадовал Милюкова британский министр Эдуард Грей, заявивший, что вопрос о передаче Черноморских проливов под управление России «стоит на одной очереди с вопросом об Эльзас-Лотарингии для Франции»[10]10
Эти области были отторгнуты от Франции в результате Франко-прусской войны (1870–1871).
[Закрыть].
Хотя Милюков выступал от имени делегации, в которую входили представители различных думских фракций, по существу это был доклад Прогрессивного блока. Не случайно звучали заключительные слова: «Нужно, чтобы блок был действенен, чтобы он существовал и чтобы он о своем существовании заявлял делами. Это настоятельно необходимо, с этим мы расходимся в эту сессию, но я надеюсь, что с этим мы начнем следующую сессию, которая… даст возможность представителям большинства предстать перед своими избирателями с чем-нибудь готовым и достаточно их рекомендующим для продолжения их парламентской деятельности»{541}. Слова эти были встречены аплодисментами центра и левых фракций.
Оправдать доверие, однако, было нелегко. Когда 21 июня начались очередные думские каникулы, Милюков, кадетская фракция и весь Прогрессивный блок оказались в сложном положении. В августе – сентябре Павел Николаевич опять побывал за границей. На этот раз на выезд потребовалось высочайшее разрешение: «Объявляется всем и каждому, кому о том ведать надлежит, что показатель сего член Государственной думы, магистр русской истории Павел Николаевич Милюков отправляется отсюда за границу и возвращается затем обратно в Россию»{542}. Вместе с Лаппо-Данилевским, Струве и польским деятелем Р. Дмовским он был избран почетным доктором Кембриджского университета. Главным мотивом присуждения высокой ученой степени было названо освещение им опыта внешкольного образования взрослых в Кембридже (в 1893 году Милюков специально посетил университет, чтобы ознакомиться с методикой преподавания на летних курсах для взрослых и затем посвятил ей специальную статью{543}). Милюков выступил с лекциями «Первое десятилетие конституционной жизни в России» и «Запутанный узел на Балканах и его причины». По материалам лекций Милюкова и других специалистов был опубликован специальный сборник{544}.
Но в целом эта поездка прошла незамеченной, во всяком случае, была далеко не столь триумфальной, как предыдущая, завершившаяся торжеством кадетской партии, Прогрессивного блока в целом и их лидера.






