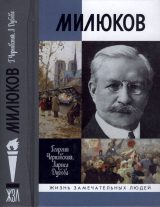
Текст книги "Милюков"
Автор книги: Георгий Чернявский
Соавторы: Лариса Дубова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 42 страниц)
Как и украинские кадеты, Милюков, явно по тактическим соображениям, позитивно относился к гетманству Скоропадского, ставя его на один уровень с властью генерала Петра Николаевича Краснова, в мае 1918 года избранного атаманом Всевеликого Войска Донского. Милюков записал в дневник, который начал вести в это время: «Ив том и другом факте я видел явление одного порядка – и явление положительное – в том понимании, что и там и тут мы имеем дело с возрождением российской государственности»{736}.
В Киеве возобновились контакты Милюкова с выдающимся ученым академиком Владимиром Ивановичем Вернадским, в прошлом профессором Московского университета и членом ЦК партии кадетов. Вернадский выехал в Киев после Октябрьского переворота и теперь поддерживал государственную самостоятельность Украины. Он убеждал Милюкова в возможности развития украинских культуры и национального самосознания, с чем его оппонент был решительно не согласен (любопытно, что выражение «украинская культура» Милюков в дневниковых записях брал в кавычки){737}.
Совершенно неожиданным стало возобновление контактов с давним другом, софийским профессором Иваном Шишмановым, который теперь оказался болгарским послом в Украинской державе Скоропадского. Шишманов узнал, что Милюков в Киеве, от министра Василенко, который встречался с ними обоими еще на археологическом съезде в 1899 году. Новая встреча состоялась 15 июня 1918 года. Шишманов выразил надежду на восстановление России, хотя и не в виде централизованного государства, и поинтересовался состоянием кадетской партии. В том же духе проходили и следующие встречи{738}.
Шишманов описал первую беседу по-другому. По его словам, он был очень удивлен визитом российского деятеля и даже отметил этот факт в дневнике тремя восклицательными знаками. Милюков был «хорошо выбрит, волосы его побелели, но сам он в остальном не изменился», – записал Шишманов{739}. Милюков вел в основном неполитические разговоры: рассказывал о судьбе своей библиотеки, о сыне и невестке, о доме в Софии, который оставался его собственностью. Правда, Павел Николаевич заявил, что остается болгарофилом, однако у посла сложилось впечатление, что он стал германофилом, что, впрочем, можно было объяснить отсутствием иного выхода. В целом былой откровенности и взаимопонимания с болгарским ученым, ставшим дипломатом, теперь не было.
В условиях оккупации Украины германскими войсками Милюкову приходилось изредка общаться с представителями германского командования даже после того, как стало ясно, что поход на Москву они предпринимать не намерены. Встречи эти были теперь сугубо деловыми, связанными с получением формальных разрешений на издания и т. п. Но в какой-то степени он шел на сотрудничество с оккупантами, что вызывало крайнее недовольство кадетских деятелей и в то время, и после окончания Гражданской войны. Деятель кадетской партии В. А. Оболенский, находившийся в это время в Киеве, недоуменно спрашивал Павла Николаевича, как он мог пойти на «измену» делу Антанты. Милюков объяснял: прежде всего он был уверен «если не в полной победе немцев, то во всяком случае в затяжке войны, которая должна послужить к выгоде Германии, получившей возможность продовольствовать всю армию за счет захваченной ею Украины. На западе союзники помочь России не могут». Немцам же «самим выгоднее иметь в тылу не большевиков и слабую Украину, а восстановленную с их помощью и, следовательно, дружественную им Россию». Он рассчитывал убедить немцев занять Москву и Петербург и помочь образованию «всероссийской национальной власти». Оболенский спросил: «Неужели вы думаете, что можно создать прочную русскую государственность на силе вражеских штыков?» – добавив: «Народ вам этого не простит». Бывший лидер кадетов пожал плечами: «Народ? Бывают исторические моменты, когда с народом не приходится считаться»{740}. Так что отношение Павла Николаевича к роли народных масс в истории было более чем гибким, а в данном случае, пожалуй, даже циничным.
Когда осенью 1918 года стало ясно, что германская оккупация Украины близится к концу, украинские кадеты при активном участии Милюкова начали высказываться в пользу государственного союза с Россией – разумеется, при условии ликвидации власти большевиков. В октябре Милюков участвовал в подготовке записки министров-кадетов, в которой выражалось убеждение, что будущее Украины – в составе небольшевистской Российской республики или конституционной монархии, а независимое существование Украинского государства является важным, но промежуточным этапом на пути к федеративному объединению с Россией{741}.
В связи с близким поражением Германии фактически исчезла основа разногласий между Милюковым и кадетами, связанными с белыми армиями. Своего рода внутрипартийное перемирие было заключено на конференции кадетов в Екатеринодаре 28–31 октября 1918 года. Милюков представлял здесь кадетов Киева, то есть вроде бы стал провинциальным деятелем. От него потребовали «торжественного покаяния». Он заявил, «что ошибался и что правы были его противники»{742}, что Россия имеет право требовать помощи от союзников, ибо оно дано «теми миллионами жизней, которые принесены ею на алтарь союзного дела»{743}. Эти декларации были унизительны для политика его масштаба, но гордый и упрямый Милюков подчас шел на немалые личные жертвы во имя достижения поставленных целей. А желанное восстановление кадетского единства казалось ему решаемой задачей. Однако ни объединить кадетские ряды, ни вновь возглавить партию ему так и не удалось.
Екатеринодарская конференция означала, что кадеты вновь выступают за государственную целостность России. По поручению конференции Милюков составил записку правительствам Антанты с просьбой оказать поддержку в создании «единого русского правительства» и признать «особое значение Юга России (наряду с Сибирью)» в борьбе против большевиков. Записка была передана через представителя Антанты в Екатеринодаре француза Гокье{744}.
По существу, на этот же путь попытался стать и гетман – 14 ноября он издал Грамоту ко всем украинским гражданам и казакам, провозглашавшую новый внешнеполитический курс: «На иных принципах, принципах федеративных, должно быть восстановлено давнее могущество и сила Всероссийской державы. В этой федерации Украине надлежит занять одно из первых мест»{745}. Это был фактический отход от курса на независимость Украины и сигнал странам Антанты о решительном отказе гетмана от прогерманской ориентации.
Видимо, именно по этой причине Милюков счел необходимым возвратиться в Киев из значительно более стабильной Донской области. Приехал он 8 ноября, когда в Германии уже началась революция. А 11 ноября было подписано Компьенское перемирие Германии со странами Антанты об окончании Первой мировой войны.
Расчет Милюкова в очередной раз не оправдался. После поражения Германии в соответствии с условиями перемирия немецкие войска стали покидать оккупированные территории. Вслед за этим началось восстание и режим Скоропадского рухнул. В середине декабря 1918 года Киев был взят войсками сформированной 13 ноября Директории во главе с Симоном Васильевичем Петлюрой и Владимиром Кирилловичем Винниченко. Скоропадский 14 декабря отрекся и тайно уехал в Германию.
На Украине с этого времени начались частые смены власти – Директория, большевики, Деникин, польская армия чередовались в Киеве и на значительной части территории страны; в провинции же, прежде всего в сельской местности, часто хозяйничали анархистские крестьянские части, а в районе Гуляйполя образовалась даже анархистская республика Нестора Ивановича Махно. Только к осени 1920 года Украина прочно оказалась в руках большевистских сил.
В ЯссахС 16 по 23 ноября 1918 года, непосредственно после подписания перемирия с Германией, в румынском городе Яссы происходило организованное дипломатами и военными стран Антанты совещание представителей различных антибольшевистских сил России и делегатов Добровольческой армии. Хотя Милюков считался скомпрометированным связями с германскими оккупационными властями на Украине, у послов Франции и Великобритании в Румынии Д. Сент-Олера и Д. Барклая, рассылавших приглашения, хватило рассудительности, чтобы понять, что в действительности Милюков сотрудничал не столько с немцами, сколько с украинскими единомышленниками. Сент-Олер заявил перед совещанием: «У Милюкова так много заслуг перед союзниками, что на последнее отступление мы смотрим как на отдельный эпизод, отошедший уже в прошлое. Если никто не приедет, но Милюков приедет, то наша цель будет достигнута»{746}.
Это, разумеется, была легковесная риторика, ибо совещание созывалось как раз для того, чтобы объединить усилия антибольшевистских сил. Но сама по себе оценка французского дипломата показательна. Собираясь в Яссы, Милюков заявил: он намеревается доказывать, что навести в России порядок можно лишь в случае, «если восторжествует монархия»{747}.
В Ясском совещании приняли участие около двух десятков российских политических и общественных деятелей от эсеров и меньшевиков до октябристов и правых монархистов, однако только Милюков был известной личностью. Дипломаты Великобритании, Франции и США появились в качестве гостей лишь на заключительном заседании.
По существу, в Яссах звучали самые общие высказывания о необходимости свержения большевистской власти. Участник совещания, бывший депутат Госдумы Владимир Иосифович Гурко, отзывался о нем весьма нелестно: «Вообще ничего более курьезного, жалкого и смешного так называемой Ясской конференции представить себе нельзя. Вырабатывали приемлемую для всех представленных общественных течений программу освобождения России. Зачем этим людям понадобилось переехать для составления этой программы из Киева в подвал русского консульства в Яссах, понять никак нельзя было. Бесцельность производимой работы, думается, сознавалась всеми. Это не мешало, однако, тому, что пускали в ход всё доступное каждому красноречие и спорили до потери голоса и изнеможения сил… Но о чем же спорили съехавшиеся в Яссах случайные представители русской общественности? Да решительно обо всём. Происходили столь типично русские бесконечные, расплывчатые споры, где не столько поочередно, сколько одновременно разрешались все вопросы, если не мироздания, то государственного строительства»{748}. Неплодотворный характер совещания был передан верно. Задача объединения антибольшевистских сил являлась нерешаемой.
По мнению Гурко, разделяемому другими участниками встречи, Милюков представлял наиболее правый, консервативный фланг антибольшевистского движения. Если же судить по его выступлениям, то он высказывал более или менее трезвую оценку тех сил, которые в это время представляли наибольшую опасность для советской власти, однако действительно верил в успех лишь при использовании самых радикальных средств борьбы против нее. Участвуя в споре о необходимости диктаторского режима, он говорил: «Диктатура не только нужна, она уже существует. Мы находим высший вид диктатуры в виде Добровольческой армии»{749}.
Милюков постепенно приходил к выводу, что либеральные идеи хороши для мирного, спокойного времени, однако никак не годятся для чрезвычайных условий, в которых порядок можно навести только твердой рукой. Более того, в одном из его выступлений прозвучало: «Когда пролагаются широкие исторические просеки, нет времени думать о деталях»{750}. Так Милюков заимствовал у большевиков идею террора, заменяя лишь его окраску – вместо красного призывал к белому террору. Такая позиция встретила сопротивление (хотя и не очень активное) социалистической части участников совещания, в частности видного деятеля партии эсеров, бывшего комиссара Черноморского флота Ильи Исидоровича Фондаминского.
Особо подчеркивал Милюков необходимость государственной целостности России, отвергал какие-либо шаги, закреплявшие независимость Украины, и возможность фиксировать взаимоотношения между Украиной и Россией в договоре{751}.
Поскольку, по мнению Милюкова, структура диктаторской власти уже существовала в форме Добровольческой армии с ее гражданскими подразделениями, именно в ней он видел основу государственного строя России. Так как с апреля 1918 года, после гибели Л. Г. Корнилова, Добровольческой армией командовал генерал А. И. Деникин, с которым у Милюкова в период его краткого пребывания в окружении Корнилова сложились деловые отношения, именно Деникина он считал наиболее подходящей кандидатурой на роль диктатора.
Позже Милюков пытался оправдать свой фактический союз с самыми правыми деятелями и организациями на Ясском совещании состоянием кадетской партии, у которой не было реальных сил, чтобы противостоять реакционерам{752}. Но это объяснение давалось тогда, когда Милюков хотел напомнить о демократических традициях кадетов, то есть было обращено в сравнительно отдаленное прошлое. Начиная же со времени Гражданской войны он всё больше смыкался с правыми силами, считая становление диктатуры неизбежным этапом на пути возрождения России.
Если по вопросам будущего внутреннего устройства страны достигнуть договоренности не удалось, то в отношении просьб (или требований), которые следовало предъявить западным союзникам, участники Ясского совещания смогли договориться, причем заслуга в этом принадлежала Милюкову, который формулировал позиции, приемлемые для различных политических сил: борьба против большевизма; признание преемственности существования Российского государства, его территориального единства; отказ от переговоров с представителями отдельных областей страны; замена германских войск армиями Антанты и русскими соединениями; оказание помощи антибольшевистским военным формированиям, прежде всего Добровольческой армии{753}.
Ясское совещание в резолюции заявило о необходимости получения Белым движением военной помощи от стран Антанты, высказалось за восстановление единой и неделимой России в границах 1914 года (за исключением Финляндии и Польши), непризнание странами Антанты всех государственных образований, возникших на территории бывшей Российской империи при содействии Германии и Австро-Венгрии{754}.
Для координации действий Добровольческой армии, других антибольшевистских военных формирований и подпольных организаций на территории Советской России с политиками и военными стран Антанты совещание избрало делегацию из шести человек, в числе которых был Милюков, естественно, оказавшийся в ней самой значительной фигурой. Правда, сам Павел Николаевич опасался, что его репутация в глазах лидеров Антанты подорвана «сотрудничеством» с германскими войсками на Украине, но совещание не приняло это во внимание.
При помощи британских военно-политических представителей в Румынии делегация отправилась через Одессу, Константинополь и Рим в Париж, а затем в Лондон.
Хотя поездку профинансировала дипломатия стран Антанты, делегаты плыли на русском пароходе «Александр Михайлович», на котором по настоянию Милюкова был поднят Андреевский флаг. Море штормило, но самочувствие у Милюкова было отменное, качку он переносил легко. «Я здоров и исправно обедаю и ужинаю», – записал он в дневнике{755}.
В Константинополе произошла встреча с писателем Марком Алдановым (Марком Александровичем Ландау), который увидел в Милюкове не только фактического руководителя делегации, но и незаменимого переводчика, ибо он владел тринадцатью языками: «Он разговаривал по-турецки с престарелым великим визирем, говорил с иностранными журналистами на языке каждого из них, объяснялся по-болгарски и, помнится, также по-новогречески с лодочниками на Золотом Роге. Однажды я утром зашел к нему по делу в его номер в гостинице Токатлиана и застал его, разумеется, за работой. Перед ним лежали учебники; он с раннего утра упражнялся в переводах с русского языка на турецкий!»{756}
Из Рима во французскую столицу делегаты добирались поездом. В Париже, куда они прибыли 19 декабря, опасения Милюкова по поводу отношения к его поведению на Украине полностью подтвердились. Собственно говоря, он попал на территорию Франции по ошибке. На границу было направлено распоряжение не допускать Милюкова в пределы страны, но депеша запоздала. Узнав о его приезде, премьер-министр Жорж Клемансо накричал на министра иностранных дел Стефана Пишона. «Он (Клемансо. – Г. Ч., Л. Д.) сохранил свои авторитарные привычки, и его все боятся», – комментировал Милюков{757}.
По поводу крайне недоброжелательного отношения во Франции к приезду Милюкова возникла целая официальная переписка, которая приводится в его дневнике. Французские власти сочли его «нежелательным лицом», что ускорило отъезд делегатов в британскую столицу. Через посредников Милюкова просили проявить благоразумие и не доводить дело до скандала{758}.
Так началась эмиграция Милюкова, охватившая последнюю четверть века его жизни. Фактически с этого времени его политическая деятельность стала отходить на второй план, а на первое место выдвигались журналистика, организация прессы, политология, неразрывно связанная с анализом современной истории.
С прибытием в Западную Европу делегация Ясского совещания просто перестала существовать, растворившись в тех эмигрантских объединениях, к которым тяготели отдельные ее участники. Милюков же на протяжении всех двадцати пяти лет жизни за пределами родины стремился занять самостоятельную позицию.
Часть третья

ЭМИГРАНТ
Глава первая
ПОИСК НОВОГО КУРСА
Первый политологический трудОказавшись на Западе, Павел Николаевич сразу же приступил к созданию крупного труда по истории «второй русской революции» (сравнительно компактное изложение будущей работы он набросал еще в Киеве). Это произведение не являлось научным в полном смысле слова. Правда, оно основывалось на комплексе доступных документов, но было чисто публицистическим изданием, насыщенным современной политикой, проникнутым стремлением оправдать и обосновать собственную тогдашнюю позицию. И всё же это одна из первых крупных книг о событиях 1917 года, которая по настоящее время используется при изучении Февральской революции и ее последствий. Характерно, что даже один из самых правоверных советских историков Е. Н. Городецкий в своей историографической работе называл этот труд в числе документальных источников{759}.
Любопытно, что на Западе тогда не нашлось издателя, захотевшего напечатать работу Милюкова. Рукописью заинтересовались русские эмигранты в Болгарии, которые при содействии старых знакомых и коллег Павла Николаевича осуществили ее публикацию. В архиве сохранился договор, заключенный Милюковым с представителем софийского русскоязычного издательства «Летопись» Н. С. Никулиным 15 октября 1920 года на право выпуска первого тома «Истории второй русской революции» сорокатысячным тиражом с авторским гонораром в 15 процентов чистой прибыли и по два лева с каждого проданного экземпляра{760}.
Объемистая работа (свыше восьмисот страниц) вышла тремя выпусками под названиями «Противоречия революции», «Корнилов или Ленин» и «Агония власти». Важным достоинством публикации было то, что в ней увидели свет многочисленные документы 1917 года, часть из которых не сохранилась и ныне доступна только благодаря ей.
Милюков был первым профессиональным историком, который попытался дать хотя бы общее представление о революции 1917 года. Он работал над текстом несколько лет, начав делать первые наброски еще в конце 1917 года, когда оказался в Ростове-на-Дону. В предисловии к книге он рассказал о перипетиях ее подготовки.
Первые главы, написанные в Ростове, затем были пересмотрены во время пребывания автора в Киеве, в частности внесены изменения в раздел, посвященный «делу Корнилова» (главным образом на основании показаний Керенского во время расследования этого дела). Раздел о распаде власти был написан в Киеве. Предполагалось, что написанные разделы будут опубликованы в Киеве в издательстве «Летопись», но в связи с падением власти Скоропадского оно прекратило работу. При разгроме издательства петлюровцами рукопись Милюкова пропала, и ему пришлось восстанавливать текст по черновикам. Работа над рукописью продолжалась в Лондоне, а после переезда в Париж автор получил доступ к богатой коллекции русской периодической печати в Музее армии Франции, что позволило восполнить некоторые пробелы.
«Перед читателями милюковской «Истории», – заметила исследовательница Н. Г. Думова, – революция представала как трагедия в трех актах. Первый том – от Февраля по июльские дни, второй – завершался крушением правой военной альтернативы революционному государству. В третьем томе – «Агония власти» – прослеживалась история последнего правительства Керенского вплоть до столь легкой победы над ним ленинской партии»{761}.
В предисловии говорилось: «Автор назвал свой труд «Историей», хотя он хорошо сознает, что для истории революции в строгом смысле время не скоро настанет». Милюков не ставил главной задачей изложение фактов: «Читатель найдет здесь не столько картины и краски, сколько руководящие линии, основные штрихи рисунка»{762}. Но поскольку любой анализ строится на комплексе фактов, важнейшие из них были использованы, хотя в центре внимания действительно находилось их истолкование, которое должно было привести в конечном итоге к осознанию поворота революции, по мнению автора, пагубного для страны. Милюков подчеркивал, что в основе его повествования лежат объективные факты, и в соответствии со своими позитивистскими установками ручался в правильности выводов, сделанных на их основании (что, заметим в скобках, далеко не всегда справедливо).
Автор предупреждал: на суд читателей выносится именно «история», а не «мемуары», время для которых пока не наступило, ибо живы и действуют участвовавшие в роковых событиях люди. Именно поэтому повествование шло от третьего лица.
И всё же мемуарный компонент был неизбежен. В этом состояли и преимущество книги, написанной активным участником событий, и ее слабость, связанная с субъективностью оценок. Известный историк Сергей Петрович Мельгунов писал, рассматривая позже новую работу Милюкова: «В свое время я готов был даже отчасти приветствовать («На Чужой Стороне» № 7) П. Н. Милюкова за то, за что его упрекало большинство критиков, видевших в его «Истории революции» односторонность и субъективность мемуариста (так, М. В. Вишняк видел в «Истории революции» Милюкова историю и философию участия в революции конституционно]-демократической] партии). Сам автор говорил тогда про себя, что он не хотел быть «только мемуаристом, добровольно отказался от некоторых преимуществ мемуарного изложения, чтобы тем приблизиться к выполнению задачи истории». И всё-таки автор в значительной степени оставался мемуаристом, и мне казалось даже достоинством то, что он не пытался в истории изменить свое умонастроение в период революции: он ретроспективно, за небольшим исключением, не ретушировал своих взглядов, что для мемуариста, конечно, является наиболее важным»{763}.
В труде Милюкова предпринималась попытка проанализировать ошибки и пороки основных политических лагерей, но с оговоркой, что эти ошибки во многом обусловливались объективными причинами и были неизбежны. При рассмотрении этих причин Милюков неизбежно останавливался на роли народных низов. Разумеется, они не представляли собой сознательные и организованные классовые отряды, как утверждали большевики, но их нельзя охарактеризовать и как серую инертную массу. Нередко в результате безответственной демагогии толпа сокрушала всё на своем пути, но во многих случаях сама оказывала поддержку или пассивное сопротивление действиям политиков, которые поэтому вынуждены были строить свою линию с учетом позиции низов. Переплетение же интересов и мнений было настолько сложным, что результат почти всегда оказывался не тождественным замыслу.
Милюков пытался проанализировать глубинные противоречия, характерные для прежних веков русской истории и особенно ярко проявившиеся в революции 1917 года. Это, по его мнению, были противоречия между сильной государственной властью, обеспечивающей стабильность, но зачастую ведущей к социальному застою, и анархистскими тенденциями. Сам он до конца своих дней оставался твердым государственником.
И всё же, несмотря на враждебность к новым властям, Милюков считал, что революция принесла позитивные плоды – правда, лишь в отношении накопленного народом опыта: «Отойдя на известное расстояние от событий, мы только теперь начинаем разбирать, что в этом поведении масс, инертных, невежественных, забитых, сказалась коллективная народная мудрость. Пусть Россия разорена, отброшена из двадцатого столетия в семнадцатое, пусть разрушена промышленность, торговля, городская жизнь, высшая и средняя культура. Когда мы будем подводить актив и пассив громадного переворота, через который мы проходим, мы, весьма вероятно, увидим то же, что показало изучение Великой французской революции. Разрушились целые классы, оборвалась традиция культурного слоя, но народ перешел в новую жизнь, обогащенный запасом нового опыта»{764}.
Его интерпретация революции, при всей близости к концепциям меньшевиков и эсеров, была значительно более спокойной, аналитической, лишенной повышенной эмоциональной окраски, которая у социалистов, стремившихся доказать, что большевики предали социалистическое дело, подчас переходила в истерию. Милюков же, подобно естествоиспытателю, стремился спокойно «под микроскопом» рассмотреть феномен установления большевистской власти, хотя отнюдь не скрывал произвола, репрессий, зверств – всего того, что было непосредственно связано с установлением однопартийной диктатуры экстремистской политической силы, пропагандировавшей утопическую идею земного рая. Тон книги должен был придать ей характер если не исторического, то по крайней мере политологического исследования. Она отличалась от пропагандистских изданий, подготовленных находившимися в эмиграции социалистами, еще и тем, что в принципе отвергала социалистические установки, отстаивая идеалы демократии западного, капиталистического образца.
Рассматривая развитие событий в 1917 году и даже несколько ранее (со времени деятельности Четвертой Государственной думы), Милюков представлял большевистский переворот и установление экстремистской власти как их результат, как последствие многочисленных ошибок, неудач и провалов сил, стоявших у власти, но не смогших обеспечить в стране законный правопорядок. Надо сказать, что «Милюкова» автор обычно щадил больше, чем других, к примеру, объясняя вхождение социалистов в первое коалиционное Временное правительство в мае 1917 года тем, что его рекомендации не принимались во внимание. Так что книга отнюдь не была лишена субъективизма.
Серьезным недостатком «Истории», но недостатком неизбежным из-за отсутствия у автора соответствующего документального материала, было освещение истории революции не столько как комплекса взаимосвязанных социально-экономических, политических и идеологических процессов, сколько как истории власти, управления страной и политической борьбы. Милюков рассматривал лишь вершину айсберга, только частично касаясь его подводной части. Именно разложение государственной власти было предметом анализа в первую очередь. Основным инструментом при этом служили обширные цитаты из выступлений государственных и общественных деятелей, с помощью которых автор стремился показать недостатки, ошибки, пустые обещания, обманные декларации, некомпетентность, «идеологические мотивации», «словесные утопии» вместо реальных действий и продемонстрировать, что ни один из составов Временного правительства не справился с двуединой задачей – установления эффективного контроля над страной и доведения Первой мировой войны до победного конца.
Наибольшую критику Милюков обрушивал на Керенского, обвиняя его в болтливости, нерешительности, отказе от собственных заявлений, истерической шумихе. В результате большевикам во главе с Лениным, который, по мнению автора, действовал трезво и расчетливо, удалось одолеть беспомощное Временное правительство, разложить армию и флот, обеспечить себе поддержку Советов, добиться влияния на значительную часть крестьянства. Иначе говоря, пока меньшевики и эсеры разговаривали, большевики действовали. Павел Николаевич особо выделил их умную тактику во время выступления Корнилова, когда они пошли на временный союз с правительством, внеся вклад в разгром генерала, которого сам Керенский вынужден был объявить «мятежником». Такая тактика, считал Милюков, свидетельствовала об опытном руководстве.
Общий вывод автора состоял в том, что приход большевиков к власти не был неизбежен, а стал возможен в результате комплекса ошибок Временного правительства и политических сил. Если главным объектом его критики был А. Ф. Керенский, то героем – генерал Л. Г. Корнилов. Милюков всё более утверждался в мысли, что от насильственного переворота Россию могла спасти только временная, но жесткая диктатура.
На Западе книга Милюкова была встречена сдержанно – прежде всего потому, что в ней подчеркивалась необходимость противопоставить большевистской диктатуре диктатуру «белых сил». Зато в Москве к изданию отнеслись серьезно. Ведущий советский историк М. Н. Покровский, бывший коллега Павла Николаевича по Московскому университету, опубликовал большую статью, в которой разбирал отдельные положения милюковского труда с точки зрения большевистской догматики и подчеркивал необходимость создания коммунистической концепции революции и Гражданской войны: «Первое, за что он принялся [в эмиграции], это писать свою историю революции. А так как нашей еще нет, то есть большая опасность, что вне России будут знакомиться с большевистскими делами по кадетским словам»{765}.
Современные исследователи высоко оценивают труд Милюкова. Американский историк Джейн Бербэнк назвала его первым произведением о революции, написанным профессиональным историком, подчеркивая, что «и сегодня [оно] остается главным источником применительно к событиям 1917 года, непревзойденным по качеству изложения событий и убедительным по их интерпретации»{766}. С последним утверждением согласиться невозможно – ко времени выхода книги Д. Бербэнк (1986) накопилась огромная литература о революции. Сказанное, однако, никак не снижает значение труда Милюкова.






