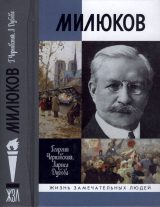
Текст книги "Милюков"
Автор книги: Георгий Чернявский
Соавторы: Лариса Дубова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 42 страниц)
Глава третья
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Предвоенные перипетииЕсли у Павла Николаевича, в связи с различием политических позиций и его жестким характером, были напряженные отношения со значительной частью эмигрантов, то его супруга пользовалась почтением и любовью почти всей русской общины Парижа. Участвуя в массе общественных комитетов, благотворительных акциях, она за последние 15 лет лично помогла многим десяткам людей, получила многочисленные письма благодарности{946}.
Анна Сергеевна являлась деятельным членом Комитета помощи русским писателям и ученым, сотрудничала в обществе «Быстрая помощь», в Московском землячестве, входила в состав дамских комитетов РДО и Союза русских писателей и журналистов в Париже, помогала работе Русского Красного Креста. Она стала основательницей и председательницей русской секции Международной федерации университетских женщин, в которой занималась просветительской деятельностью, в том числе организацией циклов лекций. Супруга Милюкова принимала участие также во многих художественных начинаниях, к ней обращались с просьбами о содействии в организации концертов, спектаклей и т. п. Изредка она выступала в периодической печати, главным образом по вопросам международного женского движения{947}.
Последние годы Анна Сергеевна страдала сердечным заболеванием. Она не исключала скорой кончины и незадолго до нее сказала кому-то из близких: «Самый жгучий вопрос – это то, что счастливые супруги не умирают вместе; ужасно остаться вдовой, но тяжко оставить после себя вдовца»{948}. Она явно идеализировала свои отношения с супругом, скорее всего, чтобы в этом аспекте сохранить хорошее впечатление о нем в эмигрантской среде. Она знала, что у мужа и раньше были связи на стороне, и теперь существовала женщина, с которой он регулярно встречался. Милюковы подумывали о разводе, но разорвать узы, освященные Церковью, среди эмигрантов считалось безнравственным и могло повредить Павлу Николаевичу как политическому аналитику и журналисту{949}.
Двенадцатого февраля 1935 года Анна Сергеевна, «седая вечная курсистка», как называл ее Дон Аминадо{950}, скончалась от гриппа, осложненного воспалением легких. Сочувственные статьи и некрологи появились почти во всей эмигрантской прессе. Константин Бальмонт откликнулся на смерть Анны Сергеевны двумя стихотворениями, посвященными ее памяти и осиротевшему супругу:
ОПРАВДАНИЕ ДОБРА
Я вас встречал, красивая душа,
Подруга человека волевого,
Чей верный путь – обдуманное слово.
В вас ясность глаз была так хороша.
Вы доброе свершали не спеша.
Своим считая бедствие чужого,
Усталому вздохнуть давали снова,
Он возрождался, радостно дыша.
В столице Белокаменной впервые
Я встретил вас в наш жизненный июнь.
Вы были дружны. Оба – боевые.
Судьба раскрыла свитки роковые.
Осиротевший муж ваш сед как лунь.
Но дух ваш с ним. Вы встретитесь – живые!
ПОТЕРЯВШЕМУ ЛЮБИМУЮ
Я видел твой последний взгляд,
От всех кругом, скользящий мимо,
Тоскующий невыразимо,
Он был как свечи, что горят.
«Ты вся – во всём – что мной – любимо».
Течет великая река,
Но дважды в ней побыть нельзя нам.
Кого в своем явленье ледяном
Коснется та, что век близка,
Увенчан он суровым саном.
И ты любимую свою,
С кем вдруг нежданная разлука
Была пронзающая мука,
Иному отдал бытию,
Всю пытку в душу взял без звука.
Всезавершающий обряд,
Нам память Вечную внушая,
Исполнен. Вечно – дорогая
Вошла в твой неотступный взгляд,
И ты ушел – как в ночь вступая.
Так призрак, лишь на миг придя,
В свое уходит измеренье.
Но гулкое вещало пенье,
Что после бури и дождя
Взнесется радуги свеченье{951}.
Н. Г. Думова пишет: «Милюков тяжело переживал смерть жены – друзья впервые видели его тогда плачущим. Но остался верен себе. Как в тот день 1915 г., когда пришло известие о гибели на фронте Первой мировой войны его любимого сына Сергея, он приехал в редакцию «Речи», чтобы написать передовую статью, так и теперь, еще до похорон жены, засел за резкий фельетон, направленный против газеты «Возрождение»{952}. Настораживает, что автор, в других случаях исправно ссылаясь на источники, для обоснования этого утверждения их не указала.
Между тем к моменту кончины Анны Сергеевны их с мужем отношения давно превратились в следование традиции, нежные чувства увяли много лет назад. Жесткий, сопротивлявшийся любым проявлениям естественных человеческих чувств характер Милюкова с годами еще больше окаменел. В противном случае вряд ли он стал в промежутке между смертью жены и похоронами писать газетную передовицу. Мы далеки от сентиментальных упреков в адрес героя нашей книги, но тот факт, что политическая деятельность подчас целиком поглощает человека, в данном случае подтверждается с избытком. Впрочем, Милюков был таким с молодости.
Всего через несколько месяцев после смерти Анны Сергеевны Милюков вступил во второй брак. Многие знакомые и незнакомые сочли его скоропалительную женитьбу бестактной{953}.
Он женился на своей давней подруге Нине (Антонине) Васильевне Лавровой (в девичестве Григорьевой), с которой тайком встречался еще в России и возобновил связь на чужбине. Именно с ней Милюков намеревался провести свои последние годы (в 1935 году ему исполнилось 76 лет) в случае развода с Анной Сергеевной, но расторгнуть этот брак так и не решился. Их свидания, происходившие на протяжении следующих двенадцати лет, в основном в небольшом отеле неподалеку от редакции «Последних новостей», зафиксированы в материалах французского полицейского наблюдения. Любопытно, что парижская полиция в полном соответствии со свободными нравами великого города комментировала, что супруга Милюкова оказывает ему помощь во всех начинаниях и «частная жизнь четы Милюковых не вызывает нареканий»{954}.
Отношения во втором браке не сложились. У Милюкова не было душевной близости с женщиной моложе его на 22 года (он неизменно называл жену «Ниночкой»), всецело поглощенной домашними заботами, материальными делами и не интересовавшейся общественной деятельностью. Павел Николаевич чувствовал себя одиноким.
Нина Васильевна взяла на себя все заботы по переезду на более благоустроенную квартиру на бульваре Монпарнас. Павел Николаевич не возражал, но относился к домашним хлопотам отрешенно – лишь сменил кабинет на новый, более просторный, который также использовал для подготовки статей, докладов о текущей политике и рукописей по политологии.
Иногда он с тоской вспоминал о младшем сыне, погибшем в Первую мировую войну, и дочери Наталье, отказавшейся уехать за границу. Она некоторое время жила в Киеве в квартире В. И. Вернадского, ставшего президентом Украинской академии наук. Наталья вышла замуж, переехала в Ростов{955} и там скончалась от тифа или дизентерии в 1921 году в возрасте двадцати трех лет{956}.
Судьба Николая, во время Гражданской войны уехавшего, как и родители, за границу, сложилась неудачно. Он пытался работать пилотом вначале в Югославии, затем во Франции, но нигде долго не удержался из-за увлечения спиртными напитками. Задолго до эмиграции Николай женился на дочери полтавского кадетского деятеля Ивана Николаевича Присецкого Ольге. У них родились дочери Виктория и Ирина, но брак вскоре распался. Об оставшихся на Украине детях Николай не вспоминал.
Однако в 1926 году он всё же принял, правда, без особой теплоты, старшую дочь Викторию, которую знакомым удалось вывезти за границу. Ольга Ивановна также пыталась выехать, но «компетентные органы» не дали ей разрешение именно на основании, что она была женой сына Милюкова. Ходатайства авторитетных общественных деятельниц Прасковьи Семеновны Ивановской (свояченицы В. Г. Короленко) и председателя Общества помощи политическим заключенным Екатерины Павловны Пешковой (первой жены Максима Горького) результата не дали. Ольга нищенствовала в Сорочинцах Миргородского уезда{957}. Затем следы ее потерялись. Если она дожила до Большого террора, то, скорее всего, сгинула в ГУЛАГе.
В тридцатые годы Николай потерял квалификацию, стал работать таксистом, но и в этой профессии, характерной для эмигрировавших бывших офицеров российской армии, не преуспел и жил случайными заработками. Из отчетов парижской полиции видно, что вместе с другими бывшими русскими военными он не раз устраивал пьяные дебоши в парижских ресторанах, за что его задерживали, привозили в участки жандармерии, но вскоре отпускали, в основном из уважения к отцу{958}.
Николай женился во второй раз, но вскоре опять развелся. Виктория росла почти беспризорной, отец не обращал на нее внимания. Фактически они жили на иждивении Павла Николаевича, который материально обеспечивал их, но близко к себе не допускал. Отношения между отцом и сыном не были теплыми. Письма Николай адресовал в основном матери, к отцу же обращался почти исключительно по материальным вопросам{959}. Судя по сохранившейся документации, после смерти Анны Сергеевны его общение с отцом прекратилось.
Виктория в 16 лет ушла из гимназии, вышла замуж, жила в бедности. Ее принимали в курортном доме Милюковых на побережье, но скорее терпели, чем воспринимали как родного человека. Муж ее вообще на дачу не допускался{960}.
Младшая внучка Ирина прожила в СССР долгую жизнь и скончалась в 1999 году…
В старости Милюков продолжал жить, по выражению Н. Г. Думовой, в «своем микромире»{961}. По наблюдению Андрея Седых, в теперь просторном кабинете Павла Николаевича на креслах валялись груды старых газет, и он, вместо того чтобы отправиться в столовую для чинного обеда с супругой, закусывал на углу письменного стола. «Вероятно, внешний уют и комфорт были не так уж ему необходимы, потому что с Ниной Васильевной он был по-своему счастлив»{962}. В последнем, впрочем, можно усомниться даже на основании рассказов самого Седых.
Вторая мироваяВ последние годы жизни Милюков продолжал оставаться «политическим животным» (авторство этого термина приписывается Аристотелю). Однако в старости он в значительной степени утратил панорамность взгляда на развитие международной ситуации и роль СССР в мире. Всё происходившее он стремился оценить теперь лишь с позиции «выгодно ли для России», независимо от других политических и моральных критериев. При этом отказ от учета комплекса факторов подчас приводил его к явно произвольным оценкам. Именно в этом ключе следует оценивать отношение Милюкова к подписанию советско-германского договора о ненападении.
В первый момент, узнав о пакте Молотова – Риббентропа, Милюков был потрясен. «Последние новости» писали: «Условие и обстановка, в которых прошло его подготовление, а также момент, выбранный для его осуществления Советской властью, могут быть названы только одним словом – предательством по отношению к Франции и Англии»{963}. Однако вскоре Милюков стал не просто оправдывать, а одобрять советско-германский договор. В глубокой старости Павел Николаевич, по существу, вновь стал Милюковым-Дарданелльским. Его позиция фактически совпала со стремлением Сталина использовать договор с Германией для присоединения к СССР европейских территорий, утерянных после 1917 года.
Милюков, разумеется, не знал о существовании дополнительного секретного протокола, но не мог не понимать, что между Германией и СССР существует соглашение о разделе Восточной Европы. Он с одобрением отнесся к включению в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, сожалея лишь, что не присоединена Варшава с окрестностями, когда-то входившая в Российскую империю. Точно так же им было встречено вхождение в СССР балтийских стран.
Что же касается Финляндии, то он занял несколько иную позицию. Из переписки Милюкова видно, что он был доволен сохранением ею независимости после советско-финской войны (1939–1940), но в то же время считал справедливым присоединение к СССР части ее территории, прилегавшей к Ленинграду. Павел Николаевич писал Н. И. Вакару: «Мне жаль финнов, но я – за Выборгскую губернию (I)»{964}. Обосновывая свою позицию, автор письма разделял ее на две части – «сентиментальную» (сочувствие финнам) и «политическую» (интересы России). Более того, явно противореча себе, он охарактеризовал нападение на Финляндию как преступление «перед Россией и перед всем цивилизованным миром»{965}. Когда же одним ударом расправиться с Финляндией не удалось и потянулись долгие месяцы «зимней войны», в «Последних новостях» появилась – безусловно, с санкции главного редактора – карикатура: негодующий Сталин и виноватый Ворошилов с мощными мускулами, но подбитым глазом. Подпись гласила: «Эх, Клим, надо ли было показывать всему миру, что эти мускулы у нас фальшивка»{966}.
И всё же, несмотря на эти громкие слова и карикатуру, сочувствие Милюкова явно оставалось на стороне империалистической политики Сталина, хотя он и опасался, что союз с Гитлером может втянуть СССР в войну с Францией и Великобританией{967}.
Иначе говоря, считая пакт с Германией мудрым шагом Сталина, Милюков всё же не менял своей антигитлеровской позиции. Даже включение в состав СССР новых территорий он рассматривал не только как возрождение Российского государства в дореволюционных границах, но и, косвенно, как удар по Гитлеру, сдерживание продвижения германских войск на восток{968}. Павел Николаевич писал, что политика СССР «не только направлена против собственного союзника, но и кровно заинтересована в том, чтобы этот союзник был в конце концов разбит». Конечно же, его представления, будто Сталин делает всё, чтобы навредить Германии{969}, были далеки от истины.
В ряде статей Милюков пытался доказать, что реальная политика Сталина в 1940 году была направлена против германских интересов, что он не мог не желать поражения Гитлера в войне, что в случае победы на Западе следующим шагом фюрера будет нападение на СССР с целью завоевания Украины и других территорий. У Милюкова цинично звучало сопоставление собственных взглядов с «империалистической» политикой Сталина. 4 февраля 1941 года, готовя новое, доработанное издание «Очерков истории русской культуры» (напомним, что в то время Северная Франция, включая Париж, была занята германскими войсками и Милюков выехал на неоккупированную территорию), Павел Николаевич писал журналисту и писателю Михаилу Андреевичу Осоргину: «Вторая часть первого тома готова; там мои новые теории о колонизации России и ее империализации: куда до меня… самому Сталину!»{970}
После капитуляции Франции летом 1940 года Милюков стал задумываться о своей судьбе. Н. Г. Думова полагает, что он мог уехать в США, стать руководителем кафедры в одном из американских университетов, что его «усиленно звали» перебраться за океан, однако никаких подтверждающих документов не приводит. Не обнаружили их и мы. Нам представляется, что с поездкой в США у Милюкова могли возникнуть серьезные затруднения из-за его просталинских заявлений в предыдущие годы и особенно одобрения им советско-германского пакта. В этом контексте, мы полагаем, исследовательница несколько идеализирует Милюкова, говоря о выборе им места пребывания: «Но он хотел быть «свидетелем истории», верил в скорую победу над фашизмом, считал, что события в Европе развертываются быстро и можно будет вновь наладить выпуск газеты, а потому предпочел остаться в не оккупированной фашистами зоне Франции»{971}.
Вначале он жил в административном центре этой зоны – курортном городе Виши (по названию города коллаборационистский режим во Франции стали называть вишистским), затем в Монпелье, а с апреля 1941 года перебрался в крохотный городок Экс-ле-Бен, сделав это по двум причинам: во-первых, он считал, что здесь будет менее заметен; во-вторых, городок находился на самой границе с Швейцарией и в случае опасности можно было попытаться выбраться в нейтральную страну, что ему многократно советовали сделать.
Жилось во французской провинции нелегко. Милюков сообщал Я. Б. Полонскому: «Насчет продовольствия – хуже с каждым месяцем. Если бы не хлопоты Ниночки насчет добывания, совсем бы изголодались. Устала она страшно из-за ухода за мной и из-за путешествия за припасами»{972}.
Именно здесь, в Экс-ле-Бен, Милюков, страдавший сердечным заболеванием и понимавший, что жизнь подходит к концу, почти полностью переключился на подготовку мемуаров. Даже при всей великолепной памяти Павла Николаевича необходима была некая «опорная» литература – хотя бы для проверки основных исторических фактов. Из Парижа удалось увезти лишь малую часть его огромной библиотеки, поэтому в Монпелье, а затем в Экс-ле-Бен предпринимались усиленные, хотя и малоуспешные попытки приобрести у букинистов необходимые книги, журналы, газеты. 16 апреля 1941 года Павел Николаевич писал Осоргину о местных букинистах с оттенком иронии: «Их было трое, и один – совсем неграмотный – подвергался частым моим набегам. Всё-таки было развлечение мне по нраву, и в итоге получились полки три книг и книжек, из которых черпаю сведения для пополнения своего образования. Как будто сохраняется традиция и видимость душевного спокойствия»{973}. Милюков опирался и на фрагменты своих воспоминаний предыдущих лет, наиболее значительным из которых был труд «Мои университетские годы», опубликованный в юбилейном сборнике 1930 года{974}.
На девятом десятке лет, чувствуя приближение кончины, Милюков мучительно размышлял над тем, как строить свое последнее произведение: должны ли мемуары историка отличаться от воспоминаний других участников важных событий, следует ли освещать то, что он пережил, в чем принимал участие, с точки зрения специалиста, причем накопившего большой опыт реконструкции прошлого.
Хотя в середине текста второго тома мемуаров появился крохотный раздел «Положение историка-мемуариста»{975}, удовлетворительного ответа на эти вопросы в нем нет. Зато Павел Николаевич рассуждал о том, что никогда не менял своей линии отношения к происходившим событиям, а это, как мы видели, применительно к советскому периоду российской истории совершенно не соответствовало действительности.
В экстремальных условиях пребывания чуть ли не в деревне, почти без литературы, без обычных встреч с эмигрантами быстро наступила старческая дряхлость. Судя по переписке, друзей у Милюкова не было, но прежние встречи, обмен мнениями, споры до хрипоты создавали определенный душевный комфорт, давали зарядку уму, заставляли «держаться на плаву». Теперь всего этого Милюков был лишен. Болезни учащались. В апреле 1942 года состояние, казалось, стало критическим – развилась пневмония, отягощенная плевритом. Необходимо отдать должное Нине Васильевне – в бытовых делах она поистине могла творить чудеса. Благодаря ее заботам супруг смог подняться.
Он понимал, что поступил правильно, уехав из оккупированного Парижа. Знакомые сообщили ему, что немцы совершили налет на его квартиру на Монпарнасе. Милюков пожаловался в письме Осоргину, также жившему в вишистской части Франции: «Моя квартира получила три визита, в результате которых перевезены оттуда сундуки, чемоданы и ящики, очевидно, полные содержанием, а вдобавок лучшее из мебели»{976}. Явно опасаясь цензуры, он не писал, кто совершил эти налеты. Понятно было, что именно находилось в увезенных сундуках: документы, рукописи и, возможно, книги.
Наивно полагая, что ученые-гуманитарии еще сохраняют какое-то влияние в Германии, он обратился с письмами к коллегам К. Штеллингу и О. Хётчу. Однако оба они были к тому времени устранены из Берлинского университета и ничем не могли помочь{977}.
Мнение Н. Г. Думовой, что в глубокой старости Милюков стал несколько мягче и душевнее, подтверждается письмами и воспоминаниями. В письме тому же Осоргину Павел Николаевич с любовью писал о своих «вечных спутниках» – книгах: «Захочу – и сниму с полки какого-нибудь старого друга в дрянном переплете, а то и без оного, с текстом, испещренным читательскими примечаниями, приобретенного по таксе три франка за том… О серьезных книгах умоляю Париж; злодеи, не посылают!»{978}
Милюков стал жаловаться своим адресатам, что его трудоспособность резко упала, чего не позволял себе всего несколькими годами ранее: «Сажусь за стол с пером в руке. Хочу что-то написать. Проходит четверть часа, полчаса – я сижу всё так же и ничего не пишу»{979}.
Проникновенные, хотя, видимо, не вполне точные в деталях заметки о последних месяцах жизни Милюкова оставил Дон Аминадо, который жил сравнительно недалеко от последнего местопребывания Павла Николаевича. Сам он в это время находился на нелегальном положении, но имел мужество, рискуя жизнью, посещать Милюкова. Дон Аминадо вспоминал:
«И так случилось, что только под занавес, после того, как «Последних новостей» уже и след простыл, во время оккупации, в горах Савойи, в Aix-les-Bains привела судьба встретиться с Милюковым – в иных условиях, в иной обстановке, в номере «Международной гостиницы», где на убогом письменном столе, между склянок с лекарствами, разбросаны были мелко исписанные листки последней рукописи, которая называлась «Московский дневник – университетские годы»[18]18
О работе Милюкова с таким названием известно только из воспоминаний Дон Аминадо, Скорее всего, речь идет об упомянутой выше мемуарной статье или о разделе воспоминаний.
[Закрыть].
Милюков и болел, и умирал, как тургеневский Базаров, любимый его герой. Никогда не жаловался, ни о чем не просил, никого не затруднял, не тревожил.
– Не откажите в пустяке, согласитесь быть моим душеприказчиком… Печально было это слушать и неожиданно. Мне всегда казалось, что Милюков меня скорее терпел, как в некотором роде необходимое зло в газете, и вдруг такой необычайный, ничем как будто не оправданный переход к близости, доверию, почти совсем к дружескому, милому отношению. Отказаться было нельзя. Нотариус требовал душеприказчика на месте, остальные были в Париже и в Лондоне. Пришлось согласиться. Павел Николаевич был искренне доволен, благодарил и крепким базаровским рукопожатием подчеркнул свою трогательную признательность[19]19
Этот фрагмент воспоминаний вызывает серьезное сомнение: нелегальное положение Дон Аминадо предопределяло невозможность его контактов с официальными лицами, в частности с нотариусом. Кроме того, у Милюкова уже был душеприказчик Б. И. Элькин. В силу того что он, как и Дон Аминадо, был евреем, Элькин не мог исполнять эти обязанности при вишистском режиме, но Павел Николаевич надеялся дожить до разгрома гитлеровских захватчиков.
[Закрыть].
Встречались мы с ним часто почти в течение года с лишним, и закат его был высокий, ясный, олимпийский. Рассказывал он о многом, о пережитом, о прошлом, и в голосе его звучали ноты, исполненные чарующей мягкости. Открытие, познание человеческой души приходит всегда слишком поздно…
Из савойских разговоров особенно запомнился один. П. Н. сидел в кресле, укутав ноги пледом, и долго смотрел на карту Европы, висевшую напротив, на стене. Карта была утыкана разноцветными бумажными флажками, точно определявшими линию русского фронта.
– Глядите, наши наступают с двух сторон и продвигаются вперед почти безостановочно…
Глаза его светились каким-то особым, необычным блеском. Он сразу оживлялся и повторял с явным, подчеркнутым удовлетворением:
– Наш фронт… наша армия… наши войска…
В устах этого старого непримиримого ненавистника большевиков слово «наши» приобретало иной, возвышенный смысл. В самые тяжкие и, казалось, безнадежные моменты он ни на один миг не переставал верить в победу союзников, в победу русского оружия… А восьмидесятилетнего старика было по-настоящему жаль. Не так уж много Милюковых на белом свете. Много за его долгую жизнь копошилось вокруг него всякой человеческой скверности и мрази, завистливой и убогой посредственности, тупости, глупости и безответственного бахвальства, а наипаче всего пошлости»{980}.
Другие источники также свидетельствуют, что Милюков внимательно следил за ходом войны и особенно за развитием событий на советско-германском фронте. Тяжелые поражения Красной армии буквально давили его. Он вновь испытывал ненависть к советской власти. В письме Вакару говорилось: «Гигантский эксперимент кончился гигантской катастрофой»{981}. Однако Я. Б. Полонскому он эзоповым языком характеризовал советское отступление летом 1942 года как стратегический маневр: «Новый этап нашествия едва ли будет удачен, несмотря на все приготовления соседа и, во всяком случае, не сможет быть решающим, как он себе обещает». Милюков писал: «Книгу я свою (по истории российской внешней политики. – Г. Ч., Л. Д.) закончил скромными, но твердыми пожеланиями продолжения начатой эволюции в СССР в раз намеченном направлении, которое является теперь неизбежным – даже независимо от исхода конфликта»{982}. Перелом в ходе войны вызвал у него эйфорию. 26 сентября 1942 года, во время первой, оборонительной фазы грандиозного сражения под Сталинградом он писал Осоргину: «Это неверно, что история не делится на картины. Сейчас одна такая картина перед нами: «Сталинград». Вот и размышляйте, что будет в случае того или иного исхода. Во всяком случае, тут поворот, и «картина» будет другая»{983}.
Нельзя сказать, что в старости Милюков стал сочувственно относиться к коммунистическим идеям – он был враждебен им до конца своих дней. Однако войну СССР против Германии он действительно воспринимал как Отечественную, а отсюда шла та же логическая ниточка, которая в свое время привела его и к оправданию сталинского Большого террора, и к признанию целесообразным советско-германского пакта. Теперь, однако, явный компромисс с собственной совестью был оправдан, поскольку речь действительно шла о существовании самостоятельного Российского государства. Организовать сопротивление гитлеровскому нашествию, добиться перелома в ходе войны могла единственная сила – коммунистическая партия, являвшаяся послушным орудием сталинской диктатуры, а жизненные интересы Сталина и всей партийно-государственной машины в данном случае совпадали с коренными интересами народа – сохранить независимое существование, не превратиться в рабов Третьего рейха.
Милюков, разумеется, не имел понятия о документах, свидетельствовавших, что Сталин фактически отказался от основополагающих коммунистических идей мировой революции. Безусловно, с его подачи Исполком Коминтерна после начала Великой Отечественной войны направил компартиям директиву, где говорилось: «Болтовня о мировой революции оказывает услугу Гитлеру…»{984}
Именно в этих условиях Милюков весной 1942 года начал писать статью «Правда о большевизме», которая давалась ему очень тяжело и по политическим, и по сугубо личным причинам. Дело в том, что в нью-йоркском «Новом журнале» появилась статья его старого коллеги и друга М. В. Вишняка «Правда антибольшевизма», в которой утверждалось: «…Общее отношение русского населения к большевистскому режиму осталось таким же враждебным, каким оно было в голодные годы. Русский народ проявляет сейчас чудеса храбрости не благодаря советскому режиму, а вопреки режиму… большевистский социализм превратился в самодержавный коммунизм со всеми его атрибутами: массовыми казнями, пытками, провокацией, заложничеством, шантажом и доносительством, даже детей на родителей»{985}. Этот страстный обвинительный акт был адресован той части русской эмиграции, которая в своем патриотическо-националистическом чувстве стала, по существу, служанкой Сталина. «И Ленин, и Троцкий, и Сталин прейдут, а Россия останется», – убеждал Вишняк.
Статья Милюкова была ответом Вишняку и в то же время обоснованием просоветской позиции. Павел Николаевич писал Осоргину весной 1942 года: «Своей «богине», истории, я, конечно, не изменяю и только недавно принес ей большую жертву, «прощая непростимое»{986}.
Павел Николаевич серьезно рисковал: если бы эта статья была обнаружена вишистскими властями или немцами, его расстреляли бы или отправили в концлагерь как советского агента. Но он об этом не думал. Он отлично понимал, что жизнь подходит к концу, и позволял себе писать то, что хотел.
При жизни Милюкова статья опубликована не была. По данным Н. Г. Думовой, она распространялась нелегально в виде брошюры, напечатанной на ротаторе. Об этом же сказано в посмертной публикации статьи, осуществленной журналом «Русский патриот» тотчас же после освобождения Парижа англо-американскими войсками в 1944 году{987}.
Правда, Милюков послал статью в «Новый журнал», но в условиях войны рукопись пропала в дороге. Исследователь Е. П. Нильсен пишет: «…редакторы потом благодарили своего Бога. Если бы она дошла, редакторы не могли бы не напечатать эту рукопись ввиду громкого имени автора»{988}.
Р. Гуль, в свою очередь, отметил: «Для зарубежных русских демократов и социалистов-антибольшевиков статья Милюкова оказалась «атомной бомбой» по своей неожиданности и по разрушительности прежней идеологии»{989}. Это суждение, правда, относилось лишь к тем эмигрантам, которые не знали предыдущих просоветских выступлений Милюкова и по-прежнему видели в нем ортодоксального антикоммуниста. Крикливый и поверхностный Гуль рассыпал проклятия Милюкову, который, по его словам, «подкинул» Петру Великому Сталина – «разбойника с Коджармского шоссе и грабителя Тифлисского государственного банка». Единственное, что он смог определить более или менее верно, – то, что Милюков «мыслил всегда в категориях государственности, причем российская великодержавность всегда была целью его политической деятельности».
В статье Милюков признавал: «Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые привели к ней. Знаю, что это признание близко к учению Лойолы. Но… что поделаешь?» Автор пытался применить всё свое полемическое, публицистическое искусство, чтобы доказать, что события октября 1917 года были истинной революцией, поскольку в корне изменили старый социальный строй и политическую структуру, оборвав моральную традицию и посягнув на старую народную веру. Милюков призывал видеть не только разрушительную сторону, но и творческие достижения большевистской власти. Затем он переходил к главному: «Россия давно перестала быть Россией Ленина, и было бы чересчур наивно утверждать, что к этому сводится ВСЯ «государственная мудрость» диктатора. Едва успел умереть Ленин, как Сталин поспешил освободить свои руки от капитальнейшего ленинского тезиса – о необходимости мировой революции. Он объявил, что в России социализм может быть введен и без ее помощи. Это был первый и радикальнейший шаг в направлении дальнейшей эволюции. Диктатор, правда, прикрыл свою ересь именем Ленина. Но он не был первым политиком, который скрыл свое нововведение под старым именем, освященным традицией».
Автор не соглашался с утверждением Вишняка о противоположности власти и народа: «В действительности этот народ в худом и в хорошем связан со своим режимом. Огромное большинство народа другого режима не знает. Представители и свидетели старого порядка доживают свои дни на чужбине. Народ не только принял советский режим как факт, он примирился с его недостатками и оценил его преимущества. Советские люди создали громадную промышленность и военную индустрию, они поставили на рельсы нужный для этого производства аппарат управления. Упорство советского солдата коренится не только в том, что он идет на смерть с голой грудью, но и в том, что он равен своему противнику в техническом знании, вооружении и не менее его развит профессионально».






