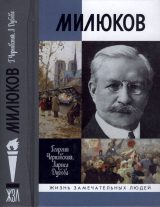
Текст книги "Милюков"
Автор книги: Георгий Чернявский
Соавторы: Лариса Дубова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)
Приехав в Лондон из Парижа в день католического и протестантского Рождества – 25 декабря 1918 года, Милюков сразу же оказался в центре внимания общественных кругов и развернул бурную деятельность.
На свои средства, хранившиеся в западных банках, он смог сразу же обеспечить себе вполне приличное существование. Была снята квартира на улице Гарнингфорд в Хэмпстеде, в северо-западной части британской столицы, бывшем бальнеологическом курорте. Постройка Северной лондонской железной дороги в 1860-х годах облегчила связь с центром города, и Хэмпстед стал застраиваться дорогими домами. Здесь жили многие представители лондонской элиты, научные светила и известные художники. Автомобиля Милюков не приобрел – это было для него слишком дорогое удовольствие, – но по городской железной дороге легко добирался до центра, а во многих случаях за ним присылали машину организаторы мероприятий.
Многолетний журналистский опыт, писательский дар, организаторские способности и навыки руководства крупными периодическими изданиями уже с первых месяцев эмиграции обеспечили Милюкову одно из ведущих мест в русской заграничной прессе.
Правда, первое издание, которым он руководил за пределами России, не было русскоязычным. Фактически сразу же после приезда в Лондон в самом конце 1918 года он приступил к выпуску еженедельного журнала «The New Russia» («Новая Россия»), предназначенного для западной публики. По всем доступным источникам, прежде всего по свидетельствам оказавшихся в Лондоне очевидцев, в журнале освещались политика правительства Ленина, ход Гражданской войны, деятельность антибольшевистских государственных учреждений в Поволжье, Сибири, на Урале, Северном Кавказе и т. д.
Используя старые связи, установленные во время прежних поездок в Великобританию, Павел Николаевич встречался с депутатами парламента, деятелями Консервативной и Либеральной партий, представителями культуры, убеждая их активизировать поддержку сил, которые вели борьбу против правительства Ленина. В такого рода беседах обычно не обсуждалась необходимость установления в России временного диктаторского режима – Милюков хорошо знал, что и где следует говорить.
Довольно быстро Павел Николаевич установил связь с русскими эмигрантами, жившими в других странах. Он стал получать письма из Финляндии, Чехословакии, Германии, Франции, даже из Египта{767}.
В Лондоне для западного читателя была опубликована брошюра Милюкова «Большевизм как международная опасность». Отмечая, что большевики пришли к власти в значительной степени благодаря «немецким деньгам», он одновременно подчеркивал, что Ленина и его сторонников никак нельзя считать германскими шпионами, поскольку они ставили и решали не германские, а собственные задачи. Автор призывал не недооценивать опасность большевизма не только для России, но и для других стран. Лучший способ одержать победу, убеждал он, – это не представлять своего противника слишком слабым и легкомысленным. «Я предпочитаю видеть своего врага в самом лучшем свете, чтобы глубже понять и вернее сокрушить его»{768}.
В британской столице Милюков продолжал переговоры с социалистическими участниками делегации, начатые еще в дороге. Под их влиянием Павел Николаевич шел на определенные компромиссы: постепенно отказывался от упований на военного диктатора, возвращался к идее сравнительно быстрого демократического преобразования России после ликвидации власти большевиков. В отличие от меньшевиков и эсеров, он считал маловероятным приход к власти «небольшевистских сил» в результате внутренних процессов, всё еще возлагал надежды на внешнее вооруженное вмешательство, но и по этим вопросам у него зарождались и постепенно созревали сомнения.
Трудоспособность Павла Николаевича, которому шел уже седьмой десяток, оставалась исключительно высокой, каждый день был расписан буквально по минутам. Ежедневно у него были по крайней мере две официальные встречи, а иногда и значительно больше.
Лондон стал местом бурного всплеска общественной активности Милюкова. Прагматики-британцы «позабыли» киевский период его деятельности. Довольно быстро отношение к нему стало изменяться и во Франции.
В Лондоне Милюков встречался с парламентариями, членами правительства, руководителями общественных организаций, журналистами, читал лекции, посещал колледжи и даже гимназии. Информацию обо всех этих мероприятиях он исправно заносил в дневник. Например, утром 15 января 1919 года он дал обширное интервью корреспонденту авторитетной «Вестминстер газетт», связанной с правящей либеральной партией, а вечером в Национальном клубе этой партии состоялся его доклад. Милюков доказывал слушателям, что большевики, долгое время именовавшие себя социал-демократами, не социалисты и не демократы, их власть опирается на крайне узкий социальный базис и «поддерживается насилием, худшим, чем при самодержавии». Он выразил разочарование в связи с недопущением России на Парижскую мирную конференцию (естественно, речь шла не о Советской России, а об эмигрантах). Доклад был благожелательно прокомментирован лондонской прессой{769}.
Весьма ответственное выступление состоялось 20 февраля в Кембриджском университете. Накануне высказывались опасения, что будет мало слушателей, так как предполагалась очень плохая погода. Действительно, сильный дождь с ветром соответствовали прогнозу, но большая аудитория была переполнена не только студентами и преподавателями, но и другими людьми, пришедшими взглянуть на бывшего видного русского политика и послушать его мнение по вопросам, считавшимся судьбоносными. Лекция была посвящена сопоставлению теории большевизма (его «интернационального лица») с его практикой («русским лицом»). Лекция, по его оценке, встретила горячий прием{770}. Впоследствии Милюков еще неоднократно, на базе нового материала, читал лекции о теории и практике большевизма.
Через британских официальных лиц и их представителей при антибольшевистских формированиях на территории России Павлу Николаевичу удалось установить связь с командованием Вооруженных сил Юга России, прежде всего с главнокомандующим генералом Деникиным. В нескольких письмах и телеграммах Милюков высказывал свое мнение о ситуации в районах, находившихся под управлением Белой армии. Например, 8 октября 1919 года он телеграфировал, что поступает информация о насилиях деникинцев над еврейским населением, и убеждал в необходимости публичного осуждения такого рода инцидентов, для чего можно было бы использовать западную прессу{771}.
В свою очередь, на конференции кадетов в Омске в мае 1919 года (там в это время власть принадлежала адмиралу Александру Васильевичу Колчаку, провозглашенному Верховным правителем России) было объявлено, что Милюков подробно ответил на направленные ему в Лондон вопросы: предложил признать правительство Колчака, сохранить свободу рук в отношении только что созданной Лиги Наций, отстаивать единство России в довоенных границах, за исключением Польши и Финляндии{772}.
Тем временем к началу 1920-х годов становилось ясно, что вооруженная борьба против власти большевиков успехом не увенчалась, что на территории страны утвердилась советская власть, а правительство Ленина, в 1921 году пошедшее новой экономической политикой на хозяйственные уступки капиталистическим элементам и особенно крестьянству, отнюдь не смягчает политический курс. Рядясь в тогу диктатуры пролетариата, оно укрепляло власть партии большевиков, ликвидируя остатки многопартийности, организовав судебный процесс над лидерами эсеров и изгнав за границу наиболее видных меньшевиков. Милюков понимал, что попытки убедить правительства стран Антанты предпринять против Советской России более активные действия остаются втуне. Оказав лишь незначительную военную помощь белым армиям, правительства Великобритании, Франции, США, Японии вскоре отозвали свои войска из России, а затем стали прощупывать возможности установления с большевистской властью «деловых отношений».
Такое поведение союзников отнюдь не радовало Милюкова. В письмах он сдержанно, но вполне определенно осуждал «практицизм» британских и французских властей и хозяйственных структур. Он писал руководителям Всероссийского национального центра – межпартийной антибольшевистской организации, действовавшей на территориях, контролируемых белыми генералами, а также подпольно в тылу Советской России: «Теперь выдвигается в более грубой и откровенной форме идея эксплуатации России как колонии (подчеркнуто Милюковым. – Г. Ч., Л. Д.) ради ее богатств и необходимости для Европы сырых материалов»{773}.
О всё более пренебрежительном отношении руководителей Антанты к «белой России» Милюков мог судить по попытке правительства США, поддержанного властями Великобритании и Франции, организовать встречу всех «русских правительств» на турецком острове Принкипо в Мраморном море (встреча сорвалась), по отказу в допуске представителей Колчака и Врангеля на Парижскую мирную конференцию и т. д.
Перед Милюковым в этих условиях вставали две взаимосвязанные задачи – определить свое отношение к советско-большевистскому режиму и в то же время выяснить положение русских эмигрантов и свое собственное в политической структуре многочисленных эмигрантских организаций.
Павел Николаевич внимательно следил за высказываниями видных представителей кадетской эмиграции. Большинство бывших руководителей кадетской партии в начале 1920-х годов обосновались в Берлине, их признанным лидером стал В. Д. Набоков, перебравшийся из Лондона в Париж, а затем в столицу Германии. В прошлом один из ближайших милюковских соратников, теперь он вел себя как новый руководитель партии, которая, впрочем, существовала скорее в воображении ее эмигрировавших членов. Набоков многократно выступал в ежедневной газете «Руль», которую стал издавать в 1920 году совместно с И. В. Гессеном. Одновременно было образовано русское издательство «Слово», начавшее публикацию задуманного Гессеном многотомного «Архива русской революции».
Однако газета «Руль» не являлась партийным органом. Набоков стремился добиться единства русской эмиграции, прежде всего сплочения самих кадетов, а затем их фактического объединения с правыми монархистами{774}.
Милюков с некоторой ревностью относился к лидерским устремлениям Набокова, но выписывал «Руль» и одобрял замысел Гессена начать издание «Архива русской революции» – публикации документов и мемуаров представителей различных течений российской политической и общественной мысли. В 1921 году он приветствовал появление первого тома этого издания, справедливо предрекая ему исключительную историческую важность.
В апреле 1920 года Павел Николаевич ездил в Париж, где пытался подготовить встречу представителей различных течений эмиграции для выработки общей платформы. Эти усилия не увенчались успехом. Он констатировал: «Наступает очень трудный момент. Антибольшевистская Россия может разделиться на деникинцев и врангелевцев»{775}.
Милюков возвратился из Парижа в отнюдь не радостном настроении. И всё же, имея в виду, что столица Франции оставалась центром русской эмиграции, прежде всего ее культурной элиты, он стремился перебраться туда окончательно, тем более что, судя по апрельской поездке, французские власти теперь относились к нему более или менее благожелательно.
Будни в Париже. Зарождение «новой тактики»В октябре 1920 года Милюков переехал в Париж. С этого времени Франция стала постоянным местом пребывания начавшего стареть, но еще бодрого политика, всё более превращавшегося в публициста и организатора прессы. Его жене удалось при помощи украинских деятелей, а затем офицеров Антанты перебраться из Киева вначале в Севастополь, где она некоторое время служила в ведомстве иностранных дел гражданской администрации генерала Врангеля, а затем в Лондон. Анна Сергеевна оставалась там до января следующего года, занятая в основном отправкой в Париж имущества, библиотеки и архива{776}.
Милюков понимал, что скорое возвращение на родину ему не светит, поскольку власть большевиков укрепляется. Они с Анной Сергеевной жили скромно, но имели возможность не отказывать себе в том, что считали естественными потребностями для любого интеллигентного человека. Средства поступали в виде гонораров за издания и переиздания его произведений, новые газетные и журнальные публикации. По всей видимости (хотя достоверные сведения отсутствуют), у него были весомые счета в западных банках, открытые еще во время предыдущих поездок. Они могли позволить себе снять в Париже удобную квартиру.
Правда, на первое время Милюковы остановились у знакомых. Н. Г. Думова полагает, что они жили полуконспиративно, опасаясь покушения правых монархистов{777}. Однако Павел Николаевич не скрывался, много выступал и разъезжал и, судя по всему, никаких опасений, по крайней мере в то время, не испытывал.
На новую квартиру Анна Сергеевна и лондонские знакомые отправили не менее двадцати ящиков с имуществом, приобретенным в Великобритании, и, главное, рукописи и личный архив{778}.
Единственная роскошь, которую Милюковы позволили себе, был дорогой рояль. Обычно на его крышке лежала также купленная в Париже скрипка. Иногда Павел Николаевич играл для себя, реже супруги исполняли инструментальные дуэты. Как и в предыдущие годы, Милюков был до предела занят общественными делами, и выкроить время на музицирование было очень сложно, но всё же он с женой регулярно посещал оперные спектакли, премьеры в драматических театрах, концерты, особенно русских актеров – эмигрантов, а также приезжавших на гастроли из Москвы.
Павел Николаевич был регулярным участником приемов и благотворительных вечеров, устраиваемых представителями французской элиты. Разумеется, он не мог вносить крупные пожертвования в благотворительные фонды, но присутствие эмигрантской знаменитости привлекало людей имущих, плативших немалые деньги за возможность участвовать в престижных мероприятиях и заодно поглазеть на бывшего российского либерального министра.
С первых месяцев жизни в Париже Павел Николаевич выступал с публичными лекциями. Наибольшее удовлетворение доставляло ему чтение цикла «История цивилизации в России»{779}.
Между прочим, ряд авторов, в том числе близкий к Милюкову Дмитрий Иванович Мейснер, в воспоминаниях отмечают, что и в весьма почтенном возрасте он оставался дамским угодником и пользовался успехом не только у русских эмигранток, но и у супруг французских политических деятелей и бизнесменов{780}.
Милюковы отнюдь не бедствовали, даже отдыхали в Ницце и приобретали недвижимость. Марина Цветаева, проводившая лето 1935 года с маленьким сыном на атлантическом побережье, сообщала в одном из писем: «Сняли мансарду… В Faviere несколько русских вилл, между прочим – две милюковских, обе заколоченные»{781}.
Однако в центре внимания Милюкова оставалась политическая жизнь эмиграции.
Павел Николаевич был одним из инициаторов создания организации, назвавшей себя Совещанием членов Учредительного собрания, куда входили в основном кадеты и эсеры, включая Керенского и Чернова. Милюков предостерегал от объявления Совещания зарубежным российским государственным органом: «Рамки его представляются… недостаточно широкими для создания исключительно из его среды представительства, достаточно авторитетного, чтобы устранить необходимость всяких других попыток в этом направлении».
Сам он присутствовал на подготовительных встречах и первом заседании 8 января 1921 года, но, как видно из документов Совещания, не играл в нем руководящей роли (председателем был избран эсер Н. Д. Авксентьев), войдя лишь в комиссию по повестке дня. Однако 19 января он от имени конституционалистов-демократов выступил с декларацией, которая дает отчетливое представление о его позиции. Помимо небольшой группы кадетов, участвовавших в Совещании, его никто не уполномочивал представлять партийные взгляды, поэтому неудивительно, что Набоков и другие члены берлинской группы были недовольны{782}.
Позиция Милюкова их озадачила и даже возмутила: ранее оправдывавший участие кадетов в активной вооруженной борьбе против большевистской диктатуры, теперь он возлагал надежду на мирную позитивную эволюцию государственного строя в России. Так начинал зарождаться тот «новый курс», который, эволюционируя на протяжении 1920-х – первой половины 1940-х годов, привел Милюкова к фактическому примирению с советской системой.
В записке «Что делать после Крымской катастрофы?» Милюков ознакомил с «новой тактикой» членов парижской группы кадетов, причем недвусмысленно высказался против интервенции, за перевод эвакуированных за границу белых армий на положение беженцев, за ориентацию на внутренние процессы перерождения большевизма под влиянием народных низов, прежде всего крестьянства. Это еще более укрепило его контакты с эсеровскими деятелями{783}.
В других выступлениях Милюков поддержал предложения об обращении к западным державам с призывами снять экономическую блокаду России и возобновить с ней торговые отношения, но высказался против заключения хозяйственных договоров, так как оно означало бы фактическое признание большевистской власти.
Само участие Милюкова в Совещании членов Учредительного собрания свидетельствовало, что теперь он считал своими естественными союзниками в борьбе против большевизма новыми средствами партию правых эсеров. На совещании группы кадетов в Париже 20 января 1921 года он заявил: «Кардинальный вопрос – это завязать объединение с эсерами. Все остальные вопросы – вопросы техники. Желание такого объединения искренно с обеих сторон, и неправильно считать, что оно явится только фикцией»{784}. Разумеется, в этих словах было немалое преувеличение, но, похоже, Павел Николаевич действительно верил в возможность создания с эсерами единой организации, за что в дальнейшем вел борьбу на протяжении полутора десятилетий.
Отчасти рекомендации Милюкова были приняты Совещанием. Возобладали, однако, более левые установки эсеров, возлагавших утопические надежды на то, что российское крестьянство скажет решающее слово и принудит большевиков к сдаче позиций.
Участвовавшие в Совещании представители национальностей высказались против проповедуемой Милюковым установки на единую, хотя и федерализованную Россию. Действительно, в употреблении им одновременно понятий единства и федерации содержались противоречия. Павел Николаевич неоднократно пытался объяснить, в чем же именно состояло его понимание неделимости России и одновременной ее федерализации, но каждый раз сосредоточивал внимание именно на целостности страны, сводя федерацию к местному самоуправлению{785}.
Милюков не был удовлетворен результатами встреч левых и центристских членов Учредительного собрания и откровенно выразил это в отчете о происходивших прениях, с которым выступил 25 января в кафе «Вольтер» перед парижскими членами кадетской партии: «Нет выбора. Борьбу нужно переносить внутрь России (ибо извне борьбы нет и неизвестно, когда будет, а если будет, то на унизительных условиях и реставраторская), а внутрь нельзя идти с персоналом и политикой Врангеля»{786}.
Так или иначе, не столько собственная партия, сколько Совещание членов Учредительного собрания стало на недолгое время фундаментом, на который опирался Милюков в агитационной работе. Проявилось это прежде всего в поездке в США, где он по поручению Совещания находился с ноября 1921 года по февраль 1922-го. Интересно, что билет на пароход был в порядке исключения куплен за счет средств Американской администрации помощи – организации, финансировавшей помощь населению европейских стран, пострадавших от мировой войны{787}.
Здесь он чувствовал себя в своей стихии. Помня предыдущие поездки Милюкова, центральные и местные американские власти по-прежнему представляли его влиятельным государственным деятелем, хотя было ясно, что он был всего лишь эмигрантом. И у Милюкова, и у его гостеприимных хозяев была весьма сильна надежда, что большевизм в скором времени рухнет в результате внутренних противоречий, Россия возвратится на буржуазный путь, а сам он станет одним из ее руководителей.
Выступал Павел Николаевич в Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Детройте, Кливленде в крупнейших залах, заполненных публикой. Эти лекции затем были исправно собраны и опубликованы в виде книги «Россия сегодня и завтра»{788}. В прессе появились хвалебные отзывы, в которых подчеркивалось, что автор надеется на сравнительно скорое восстановление в России демократического порядка.
Особое внимание в сборнике было уделено провалу попыток развязать мировую революцию при помощи крохотных коммунистических партий, создававшихся на советские средства. Приводились многочисленные доклады агентов Коминтерна из различных стран, признававших, что «непосредственная революционная ситуация» миновала, капитализм восстанавливает силы и «стабилизируется».
По-видимому, по рекомендации французских знакомых Павел Николаевич установил контакт с американским танцовщиком и балетным режиссером российского происхождения Адольфом Больмом, за творчеством которого следил в течение ряда лет. Он передал партнеру Анны Павловой, работавшему теперь в театрах Нью-Йорка, Чикаго и других городов, подарки и приветы из Парижа, в частности от своей юной почитательницы Ольги Левинсон, от которой получал письма и в США{789}.
Еще до этой поездки Милюкову удалось взять под свой контроль газету «Последние новости», незадолго до этого начавшую выходить в Париже. Она была основана при материальной помощи Торгово-промышленного и финансового союза, в том числе члена его совета, юриста и предпринимателя М. С. Залшупина, председателя правления Французского банка для славянских стран{790}.
Первый номер «Последних новостей» увидел свет 27 апреля 1920 года под редакцией адвоката и журналиста М. Л. Гольдштейна, ранее выпускавшего в Петрограде «Вечернее время». Первоначально новая газета была исключительно информационной, не имела никакого политического лица. Однако менее чем через год Гольдштейн, утративший к изданию интерес, сравнительно дешево продал его группе членов кадетской партии (Винаверу, бывшему депутату Госдумы от Донского края Василию Акимовичу Харламову и др.). Милюков, выступавший в газете еще в то время, когда ею руководил Гольдштейн, теперь стал ее главным редактором{791}.
Первого марта 1921 года газета вышла под руководством Милюкова. Смена главного редактора сразу же отразилась на политической ориентации издания. Дон Аминадо констатировал: «Осведомительный нейтралитет был немедленно сдан в архив, газета получила определенный облик… республиканско-демократическое направление»{792}.
В 1924 году газета стала органом образованного в июне Республиканско-демократического объединения (РДО), которое фактически возглавил Милюков. Хотя Павел Николаевич не объявил, что порывает с кадетской партией, со времени образования РДО он почти прекратил формальные связи с кадетскими организациями за рубежом.
Новый курс Милюкова стал хорошо известен высшим руководителям Советской России. Ими был предпринят пробный ход – через подставных лиц Милюков стал получать сведения, что в случае возвращения на родину ему была бы предоставлена почетная, уважаемая должность. Такой вариант был отвергнут решительно. 21 сентября 1923 года Павел Николаевич писал Е. Д. Кусковой: «Для меня Совдепия не арена для деятельности, а именно тюрьма, даже и при самом хорошем обращении сторожей, в котором, однако, сомневаюсь, потому что уверен, что не заслужу его»{793}.






