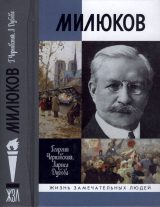
Текст книги "Милюков"
Автор книги: Георгий Чернявский
Соавторы: Лариса Дубова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 42 страниц)
В целом Милюков достаточно высоко оценивал уровень преподавания литературы, особенно фиксируя внимание на том, что оно позволяло формировать у учащихся в какой-то мере оппозиционные взгляды: «За формой тут нельзя было скрыть существа дела, и сколько-нибудь талантливый преподаватель мог, при желании, провести контрабанду»{51}.
Именно уроки литературы привили Павлу вкус к истории и политике, чего нельзя сказать об уроках собственно истории. Учитель держался в «строгих рамках», задавал материал «от сих до сих» по скучному учебнику Иловайского, ничего не объясняя, и, конечно же, не мог заинтересовать своим предметом. «Новая история» (трудно сказать, какой период Милюков имел в виду, скорее всего это была вторая половина тысячелетия, примерно от английской революции XVII века и времен Ивана Грозного на Руси) ограничивалась хронологией войн и датами правления монархов, а новейшая (вероятно, подразумевался XIX век) не преподавалась вообще. Так что к становлению видного историка гимназия явно не была причастна, по крайней мере преподаванием истории.
Удивительно, но своенравный Милюков после недолгого неприятия увлекся древней словесностью. Через много десятилетий он отмечал исключительную заслугу в этом преподавателя древних языков Петра Александровича Каленова. Этот человек не имел специального образования, а учителем стал в силу того, что толстовская реорганизация гимназического образования потребовала большого числа преподавателей древних языков. Найти их было нелегко, и администрация вынуждена была принимать на работу «любителей».
Каленов, любитель Древнего мира в прямом смысле слова, эту любовь передавал ученикам. Он не был слишком требовательным, не заставлял скрупулезно учить грамматические исключения, что делали другие педагоги. Зато он знакомил подопечных с древнегреческой философией, по-своему трактовал Сократа и Платона, проводя параллели с современной жизнью, и с помощью классиков пояснял вечные нравственные идеалы. «Этого рода «классицизм» выходил далеко за пределы полицейских предвидений его сиятельства графа Дмитрия Андреевича [Толстого]{52}». Каленов был одновременно любителем западной классической поэзии. Позже Милюков с удовольствием написал предисловие к сборнику произведений Фридриха Шиллера в переводе Каленова{53}.
Осознав, что древние языки – это мощный инструмент изучения культуры, а следовательно, историко-культурных сопоставлений, Милюков в старших классах настолько овладел латынью и древнегреческим, что смог в подлинниках читать античные сочинения. Он стал «классицистом» в лучшем смысле этого слова и даже написал ученическую работу «Метафизика Аристотеля»{54}.
Другой областью его интересов стало соотношение экономического развития со всеми остальными сферами эволюции общества. Сугубо ученический характер носило написанное в седьмом классе сочинение «О влиянии земледелия на развитие цивилизации», но обширный список использованной литературы свидетельствовал, что гимназист занимался этой темой серьезно.
Еще одно ученическое произведение было посвящено Реформации, причем юный автор попытался провести сравнение между протестантизмом и католицизмом{55}.
Сочинения Павла, при всём их наивно-дилетантском характере (иного невозможно было ожидать от школьника-подростка), всегда были по возможности самостоятельными, содержали элементы анализа, собственные выводы и, главное, были написаны после проработки целого массива литературы. Они стали своего рода строительным материалом того фундамента, на котором позже основывалась научная деятельность Милюкова.
Директор гимназии Малиновский был настолько впечатлен успехами Павла в области классической лингвистики, что незадолго до выпуска вызвал его к себе и предложил поехать на два года за границу за государственный счет для изучения классических языков с обязательством по возвращении преподавать их. Едва Малиновский перешел от общих фраз к конкретике, Милюков решительно отказался. Директор признался, что именно такого ответа и ожидал – как видно, он хорошо знал своего воспитанника. Действительно, при всей любви Павла к древним языкам и литературе, он видел в них не самоцель, а средство изучения культуры, что, в свою очередь, считал инструментом общественной деятельности.
В последнюю пару лет гимназических штудий у Павла явно стал формироваться интерес к социальным проблемам, к возникавшим легальным и подпольным политическим организациям, к перспективам развития страны. В стремлении найти выход общественной активности он, разумеется, не был одинок. Вопросы исторического прогресса, соотношения эволюции и революции, места выдающихся личностей в общественном развитии обсуждались гимназистами и на переменах, и во время случайных встреч в свободное время. Постепенно образовался кружок если не единомышленников, то, во всяком случае, тех, кто задумывался над сложными проблемами бытия и стремился путем обсуждения различных точек зрения найти по возможности единую позицию. Кружок был неформальным, никаких документов вроде устава не существовало, участники не платили взносов. Молодые люди собирались время от времени на квартирах друг у друга. Обычно кто-то читал доклад, а следовавшее затем обсуждение быстро уходило от начальной темы, распространяясь на вопросы бытия – от положения в гимназии до мировых проблем и философских абстракций.
Из членов кружка Милюков особенно рельефно вспоминал графа Николая Долгорукова, которого родители, следуя демократическим поветриям, решили не учить дома, а отдать в «обыкновенную» гимназию. Он был общителен, дружелюбен, отличался живостью характера и был принят гимназистами как свой. Милюков не рассказывал, чем отличился Долгоруков в кружке. Скорее всего, этот человек запомнился ему совместной военно-санитарной экспедицией, предпринятой сразу после окончания гимназии. Но всё же через много лет, в 1892 году, Милюков в письме видному ученому М. М. Ковалевскому называл Долгорукова центральной фигурой ученического кружка{56}.
Среди тем, обсуждавшихся в кружке, Милюкову запомнились две: о чешском борце против религиозной нетерпимости и последователе протестантизма Яне Гусе и о социальных взглядах Огюста Конта, о котором гимназисты услышали впервые. Можно полагать, что этот доклад вызвал интерес к Конту и позитивистской философии, которая позже являлась одной из основных теоретических основ творчества Милюкова, когда он стал зрелым историком.
Сам Павел выступал в кружке два раза. Тему одного доклада он просто не запомнил, зато вторая тема была очень показательной: «Исключительность, подражательность и эклектизм». В своих воспоминаниях Милюков исключил из названия доклада последнее слово, возможно, просто позабыв его, но скорее потому, что оно не понравилось негативной коннотацией. Эти категории рассматривались не как индивидуальные черты характера людей, а как социальные явления. Исключительностью автор именовал «нетерпимый идеологический национализм». Докладчик соглашался, что нации ценны оригинальностью, самобытностью, особым строем жизненных сфер. Но это, в его представлении, никак не оправдывало курса на исключительность, особенно в отношении народов, отставших от наиболее передовых. В этом смысле подражательность он считал неизбежным и прогрессивным явлением{57}.
Он доказывал необходимость подражательства на примере эволюции русской литературы, в которой различал «стадии, соответствовавшие смене заграничных источников нашего подражания»: «Тут уже вырисовывались некоторые черты моего будущего социологического и политического мировоззрения. Но… всё это было еще очень смутно; характерен для меня был только выбор самой темы». Более того, по мнению исследователей, «будущий ниспровергатель политических авторитетов в гимназические годы сам призывал полагаться на авторитеты»{58}.
В любом случае и выбор темы, и ее трактовка свидетельствовали, что Милюков решительно отказывался от узкого русофильства, становился безусловным западником, сторонником следования лучшим социальным, политическим, культурным европейским образцам, разумеется, при сохранении отечественной специфики.
Хотя кружок явно не носил политического характера, само его существование было определенным риском, так как и гимназическое начальство, и охранительные органы крайне подозрительно относились к любым сходкам молодежи, понимая, что именно в них зреют зерна интеллигентской революционности. В это время как раз из среды молодых интеллигентов возникли подпольные русские революционные организации – «Земля и воля» (1876), затем расколовшаяся на «Народную волю» и «Черный передел» (1879). Это были годы бурного разброда в среде революционеров – одни вставали на путь индивидуального террора, полагая, что убийством императора и его приближенных можно поднять на борьбу широкие массы; другие начинали тяготеть к просветительной работе в крестьянской и рабочей среде; наконец, некоторые знакомились с марксизмом и надеялись создать в сравнительно недалеком будущем нелегальную пролетарскую партию, которая поведет за собой не только рабочих, но и крестьян.
От всех этих веяний кружок, в который входил Милюков, был очень далек. Но сам факт его существования мог вызвать серьезные подозрения властей и если не привести к аресту молодых людей, то испортить их карьеру. К счастью, власти о кружке так и не узнали. Продолжал ли кружок существовать после 1877 года, когда Павел окончил гимназию, он не ведал, по крайней мере не упоминал об этом в своих мемуарах.
Павел был знаком с несколькими юношами, в той или иной мере связанными с революционными подпольными организациями, но сколько-нибудь существенного влияния на его настроение эти знакомые не оказали. Он с опаской относился ко всякого рода лозунгам и разговорам об опоре на «простой народ», который вот-вот поднимется и опрокинет прогнившее самодержавие.
В этом смысле особое впечатление на Павла произвело побоище, которое учинили над студентами «простые люди» – рубщики мяса с Охотнорядского рынка – в 1876 году. Кружковцев мучили вопросы: как могло такое произойти? почему «охотнорядцы» с невероятным ожесточением набросились на тех, кто считался их защитниками перед властями? как могли работяги напасть на своих «друзей по идее»? кто виноват в том, что на улице произошло кровавое столкновение?
Члены кружка решили обратиться к славе русской литературы Ф. М. Достоевскому. Наивные молодые люди явно идеализировали великого писателя. Они хорошо знали, что Достоевский был членом революционного кружка Петрашевского (1849), о котором стало широко известно в результате приговора его участников к смерти (их привели на казнь, а затем помиловали){59}. Милюков и его товарищи восторгались «Преступлением и наказанием» и повестями писателя, однако мимо их внимания прошел роман «Бесы», в котором представлены были омерзительные типы тех, кто пытался насильственными средствами изменить сложившийся порядок.
По поручению кружка письмо Достоевскому написал Милюков. Смысл его состоял в вопросе: виноваты ли мы (то есть юное интеллигентное поколение) в том, что произошло в Охотном Ряду, и если это так, в чем состоит наша вина. В письме высказывалось недовольство русской прессой, в которой, по словам Милюкова, звучал «предупредительный тон снисходительного извинения» по отношению к студентам, включая пострадавших от «охотнорядцев».
Достоевский ответил далеко не сразу. Вначале он собрался дать ответ, опубликовав соответствующую статью, но, как позже писал своим адресатам, не смог этого сделать «по не зависящим от меня обстоятельствам», то есть явно по цензурным причинам.
Ответное письмо было написано только 18 апреля 1878 года и получено уже не гимназистами, а студентами{60}. Достоевский выразил убеждение, что студенческие волнения – результат губительного влияния европейских идей, а ответ на все жизненные вопросы следует искать в православных традициях русского народа. Писатель пророчествовал: его корреспонденты, порывая с ложью общества, к которому принадлежали, обращаются не к русскому народу, в котором спасение, а к Западу.
По существу, Достоевский смешал в кучу экстремистские народнические действия, индивидуальный террор, «хождение в народ» более умеренной части революционеров, просветительские тенденции либеральной молодой интеллигенции. «Кончается тем, – вещал Достоевский, – что к данному сроку и молодежь, и общество не узнают народ. Вместо того, чтобы жить его жизнью, молодые люди, ничего в нем не зная, напротив, глубоко презирая его основы, например, веру, идут в народ – не учиться народу, а учить его, свысока учить, с презрением к нему – чисто аристократическая барская затея?»{61}
В таком духе было выдержано всё письмо. У писателя, который в одном месте письма ссылался на притчу Панурга из «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле по поводу толпы, элементом которой могут в некоторых случаях стать и люди образованные и критически настроенные, явно произошло смешение понятий народа (который он вроде бы идеализировал) и толпы погромщиков из Охотного Ряда, которых, получалось, Достоевский защищал.
Видимо, почувствовав, что перегнул палку, писатель завершал письмо на дружеской ноте: «Если хотите мне сделать большое удовольствие, то, ради Бога, не сочтите меня за какого-то учителя и проповедника свысока. Вы меня вызывали сказать правду от сердца и совести; я и сказал правду, как думал и как в силах думать»{62}.
Такая «кода» отнюдь не ввела адресатов в заблуждение. Юноши были просто шокированы. Естественно, у них возникло жгучее недовольство позицией Достоевского. Сохраняя уважение к нему как к художественному творцу, они начинали различать гениальные художественные образы и социально-политическую позицию писателя, учились понимать, что между тем и другим подчас проходит глубокая борозда. «Как быть насчет православия, мы не решали, но Европы мы выдать не могли – и не только не видели никакого противоречия между народом и Европой, но, напротив, от Европы ждали поднятия народа на высший культурный уровень. А Достоевский призывал искать идеала в традициях Охотного Ряда и возвращаться к временам телесных наказаний и крепостного права как к школе смирения русского народа перед Христом»{63}.
Переписка с Достоевским закрепила западническую ориентацию Милюкова, разумеется, еще неразвитую, но тем не менее вполне уже ощутимую.
С 26 мая по 11 июня 1877 года Павел Милюков сдавал экзамены на аттестат зрелости. Когда на заседании учебного совета гимназии обсуждался вопрос о награждении выпускников, Каленов встал на защиту Милюкова, который предварительно по просьбе учителя представил ему список произведений древней литературы, которые не только прочитал, но и мог пересказать и прокомментировать на языке оригинала. Несмотря на то, что некоторые учителя неодобрительно относились и к Каленову с его внепрограммными экспериментами, и к плохо управляемому выскочке Милюкову, директор гимназии Малиновский всё же проявил объективность. В результате Павел оказался единственным из двадцати девяти выпускников 1877 года, награжденным серебряной медалью (золотую не получил никто), и стоял на первом месте в списке из четырех учащихся, от которых руководство гимназии ожидало «дальнейших успехов в науках{64}.
Санитарный отряд на КавказеКак раз в то время, когда Павел Милюков завершал гимназическое образование, вспыхнул «восточный кризис», в основном связанный со стремлением правивших кругов европейских держав ослабить Османскую империю, ликвидировав ее европейские владения на Балканском полуострове путем завершения образования там национальных государств. Кризис сопровождался дипломатической конкуренцией между самими европейскими державами за преобладание на Балканах и обострялся национально-освободительной борьбой славянских народов и общественным движением за оказание им помощи.
Апрельское восстание 1876 года в Болгарии было жестоко подавлено турецкими войсками. Лозунг «На помощь болгарским братьям!» был широко распространен в интеллигентских кругах России, как правонационалистических, так и либеральных. «Освобождение славян без спора признавалось специальной русской задачей. Своего рода нравственной обязанностью по отношению к «братьям», – вспоминал Милюков через много лет{65}.
В 1877 году, после неудачи длительных дипломатических переговоров, Россия объявила войну Турции, и ее армия в апреле перешла границу.
Разумеется, московские гимназисты-выпускники, не зная о тайных перипетиях взаимоотношений держав, восприняли войну как дело справедливое, как поход во имя освобождения болгар и испытывали жгучее желание помочь им. В армию их не брали по возрасту. Поэтому Милюков был обрадован, когда Н. Долгоруков предложил после выпускных экзаменов записаться в санитарный отряд, формировавшийся московским дворянством. Безграничными альтруистами юноши, однако, не были – оба собирались поступать в университет и жертвовать годом студенчества не хотели, поэтому решили состоять в отряде только во время летних каникул.
К их огромному разочарованию, отряд был направлен не на Балканы, а на второстепенный Кавказский фронт и размещен не на передовых позициях, а в тылу, так что вблизи войну молодые люди так и не увидели. Но всё же это был важный жизненный опыт.
Отряд располагался на Сурамском перевале, куда по железной дороге доставлялись раненые. Никаких навыков ухода за ранеными у Милюкова не было, поэтому его общение с ними ограничивалось патриотическими беседами, писанием писем от их имени и т. п. Но и это было важно. По существу, Павел впервые оказался рядом с «простыми людьми» с их жизненными заботами и непривычными нравами.
Одновременно он выполнял обязанности казначея и следил за отпуском продуктов на кухню отряда. Обе задачи были не из легких, так как у юноши не было никаких знаний в области бухгалтерии, никакого представления о рыночных ценах на Кавказе. Всем этим приходилось овладевать на ходу, причем в считаные дни, иначе отряд мог бы оказаться «банкротом» либо страдать от голода. Проявив в общении с поставщиками настойчивость, а порой и жесткость характера (все продукты он скрупулезно взвешивал, не доверяя накладным), Павел справился с этими задачами, и начальство было им довольно.
У него даже оставалось время для чтения. Павел собирался поступать на филологический факультет университета – скорее всего потому, что отдельных исторических факультетов в то время просто не существовало, а на филологических факультетах как раз в это время стали готовить и историков, а сами факультеты вскоре были переименованы в историко-филологические. При всей любви к художественной литературе он уже начинал понимать, что его призвание – именно история (одновременно в отдалении маячила и общественно-политическая деятельность, но сам Павел это еще не очень сознавал). С собой он взял толстый том известного историка Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа». Эту весьма сложно написанную книгу (впервые она была опубликована в 1869 году) Павел смог детально изучить за месяцы, проведенные в санитарном отряде.
Он с глубоким интересом ознакомился с историко-философскими оценками Данилевского, который разработал теорию «исторических групп» (затем определяемых как «культурно-исторические типы»). Его интерес, а подчас и серьезные возражения вызывал анализ признаков этих групп, включавших религию как ведущий момент, а также культуру, политические и социально-экономические факторы. Считая Россию и славянство особым культурно-историческим типом (Милюков быстро уловил глубокие внутренние противоречия в таком подходе, ибо Россия была страной многонациональной, а религиозность ее населения отнюдь не исчерпывалась православием), историк призывал отрешиться от безоговорочной солидарности с интересами Европы.
На Павла глубокое впечатление произвели соображения Данилевского о необходимости создания федерации славянских государств со столицей в колыбели православия Константинополе; но к другим, по его мнению, чуть ли не экстремистским (естественно, только в научном смысле слова) суждениям автора отнесся весьма критически. Он не совсем верно понял логику рассуждений мыслителя: якобы тот, считая религию главным фактором формирования культурно-исторического типа, исключал из славянства народы, не исповедовавшие православие («крайнее сужение понятий славянства до православных славян, с устранением католических»{66}), тогда как на деле историк относил чехов и поляков к славянам, но первых считал сильно онемеченными, а вторых весьма своеобразно характеризовал как «арендного члена славянской семьи».
Заинтересовавшись своеобразным взглядом Данилевского на культурно-исторические типы, молодой человек никак не мог совместить его с всемирно-исторической миссией славянства в узком, искусственном ее понимании. Наступит время, и Милюков, оставаясь западником (в том смысле, что он считал Россию неделимой частью Европы, догоняющей западноевропейскую цивилизацию), проявит особый интерес к проблемам исторических связей славянских народов, их прошлого и настоящего, примет участие в расследованиях османских преступлений против болгарского народа в македонских областях, воспримет требование передачи Константинополя южным славянам, а фактически России. Во всём этом можно увидеть определенное влияние концепций Данилевского, несмотря на критический подход к его сочинениям.
У Милюкова, впрочем, были и другие занятия в свободное от выполнения основных обязанностей время. Он научился верховой езде, стал изучать грузинский язык, что ему пригодилось в будущих научных исследованиях.
Возвращение в Москву для начала учебы в университете сопровождалось небольшим инцидентом, который засвидетельствовал, что у нашего героя, при всём его «примиренческом» складе характера и относительном спокойствии, подчас возникали вспышки неповиновения и даже агрессивности, когда затрагивалось его достоинство.
На Военно-Грузинской дороге, которая преодолевалась в конном экипаже, пришлось сделать долгую остановку из-за осенней непогоды. Была вторая половина сентября – обычное время ненастья в горах Кавказа. Милюков сильно замерз, теплой одежды у него не было. Закутавшись в плед и прикрыв голову кепкой, он буквально ворвался в зал придорожного ресторана, чтобы поскорее согреться. На беду, в зале обедал некий офицер высокого чина со свитой. Громко возмутившись, что какой-то мальчишка позволяет себе находиться в его присутствии в головном уборе, офицер двинулся к Павлу с видом, не предвещавшим ничего хорошего. Вместо того чтобы снять кепку и замять инцидент, Павел схватил за ножку стул и двинулся навстречу противнику. Драка с офицером, да еще в условиях военного времени и поблизости от фронта, могла стоить учебы в университете. На его счастье, в дело вмешался ехавший с ним Николай Долгоруков, который, назвав свой княжеский титул, смог успокоить офицера и вывел приятеля из зала. Несколько бравируя и преувеличивая смысл случившегося, Милюков писал в мемуарах: «Это было своего рода мое гражданское крещение»{67}.






