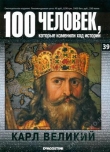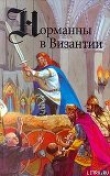Текст книги "История города Рима в Средние века"
Автор книги: Фердинанд Грегоровиус
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 142 (всего у книги 163 страниц)
Глава VI
1. Рим поклоняется трибуну. – Трибун созывает итальянцев на народный парламент. – Установления в Риме, строгая юстиция, финансовое управление и прочие отрасли общественного строя. – Ответы на его окружные послания. – Волшебная сила идеи Рима. – Петрарка и Кола ди Риэнци
Аристократы Троицкой революцией застигнуты были врасплох; Стефан Колонна поспешил из Корнето в город, но не мог уже сделать здесь ничего, кроме излития своего гнева на словах. Трибун послал ему приказание покинуть Рим; маститый герой разорвал бумагу и воскликнул; «Если этот дурак разозлит меня еще сильнее, то я прикажу выбросить его из окон Капитолия». Колокол бил набат; яростный народ нахлынул с оружием, и Стефан бежал из своего дворца в Палестрину в сопровождении одного лишь слуги. Трибун заточил теперь всех магнатов в их имениях, занял все замки и мосты города и строжайшим правосудием навел ужас. Удостоверившись в полном обладании властью, он потребовал знать на поклон в Капитолий; как некогда по приказу Иакова Арлотти, робко явились магнаты, в числе которых был даже сам младший Стефан Колонна с сыновьями, сами Райнальд и Иордан Орсини, Савелли Анибальди и Конти. Они присягнули законам республики и вступили на службу к ней. Явились на поклон к трибуну и коллегии судей, нотариусы, цеха, и, таким образом, последовало признание его правительства всеми сословиями. Во всех прочих переворотах никогда не приходила главам города мысль оповещать письмами вне городской сферы о вступлении своем в правление; Кола же немедленно привел Рим в соотношение с Италией и с миром. Гонцы его повезли письма ко всем общинам, владетелям и тиранам Италии, к самому да же императору Людовику и к королю французскому. В окружных этих посланиях возвещал трибун городам римской провинции, что Рим им освобожден и что обрел себе, наконец, мир и правосудие; он призывал их вознести благодарные мольбы к Богу, взяться за оружие для искоренения всех тиранов и к назначенному времени прислать двух синдиков и одного судью в Рим, где всеобщий парламент будет обсуждать благо всей римской провинции. Письма эти составлены были разумно и с достоинством. Гораздо более возвышенно писал Кола к городам Италии; он призывал их совместно с ним свергнуть иго тиранов и заключить национальное братство, ибо освобождение Рима есть вместе с тем «освобождение всей святой Италии». Он приглашал их прислать в Рим к 1 августа депутатов и судей на национальный парламент. Великий план образовать из Италии конфедерацию с Римом во главе впервые был высказан, и новизна его и смелость привели в удивление весь мир. Так, при самом начале своего правления Кола ди Риэнци выступил перед целым отечеством с высокими национальными идеями. Весьма вероятно, что викарий Раймунд отправил папе депешу немедленно вслед за революцией: сам Кола известил папу о возведении своем во власть, по-видимому не ранее начала июня. Простодушный епископ орвиетский играл возле трибуна лишь немую роль, подобно Лепиду возле Октавиана; все письма исходили от одного Колы, и ни в одном политическом акте ни единым словом не упоминается про его коллегу, папского викария.
Между тем как послы с посеребренными жезлами в руках летали по всей Италии, трибун учреждал свое правительство в Капитолии. Статуты, за исключением упразднения сенаторов, не были изменены; великий и малый совет Тринадцати, судебные коллегии продолжали существовать. Кола требовал даже, из благоразумия и для вида, для самого себя лишь трехмесячного срока состояния в должности, но едва только заслышали римляне его речь об отставке, как разорвали в знак ужаса свои одежды и поклялись скорее погибнуть, чем расстаться с его правлением. Однако ради несения своей должности он учредил синдикат. Тогда же стал он чеканить монету, для чего выписал из Флоренции медальеров. Он сформировал преданную вооруженную силу – первую заботу как тиранов, так и витязей свободы, ему подобных. 39 °Cavalerotti, роскошно снаряженных конных граждан, и пешая милиция из 13 хоругвей, по сто человек в каждой, казались ему достаточными для защиты его правления. Сверх того его особу, как некогда Пизистрата, охраняла стража телохранителей, сформированная из 100 юношей его квартала Регола, и всюду предшествовала с копьями, когда сын тибрского берегового трактирщика в шелковой белой, золотом опушенной одежде, на белом коне, с развевающейся над головой его королевской хоругвью проезжал по Риму.
Вооруженная милиция придавала вес правосудию, и это было лучшей заслугой Колы. Карал он без лицеприятия. Один беззаконный цистерцинский монах был обезглавлен; один экс-сенатор приял позорную кару повешения на том самом Капитолии, на котором некогда в пышности и блеске правил республикой. Это был Мартин Стефанески, синьор портский, племянник двух кардиналов, Анибальдо де Чеккано и знаменитого Иакова Стефанески. Преступление его заключалось в ограблении потерпевшего крушение корабля, намеревавшегося плыть с доходами Прованса в Неаполь. Палачи триб ум исторгли больного экс-сенатора из объятий юной его супруги, и вдова с отчаянием могла вскоре видеть из своего дворца, как супруг ее болтался в воздухе. Казнь эта навела смертельный ужас на знать. Дворцы в Риме были в то время приютами для всевозможных преступников; но трибун приказал силой взять одного разбойника из дворца Колонны и казнить. За малейшую небезопасность в их имениях бароны платились тяжелыми денежными пенями. Многие из них сидели в тюрьме Капитолия; сам изгнанный сенатор Петр Колонна пешком отведен был служителями правосудия в темницу. Неправедные судьи с высокими колпаками, на которых прописаны были их беззакония, выставляемы были у позорного столба. Приходилось очищать целую конюшню авгиеву злоупотреблений, подкупов, клятвопреступности, подлогов, лжи и обманов, а никто лучше бывшего нотариуса городской камеры не был знаком с безнадежным состоянием римской администрации. Благодетельное учреждение мирового суда пресекло неприязненные действия в городе; ибо судьи из народа собирались во дворце, на крыше которого развевалась хоругвь Св. Павла, и примиряли партии или усовещиванием, или варварским jus talionis. Кола мог похвастать примирением 1800 распаленных смертельной враждой граждан. Изгнанные были возвращаемы, бедствующие получали щедрое вспомоществование. Строгая полиция преследовала браконарушителей и игроков. Подобострастное употребление титула don или dominus, даваемого знати, было воспрещено; ибо отныне «господином» именоваться должен был один папа. Запрещено было иметь баронские гербы на домах, оставлены были одни лишь папы и сенат. Загороди, которыми знать окапывала свои дома, были снесены; из этого дерева должен был быть реставрирован сенатский дворец, и каждый экс-сенатор должен был внести на эту новую постройку сто гульденов золотом.
Правильная администрация приумножила доходы городской камеры посредством дымового налога (focaticum), ленного оброка, служилых мест, ежегодного оклада, платимого деньгами и хлебом отдельными городами, как Тиволи, Тосканеллой, Веллетри, Корнето, из пошлин мостовых, дорожных, речных и, наконец, из монополии Остийских солеварен. По старому положению, дымовой налог составлял с каждого камина 26 денариев, или 1 карлин и 4 динара. Кола исчислил цифру этого налога для всей городской территории от Чеперано до реки Пальни во 100 000 гульденов золотом; наконец, поступления с таможен и городских замков. Верность этих цифр представляется, конечно, сомнительной, невзирая на обширность городской территории. Трибун снял дорожные пошлины и отменил повсюду в прочих местах введенный налог с потребления (gabella), приносивший большую сумму, в особенности во Флоренции. Зато дымовой налог был строго взыскиваем. Все вассалы города отбывали его добровольно, за исключением одного лишь префекта Иоанна де Вико. В то же время некоторые места Кола покорил себе великодушием; Тосканелле разрешено было обратить ежегодный оброк в 1000 фунтов деньгами во 100 фунтов воска в пользу церкви Арачели, а Веллетри возвращена была его автономия. Мудрые законы урегулировали рыночные цены и наполнили хлебные магазины; пшеница подвезена была даже из Сицилии, и трибун начал застраивать даже саму запустелую Кампанью.
Безопасные пути оживились торговлей и обращением; земледелец без оружия стал снова пахать свое поле, и пилигрим без опасения притекать снова к святыням Рима. Религиозный дух объял спасенный народ, как британский во времена Кромвеля; погрязшая в преступлениях гражданская доблесть воспряла вновь под этим лучом света, свободы и мира. Слава человека, соделавшего в короткое время столь великое, разнеслась по миру. То была забавная басня, рассказываемая мореходами о страхе, испытанном якобы перед трибуном самим отдаленным султаном Вавилона, но, быть может, то не было преувеличение, когда один из вернувшихся домой гонцов рассказывал: «Посольский этот жезл носил я публично по лесам и дорогам; бесчисленные толпы падали перед ним на колена и целовали его со слезами радости по поводу освобождения отныне дорог от разбойников». В первые месяцы своего правления Кола заслуживал того, что был кумиром Рима и вел с себя новую эру республики. Народ видел в нем Богом избранного человека. Никто еще не осуждал суетной помпы, проявляемой народным трибуном при каждом проезде его по Риму. Во время поездки своей в день Св. Петра и Павла в собор восседал он на высоком боевом коне в зелено-желтой бархатной одежде, со скипетром из ослепительной стали в руках, окруженный 50 копьеносцами; римлянин держал над головой его хоругвь с его гербом; другой предносил ему меч правосудия; рыцарь сыпал в народ деньги, при чем торжественное шествие кавалеротти и чиновников Капитолия, пополанов и знатных предшествовало или замыкало шествие, трубачи трубили в серебряные трубы и музыканты играли на серебряных ручных бубнах. На ступенях Св. Петра каноники капитула приветствовали диктатора Рима даже гимном Veni Creator Spiritus. Тем временем стали поступать ответы на энциклики Колы. Папа, напуганный сперва, однако, скоро успокоился или же притворился в этом. Он жаловался, правда, на то, что уложение изменено было помимо него, но, в общем сочувствовал перевороту и утвердил Николая и Раймунда ректорами Рима. Возвратившийся из Авиньона посол привез даже в подарок Коле выложенный серебром ларец, на крышке которого изображены были гербы Рима, трибуна и папы. Благосклонные письма папы произвели радостное настроение в городе. Ежедневно прибывали теперь на национальный парламент командируемые от городов депутаты. Парадирование их исполнило Рим самомнения и гордости и укрепило Колу в вере в свою миссию и в римское свое всемогущество. Капитолий поистине, казалось, превращался в политический центр Италии. Многие из ломбардских тиранов приняли, правда, энциклики Колы с презрением, но вскоре изъявили готовность иметь представителей на национальном парламенте. Лукино, тиран миланский, ободрял Колу крепко держаться нового уложения, но в действиях относительно баронов соблюдать осторожность; даже Андрей Дандоло и генуэзцы почтительным письмом отдавали себя к услугам Рима; Лукка и Флоренция, Сиена, Ареццо, Тоди, Терни,
Пистоя и Фолиихио, Ассизи, Сполето, Риэти и Амелия величали трибуна пресветлым государем и отцом и высказывали надежду, что реформа в Риме послужит ко благу Италии. Все города Кампаньи и Маритимы, Сабины и римской Тусции воздали торжественными посольствами честь Капитолию, причем враждующие партии являлись с самых отдаленных окраин перед судейское кресло трибуна, ища его суда и своего права. Ничто не дает более ясного свидетельства о могуществе, все еще производимом досточтимым именем и идеей Рима, как признание, встреченное Колой ди Риэнци у всех почти синьоров и городов Италии, которых общинами правили не фанатики, но серьезные государственные люди. Всюду и везде верили в возможность воспрянутия римской республики в прежнем ее блеске. Человечество находилось еще и отчасти находится еще поныне под магическим престижем высокости этой матери цивилизации. Около этого времени повеяло живительным дыханием прошлого. Не было ни одного истинного христианина, который бы ни почитал резиденцию пап в Авиньоне беззаконием по отношению к святому городу. Освобождение его из-под власти тиранов и обезопасение пелеринажей к нему явилось событием всеобщей важности. Столь счастливо совершившаяся революция являлась по началу своему великим событием, могшим иметь последствием возвращение папства и возобновление империи. С ней связаны были все затрагивающие глубочайшие фибры народов моральные и политические идеи, и сама справедливость требует признать, что Кола ди Риэнци с гениальностью воспринял и применил эти идеи своего времени. Данте, несомненно, в нем приветствовал нового спасителя Италии под мистическим образом «Veltro». Представления трибуна о Lex Regia, о ненарушимом величестве римского народа, на котором покоится империя, согласовались с основными положениями «Монархии», в которой великий поэт провозгласил, что римский народ, как благороднейший на земле, чудесами и историческими деяниями предызбран Богом к управлению Вселенной. Кола несомненно знаком был с трактатом Данте, хотя и никогда на него не ссылался. Но неприменимость самой гибеллинской идеи выказалась в Генрихе VII и Людовике Баварце, ибо никакой иноземный император не оказался в силах исцелить растерзанную Италию. Теперь в самом заброшенном Риме поднялся гениальный римлянин, восстановил республику и даровал итальянцам не как гвельф или гибеллин, но в качестве трибуна Рима, благо, тщетно и безуспешно искомое гибеллинами у германского императора, гвельфами – у папы. Отныне выдвинулась третья идея – конфедерации Италии под предводительством священной матери городов, Рима; впервые решительно выговорена была идея единства нации, и Италию охватила надежда спастись и обновиться благодаря самой себе.
Петрарка, занимавший в то время как представитель итальянского национального духа место Данте, служит наилучшим свидетельством чарующего воздействия Колы на его время и охватывавшего его потока античных идей. Когда поднялся этот темнейшего происхождения римлянин (так позднее писал Петрарка), когда он дерзнул предложить слабые свои рамена республике и поддержать колеблющуюся империю, то, как бы по мановению волшебного жезла, воспрянула Италия, и грозность и слава римского имени пронеслись до концов Вселенной. Венчанный гражданин римский, воскреситель классических наук, дух которого бредил лишь Сципионом и Брутом, способен был из зависти умалять гениальность Данте, но разделял с ним максимы его монархии; в самом выродившемся римском народе видел он единственный источник всемирного владычества, а в пепелище римском – законную резиденцию императора и папы. Воззрения эти благодаря национально-итальянскому антагонизму против пребывания пап в Авиньоне разрослись до гомерических размеров. И вот теперь, когда чудный трибун воцарился на Капитолии, то приветствуем был Петраркой, как давно искомый и наконец обретенный человек, как политическое создание собственной его идеи, как проявившийся из собственной его головы вооруженным герой. Происходившее в Риме восхищало его, как собственных его рук чародейство, да и на самом деле духовный брат его Кола был его собственным адептом. Из Авиньона напутствовал он восторженными благопожеланиями трибуна и народ римский. Любовью своей к дому Колонна пожертвовал он свободе и отечеству. Все эти римские магнаты, из рядов которых веками выходили папы, кардиналы, сенаторы и военачальники, представлялись ему лишь чужеземцами, отродьями прежних военнопленных римских, разрушившими владычество города вандалами, захватившими монументы и права республики узурпаторами, короче – наносной кастой разбойников, рыскавшими по Риму, как по завоеванному городу, и истязавшими, как своих рабов, настоящих римских граждан. Мудрость и мужество, так восклицал Петрарка, да будут при вас, ибо недостатка энергии в вас не будет не только для сохранения свободы, но и для восстановления империи. Обязанность каждого человека – желать счастливых успехов Риму. Столь праведное дело, несомненно, заслужит одобрение Божие и мира. Он провозглашал славу Колы, называл его новым Камиллом Брутом и Ромулом, самих римлян – лишь отныне истинными гражданами и увещевал их считать своего освободителя послом Божиим.
Восторженное сочувствие чествуемого во всем свете гения воспалило фантазию Колы и утвердило его во всех его мечтаниях. Он приказал прочесть письмо Петрарки в парламенте, где оно произвело глубокое впечатление. Сам он приглашал его покинуть Авиньон и присутствием своим украсить город, подобно тому, как бриллиант украшает перстень. Вместо Петрарки прибыла обещанная им торжественная ода. Прекраснейшее свое стихотворение посвятил он свободе Рима и новому его герою. Революция римская нашла в нем своего поэта. То была счастливейшая пора Колы, когда он блистательно царил перед лицом света на Капитолии. Далее мы увидим, какие реальные формы сумел он придать смелым своим идеям.
2. Подчинение городского префекта. – Декрет о переходе всех прав величества к городу Риму. – Национальная программа Колы и несоответствие личности его столь высокой задаче. – Празднества 1 и 2 августа. – Возведение Колы в рыцари, – Эдикт от 1 августа. – Кола жалует права римского гражданства всем итальянцам. – Вызов имперских князей. – Теории о неприкосновенном величин Рима. – Празднование итальянского единения 2 августа. – Император Людовик и папа. – Избрание Карла IV. – Унижение его перед папой
Трибун подчинил себе всех непокорных магнатов; некоторые из дома Орсини вступили даже на службу к республике; не покорился один лишь префект города и Гаэтани. Иоанн де Вико, преемник своего отца по префектуре, бывшей в этом германском роде наследственной, сделался с 1338 г. через братоубийство тираном Витербо и владыкою в Тусции. Кола объявил его вне закона, лишил его префектуры, каковой титул, в силу парламентского постановления, присвоил самому себе и стал готовиться к войне. Иоанн де Вико полагался на свое могущество, на тайную поддержку ректора в Патримониуме и на ломбардские наемные войска. Трибун обратился за помощью к Флоренции; посол его Франческо Барончелли встретил там благожелательный прием. Кола жаловался папе на ректоров Патримониума и Кампании, оказывавших поддержку как префекту, так и Гаэтани, но вскоре уже получил возможность извещать о своих победах. Союзная помощь от Флоренции и Сиены прибыла слишком поздно, но Перуджия, Тоди, Нарни и корнетанцы под начальством синьора своего Манфреда де Вико усилили римскую милицию до 1000 рейтаров и до 6000 пехотинцев. Войском этим командовал в качестве генерал-капитана Николай Орсини от замка С.-Анджело. Это войско с конца июня осаждало замок Ветраллу и опустошало край Витербо. Префект пал духом, и трибун был искренне рад согласиться на его требования. По заключении 16 июля договора прибыл Иоанн де Вико в Рим, смиренно повергся перед Колой, присягнул законам республики и получил от нее префектуру как вассал; так эта знаменитая должность стала леном народа, была сперва жалуема императором, а затем папой. Зрелище могущественного тирана Тусции в публичном парламенте у ног его внушило Коле первое чувство королевского властительства; он как император воздал хвалу триумфально вступившему на Капитолий войску. Достигнутые успехи были велики, ибо распространили власть республики на всю римскую Тусцию. Влияние это дало себя чувствовать в эдикте, которым по обдуманному плану открыл трибун ряд смелых декретов, решив возвратить городу Риму прежние права величества.
Перед собранием народа приказал он 26 июля прочесть и утвердить закон, по которому отныне все юрисдикции и должности, все привилегии и власти, когда-либо розданные римским народом, отпадали к нему назад. Перед тем совету из римских юристов и судей, высланных в Рим по приглашению Колы итальянскими городами, предложен был на обсуждение вопрос, властна ли римская республика отобрать снова в свою пользу эти права, и совет этот единогласно отвечал утвердительно.
Трибун придал, таким образом, странному эдикту характер судоговорения итальянской нации через уполномоченных его правоведов. Ничто не могло быть радикальнее подобного постановления: ибо, по последствиям своим, направлено было оно не только против знати, но и против церкви и империи. Все истинные и поддельные привилегии Святого престола, начиная с дарения Константинова и вплоть до Генриха VII, равно как и все титулы и права императорской власти, объявлены были тем самым уничтоженными и недействительными, и один народ римский выставлен непрерывным первоисточником. Если бы эти римляне с высоты Капитолия посмотрели на свой, под мусором погребенный город, на нищенское, обитавшее в нем, население или на самих себя, то должны были – так должно полагать – разразиться при возвещении столь надменно-пышного декрета громким хохотом; но между ними не оказалось ни единого, кто бы с важной и торжественной миной не присутствовал при апробации в парламенте.
Не столько вследствие этого декрета, сколько под впечатлением покорности префекта некоторые римские замки тотчас сдались трибуну; но когда далекие Гаэта и Сора слали умилостивительные дары и добивались покровительства трибуна, то это являлось лишь действием престижа древнего и священного имени, наполняющего мир. Сновидение превратилось в действительную силу. Все местечки римского дукатства признали теперь себя вассалами римского народа; все общины Сабины обязались 1 сентября бить челом республике.
Приближалось 1 августа; прибыли уже из 25 городов блестящие посольства. Когда Кола приглашал итальянцев присылать таковые в Рим, то имел намерение собрать на Капитолии учредительный для всей Италии парламент. Идея была величественная, достойная первоклассного государственного деятеля и отнюдь не непрактична, ибо тогдашние обстоятельства являлись достаточно благоприятными для самостоятельной формации Италии: папа далеко, император далеко, империя почти уничтожена, Неаполь в анархии, римская знать раздавлена, гражданство во власти в большинстве республик; воодушевление свободой, ненависть к тиранам, самосознание итальянской нации и престиж Рима распространены на далекие районы. Со дней трибуна в течение полтысячи лет ни разу не нарождалось более для народов Италии столь благоприятной для национальной идеи исторической констелляции. К сожалению, она была лишь моментальна и несравненно более призрачна, чем реальна. Человек глубокой энергии и гения Кромвеля провел бы великий переворот, но гениальный актер сделать это оказался не в силах. Кола ди Риэнци был человек без истинной страсти, без глубокомыслия серьезной натуры и сверх того ни государственный деятель, ни полководец. Он витал в общих теориях, он умел привести их с логической последовательностью в величественную идейную систему, но немедленно становился непрактичен, растерян и слаб, как только приходил в столкновение с реальным миром. На вершине славы и блеска у него закружилась голова; тщеславие завладело слабым его рассудком, и не имеющая себе равных фантазия, какой позавидовали бы величайшие поэты, облекала перед его взором реальность предметов в волшебный ореол. Все мистические ожидания Италией своего мессии и видения монахов-фанатиков о царстве Святого Духа сосредоточил Кола на самом себе; он почитал себя, ординарного, столь внезапно ко власти призванного человека, вторым политическим Франциском, предназначенным восставить падающую империю, подобно тому как тот святой восставил падавшую церковь. Но сын народа из Ассизи, как и каждый античный народный трибун, отклонил бы сотоварищество тщеславного, погруженного в фантастическую роскошь демагога. Страх перед противоречиями, перед самими даже реальными действиями парализовывал его силу воли. Национальная его программа – воздвигнуть одну единую Италию с Римом во главе – была столь смела, что он испугался ее сам. Занимались тем же в Германии, в Италии в Авиньоне, но не обнимая всего значения этого вопроса. Представлялось ли выгодным для мира, для папы и императора, для итальянских республик и тиранов объединение всемирного города Рима с Италией? При папском дворе глубину этой проблемы едва ли лучше уясняли себе, чем в самой Италии, тем не менее тотчас же стали противоборствовать плану Колы. В городах поднялась муниципальная оппозиция. Незначительное число 25 республик, отправивших послов в Рим, указывает, насколько таковая была сильна. Флорентинцы затруднились посылкой в Рим уполномоченных из подозрения возможности умаления их автономии, и Коле пришлось успокаивать их заверениями, что это не входило в его замыслы.
Вместо исключительно национальной цели созвания итальянского парламента в Риме объявил он уже из страха и тщеславия, что первой целью оного было его собственное возведение в рыцарское достоинство и коронование его, как трибуна.
Первое августа было в древности днем празднования Feriae Augusti, а в Средние века, да и поныне народным праздником, в который показывались вериги Св. Петра. Оттого-то и избрал его трибун для своих собственных торжеств. Послы от городов, иностранные рыцари, супруга Колы возле своей матери с блистательной свитою знатных дам, с двумя юношами позади, несшими позолоченную уздечку, быть может, в виде эмблемы умеренности, великолепные рейтары Перуджио и Корнето, дважды бросавшие шелковые одежды свои в народ, сам трибун в золотом вышитой белой шелковой одежде, с папским викарием рядом с ним, с меченосцем впереди, с знаменосцем и богатой свитой позади, под звуки музыки дефилировали постепенно один за другим на фантастической этой арене в вечер кануна празднества в Латеране. Странное празднество рыцарства Колы при содействии клира римского и депутатов от городов Италии вносит в политическую историю города черту из рыцарских романов об Амадисе и Парсивале. Но проистекает все это из самой сущности Средних веков, когда не только при дворах, но и в республиках, среди самых диковинных церемоний, происходило возведение в рыцари, при обрядах стола, купели, боевого поля, щита и чести. Вечером вступил трибун со своей свитой в крещальную капеллу Латерана и смело погрузился там в античную ванну, где, согласно преданию, император Константин смыл с себя и свое язычество, и свою проказу. Здесь в благовонной воде омылся он от всех греховных пятен, во время чего викарий папы с размышляющим лицом взирал на оскверненную купель христианства. Ванна эта весьма вскоре вменена была Коле в одно из величайших его беззаконий; но этот остроумный рыцарь поставил вопрос, не приличествует ли та же самая ванна, разрешенная прокаженному язычнику Константину, тем наипаче христианину, очистившему от проказы тирании Рим; что святее ли каменная ванна храма, попираемого ногами христианина или же самого вкушаемого им Тела Господня? Рыцарь возлег после омовения на приготовленное в порфировой ротонде древнейшей этой крещальной капеллы ложе, одетый в белые одежды, и предался сну, хотя и был напутан зловещим подломлением своего одра. Наутро облекся он в парчу и занял юбилейную ложу в Латеране; здесь синдик народа и прочие магнаты опоясали его мечом, поясом и надели на него золотые шпоры, причем из церкви неслись торжественные звуки мессы. Отныне Кола стал именоваться кандидатом Святого Духа, рыцарем Николаем, строгим и милостивым освободителем города, ревнителем Италии, доброхотом земного шара, трибуном Августом.
Празднество, касавшееся до личной его персоны, соединил он с подготовленными им политическими актами. После краткого обращения к народу приказал он нотариусу Капитолия Эгидио Ангелерии прочесть с этой ложи декрет. Странный этот эдикт долженствовал, по понятиям его, с того самого места, с которого преподано было Бонифацием VIII юбилейное благословение миру, иметь воздействие римского благословения земному шару – изумительная фантазия гениального безумия, превращавшего тем папскую бенедикцию Urbi ei Orbi в карикатуру. Декрет гласил, что Кола, приняв омовение в ванне достославного императора Константина во славу Бога Отца, Сына и Святого Духа, князя-апостола и Св. Иоанна, в честь церкви и папы, на благо Рима, святой Италии и мира, движимый желанием излить дар Святого Духа на город и на Италию и подражать великодушию прежних императоров, объявляет следующее: народ римский оказывается, согласно объявленному уже судейскому постановлению, в полном еще обладании юрисдикции над земным шаром, как и в древности; все, произведенные в ущерб этого авторитета привилегии уже отменены; в силу дарованной ему диктатуры провозглашает он, чтобы не утаивать дар милости Духа Святого, город Рим столицей мира, основанием христианства; вместе с тем дарует свободу всем городам Италии и права римского гражданства; далее объявляет, что имперская монархия и избрание императора принадлежат городу римскому и итальянскому народу; согласно сему, вызывает всех прелатов, избранных императоров, курфюрстов, королей, герцогов, принцев, графов, маркграфов, народов и города, изъявлявших какие-либо притязания на вышереченное избрание, впредь до наступающего Троицына дня, явиться в святом Латеране перед ним и перед уполномоченным папы и римского народа с доказательством их прав; в противном случае он поступит против них по пути права и наития Святого Духа; наипаче же всех вызывает он Людовика, герцога Баварского, и Карла, короля Богемского, как избранных герцогов австрийского и саксонского, маркграфа Бранденбургского, архиепископов майнцкого, трирского и кельнского. Римляне, привыкшие ко всяким зрелищам из всемирной истории, преподносившимся им императорами, папами и магистратами, притупевшие для различения высокого от смешного, кичащиеся необъятной гордостью своих предков, проникнутые догматом вечного всесветного владычества Рима, не находили ничего смешного ни в этом эдикте, ни в фигуре больного трибуна, махавшего, как император, на три стороны в воздухе и возглашавшего: «Это принадлежит мне!» Напротив, они неистовым ревом выражали ему свое одобрение. Бессмысленная эта прокламация явилась последним следствием притязаний города на императорскую власть, выставленных им некогда первому Гогенштауфену Конраду. Воспоминания были злым фатумом римлян. Мысль о прежней всемирной монархии, поддерживаемая сочинениями и монументами прошедшего, и исполинский призрак античной империи, парившей над Римом, внуками почитаемы были за объекты действительности, и можно сказать, что история города в Средние века зачастую была ничем иным, как одной нескончаемой надгробной речью о величии античного Рима. Ошибки и теории Данте и Петрарки объясняют или умаляют безумные мечтания римского трибуна, ибо они воспевали римлян, как Богом предызбранный народ политической монархии, подобно тому, как евреи были предызбранным народом религиозного монотеизма; и римляне, как и евреи, признавали исторический этот процесс не закончившимся, но вечно и непрерывно продолжающимся. Требовался еще долгий процесс исторической работы для осиления догм прошлого родом людским, и вплоть до самого позднейшего времени время от времени неоднократно снова погружался он в мистическую купальную ванну Константина.