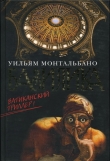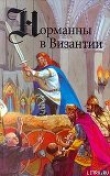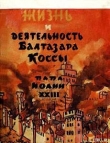Текст книги "История города Рима в Средние века"
Автор книги: Фердинанд Грегоровиус
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 163 страниц)
3. Базилики – титулы города Рима в 499 г.
Такими базиликами были следующие церкви:
1) Titulus Praxidae
Базилика на Clivus Suburanus Эсквилина, посвященная сестре Пуденцианы.
2) Titulus Vestinae.
Ныне церковь Св. Виталия в долине Квиринала. Она была воздвигнута уже Иннокентием I (между 401 и 417 гг.), согласно завещанию римлянки Вестины, и посвящена св. Виталию и его сыновьям, Гервасию и Протасию.
3) Тitulus S.-Caeсiliae.
Прекрасная церковь в Транстеверине, устроенная, по-видимому, в III веке епископом Урбаном в доме, в котором жила св. Цецилия.
4) Titulus Pammachii.
Базилика Св. Иоанна и Св. Павла на Clivus Scauri, позади Колизея, была выстроена над древним зверинцем. На соборе Симмаха эта церковь в первый раз обозначается именем Паммахия, римского сенатора и мужа Павлы, к которому обращается в своем письме Иероним, утешая его в смерти жены. Паммахий роздал свое богатое имущество бедным, сделался монахом и устроил эту церковь. Только во времена Григория Великого она была названа церковью Иоанна и Павла, римских братьев и мучеников времен Юлиана Отступника.
4) Тitulus S.-Clementis.
Древняя церковь между Колизеем и Латераном.
6) Тitulus Juli.
Ныне S.-Maria в Транстеверине; называлась также Titulus Calisti; более вероятно, что она учреждена епископом Юлием I (337-354). Согласно позднейшему преданию, рождение Спасителя было возвещено появлением масляного источника в том месте, где находилась Taberna Meritoria, и это-то послужило основанием к устройству церкви.
7) Titulus Chrysogoni.
Эта базилика также находится в Транстеверине и посвящена римскому мученику времен Диоклетиана. Строитель ее неизвестен; на соборе Симмаха она упоминается впервые.
8) Titulus Pudentis.
Basilica Pudentiana на Эсквилине – самая древняя церковь-титул, известная также под именем S.-Pastor. Ее первоначальное название – Titulus Pudentis или Ecclesia Pudentiana – происходило от имени сенатора Пудента, устроившего эту церковь в своем доме.
9) Тitulus S.-Sabinae.
Самая красивая и самая большая церковь на Авентине; была построена в первой половине V века при Целестине I или Сиксте III и посвящена римлянке Сабине, погибшей мученической смертью при Адриане. Создателем церкви был пресвитер Петр из Иллирии, как о том свидетельствует мозаичная надпись над главными дверьми. Великолепные колонны этой церкви, без сомнения, были взяты в одном из авентинских храмов и, может быть, принадлежали раньше именно храму Дианы.
10) Titulus Equitii.
Эта замечательная церковь S.-Martini in Montibus находится на Каринахе, близ терм Траяна, и была, по-видимому, устроена в доме пресвитера Эквития папой Сильвестром. Поэтому она называлась также Titulus Silvestri и к этому названию прибавлялось еще adOrphea, – может быть, по имени стоявшей там же древней статуи. Симмах перестроил эту церковь заново и посвятил папе Сильвестру и св. Мартину Турскому, но это было у же в 500 г.; на соборе же 499 г. церковь значится как Titulus Equitii. Остатки древней церкви еще видны под существующей ныне церковью.
11) Titulus Damasi.
Базилика Св. Лаврентия у театра Помпея.
12) Titulus Matthaei
Церковь находившаяся между S.-Maria Maggiore и Латераном и называвшаяся по имени древнего дворца in Merulana. Она погибла.
13) Titulus Aemilianae.
Так называлась эта церковь при Льве III. В настоящее время неизвестно, где она находилась.
14) Titulus Eusebii.
Церковь S.-Eusebio стоит подле так называемых трофеев Мария на Эсквилине. посвящена римскому священнику, погибшему мученической смертью при Констанции за исповедание афанасьевского Символа веры. 15) Titulus Tigridae или Тigridis.
Ныне церковь Св. Сикста на Via Appia, внутри города, где мог быть храм Марса Происхождение названия неизвестно. Церковь была посвящена епископу Сиксту II, обезглавленному на Via Appia при Деции или Валериане; архидиаконом этого епископа был св. Лаврентий.
16) Titulus Crescentianaе.
Эта базилика уже не может быть разыскана, так же как и происхождение ее титула не может быть установлено. В книге пап, в описании жизни Анастасия I (399-401), названа, однако, базилика Crescentiana во втором округе на Via Маmurtini; соответствует ли этой церкви современная Salita di Marforio, остается нерешенным.
17) Titulus Nicomedis.
О церкви S.-Nicomedis известно, что она находилась на Via Nomentana; но из церквей, которые мы перечисляем здесь, ни одна не была за стенами Рима; поэтому титул этот должен был относиться к какой-нибудь другой церкви. Он был давно уже утрачен и Григорием Великим перенесен на базилику S.-Cruris in Hierusalem.
18) Titulus Cyriaci.
Это теперь несуществующая церковь S.-Cyriaci in Thermis Diocletiani, титул которой Сикст IV перенес на церковь Святых Квирика и Иулитты у нынешнего Аrсо de' Pantani. Древняя базилика убитого при Диоклетиане римлянина должна была находиться в районе терм. Последними в 466 г., при Сидоний Аполлинарии, еще пользовались, и они были настолько обширны, что церковь, конечно, могла быть устроена в каком-нибудь небольшом отделе их. Там же был выстроен женский монастырь.
19) Titulus S.-Susannaе.
Название этой церкви имеет приставку ad duas domos, под чем разумеют дома отца святой, Габина, и ее дяди епископа Кайя. Эта церковь находилась на Квиринале между термами Диоклетиана и садами Саллюстия, где она стоит и поныне, но измененном виде. О ней упоминает уже Амвросий в 370 г. Сусанна была национальной римской святой и, по преданию, из рода Диоклетиана. Движимый животными инстинктами, Максимиан добивался того, чтобы юная и прекрасная принцесса вышла за него замуж, но она своим чарующим обликом обращала в христианство всех являвшихся к ней посланными. От всех посягательств на целомудрие Сусанны, которые совершались по приказанию императора, ее оберегал ангел, и Сусанна одним движением своих уст сокрушила золотую статую Зевса, перед которой она должна была совершать жертву. Диоклетиан велел обезглавить ее; но его же собственная жена Серена, бывшая втайне христианкой, похоронила умершую в серебряном гробе в катакомбах Каликста.
20) Titulus Romani. Эта церковь исчезла бесследно. Базилика имени того же римского мученика упоминается за Саларскими воротами, в Ager Veranus, близ S.-Lorenzo.
21) Titulus Vitantii или Вуzantis. Этот титул также совершенно неизвестен.
22) Titulus Anastasiae.
Древняя базилика Св. Анастасии называется Sub Palatio, так как находится у подошвы Палатина. Неизвестно, кем основана эта церковь. Анастасия также национальная святая. По преданию, она была дочерью Хризогона, за которым последовала в Аквилею. При Диоклетиане Анастасия сначала была сослана на остров Пальмарию, а затем сожжена в Риме.
23) Titulus Sanctorum Apostolorum.
Так как нынешняя церковь апостолов у терм Константина, в округе Via Lata построена папой Пелагием I в 560 г., то остается неизвестным, к какому именно месту мог относиться этот титул во времена Симмаха. Совершенно неоснователь, но утверждение, будто бы уже Константин построил в Риме церковь во имя апостолов.
24) Titulus Fasciole.
Древняя базилика на Via Appia против S.-Sisto. В настоящее время базилика посвящена святым евнухам Иерею и Ахиллею, по-видимому, ученикам св. Петра. Этими именами церковь напоминает исчезнувшую древнюю мифологию. Титул Fasciola в настоящее время не может быть объяснен в точности.
25) Titulus S.-Prisсае.
Эта древняя церковь на Авентине ошибочно принималась за дом Аквилы и его жены Присциллы, где, по старинному преданию, будто бы жил Петр и крестил из источника Фавна. Оба святые, имена которых св. Павел много раз называет в своих посланиях, были самыми древними, известными нам членами римской общины; они были изгнаны из Рима при Клавдии эдиктом, преследовавшим иудеев, и умерли, по-видимому, в Азии. Когда именно на Авентине была устроена церковь – неизвестно, но, по всей вероятности, она принадлежит к самым древним церквям Рима и одного времени с Pudentiana.
26) Тitulus S.-Mаrcelli.
По преданию, базилика была учреждена епископом Марцеллом в доме римлянки Луцины на Via Lata. Сам он погиб, по-видимому, там же мученической смертью от диких зверей. Этому именно епископу приписывается учреждение 25 титулов.
27) Titulus Lucinaе.
Известная церковь Св. Лаврентия in Lucina, у солнечных часов Августа.
28) Тitulus Mаrсi.
Церковь Евангелиста Марка, на Via Lata, у подошвы Капитолия, близ цирка Фламиния, построена, по-видимому, папой Марком уже в 336 г. Место это называлось ad Pallacinas по имени древних бань.
4. Частное значение римских святых в базиликах-титулах. – Их местное распределение. – Титулы при Григории Великом в 594 г. – Понятие о титулах. – Кардиналы. – Семь церквей Рима
Для истории римской церкви важно знать, каким святым были посвящены эти древние приходские церкви Рима. Оказывается, что в этом отношении местное происхождение святого было по-прежнему руководящим началом. За исключением апостолов, все святые мужи и жены, которым были посвящены церкви, были римлянами по рождению или принадлежали по службе к римской церкви, и за ними была заслуга мученической смерти за эту церковь. До этого времени в Риме не встречается еще ни одного греческого святого. Всем апостолам была посвящена одна приходская церковь; из евангелистов только Матфею и Марку было оказано такое отличие. Из епископов Рима алтарь был вскоре же воздвигнут Клименту и еще, вероятно, Сильвестру и Марцеллу, базилики же Юлия, Каликста и Кайя назывались по именам их строителей. Из священников и дьяконов были многие отличены, более всех – Лаврентий, затем Хризогон, Евсевий и Никомед. Из сенаторов установили свои титулы Пудент и Паммахий, первый – монах, по происхождению принадлежавший к высшему классу. Значительнее было число мучеников и еще больше число святых жен, которым были посвящены церкви. Среди этих жен особенным почетом в то время пользовались Агнесса, Праксида, Пуденциана, Сабина, Цецилия, Сусанна, Анастасия и Приска; две церкви были названы по именам благочестивых матрон Люцины и Бестины, не причисленных к лику святых. Большое число святых женщин объясняется деятельным участием, которое принимали в распространении церкви римские матроны, и именно они, как следует заключить из беглого замечания Аммиана, делали больше, чем кто-либо, приношений в церковь.
Что касается местного распределения, то большая часть приходских церквей, именно четыре церкви: Праксиды, Пуденцианы, Матфея и Евсевия, находились на обширном и населенном низшими классами народа Эсквилине; на Виминале, в том месте, где он переходит в Квиринал, находились три приходских церкви: Кириака, Сусанны и Виталия; на Каринах – церковь Эквития (нам уже известна там также церковь S.-Pietro ad Vincula); на Целии – Климента и Паммахия; на Via Lata – Марцелла и Марка; у подошвы Палатина – Анастасии; на Марсовом поле – обе церкви Лаврентия; на Via Appia – титулы Tigridae и Fasciolae; на Авентине – две приходские церкви: Сабины и Приски; в Транстеверине – три приходских церкви: Св. Марии под титулом Juli, Хризогона и Цецилии.
Один из более поздних историков церкви восстановил те же 28 титулов по списку собора Симмаха и из книги пап; но этим историком выпущены титулы Romani и Byzantis и заменены титулами Cajus и Eudoxia Augusta или S.-Pietro ad Vincula, хотя эти церкви не упоминаются, как титулы, ни в актах Симмаха, ни в актах Григория Великого. В актах римского собора, созванного Григорием Великим в 594 г., имеются подписи пресвитеров следующих церквей-титулов:
1. Сильвестра. – 2. Виталия. – 3. Иоанна и Павла. – 4. Лаврентия. – 5. Сусанны. – 6. Марцелла. – 7. Юлия и Каллиста. – 8. Марка. – 9. Сикста. – 10. Бальбины. – 11. Нерея и Ахиллея. – 12. Дамаза. – 13. Приски. – 14. Цецилии. – 15. Хризогона. – 16. Пракседы. – 17. Apostolorum. – 18. Сабины. 19 Евсевия. – 20. Пудента. – 21. Марцеллина и Петра. – 22. Кириака. – 23. Quatuor Coronatorum.
Из приведенного перечисления видно, что при Григории Великом не упоминаются пять из числа церквей-титулов Симмаха: Aemiliana, Crescentiana, Никомеда, Матвея и Кая. Но ко времени Григория мы уже несомненно встречаем вновь установленные титулы, а именно: базилика на Авентине и базилики на Целии святых Марцеллина и Петра и Quatuor Coronatorum.
Титулами были те церкви, которые были учреждены в честь святых или мучеников, назывались по имени этих святых и мучеников, а, кроме того, также и по имени основателей церквей и служили местом покаяния и крещения принимавших христианство язычников и поклонения могилам мучеников. В 304 г. епископ Марцелл впервые установил точное число этих церквей и определил, что их должно быть 25. Таким образом, они соответствовали диоцезам или приходам и были не настоящими приходскими церквями в Риме. Будучи совершенно отличными от позднейших 18 диаконий или домов призрения вдов, сирот и бедных и также от существовавших во множестве молитвенных домов (oratoria, oracula), одни только эти церкви имели право совершать таинства. Вначале каждая такая церковь имела одного пресвитера; позднее число пресвитеров возросло, и в каждой церкви было два, три и больше священников; тогда первый, старейший, священник получил название Cardinalis или пресвитер-кардинал.
По мнению историков церкви, число 28 кардиналов, установленное при Юлии I в 336 г., долгое время не было превышаемо. Число это должно было соответствовать четырем патриархальным церквям: Св. Петра, Св. Павла, Св. Лоренцо за стенами и Св. Марии (Maggiore), а в каждой из этих главных церквей было по 7 кардиналов-епископов, из которых каждый должен был служить обедню один день в неделю. Позднее к епископской церкви Рима, церкви Св. Иоанна в Латеране, были причислены в качестве кардиналов-епископов семь епископов из местностей, близких к городу (suburbicarii), а именно из следующих: Остия, Порто, Сильва Кандида и Санкта Руфина, Сабина, Пренеста, Тускулум (Фраскати) и Альбанум. Уже при Гонории II, с 1125 г., титулы не были достаточно внимательно выделяемы, а затем была возведена в титулы еще 21 церковь. Тем не менее нельзя отрицать и того мнения, что в древности наряду со старшими титулами существовали младшие для могил мучеников, и этим объясняется путаница в сведениях о числе кардинальских титулов.
Особо от этих приходских церквей стояли пять базилик, которым как начальным оказывалось глубочайшее почитание; то были церкви Св. Иоанна в Латеране, Св. Петра, Св. Павла, Св. Лаврентия за воротами и Св. Марии (Maggiore). У каждой из них не было своего особого кардинала, они не имели своей определенной паствы, их настоятелем был папа, как римский епископ, а общиной – все верующие вместе. В группу этих церквей вошла уже в IV веке, как пользовавшаяся также общим почитанием, базилика Св. Себастьяна на Via Appia, стоявшая над самыми знаменитыми катакомбами Рима, и позднее еще базилика Св. Креста в Иерусалиме. Это были те «семь церквей Рима», к которым в течение всех Средних веков шли на поклонение западные пилигримы.
Глава II
1. Отношение Теодориха к римлянам. – Прибытие его в Рим в 500 г. – Его речь к народу. – Аббат Фульгентий. – Рескрипты, составленные Кассиодором. – Состояние памятников. – Заботы Теодориха о сохранении их. – Клоаки. – Водопроводы. – Театр Помпея. – Дворец Пинчиев. – Дворец цезарей. – Форум Траяна. – Капитолий
Теодориху, такому же чужестранцу и варвару, как и Одоакр, удалось, однако, пробудить к себе в римлянах если не любовь, то уважение. Справедливость и мужество Теодориха и еще более его внимание к римским формам государственного быта расположили в его пользу народ; к тому же господство германцев в Италии стало к этому времени уже обычным делом.
Король готов не коснулся ни одного из существовавших установлений римской республики и скорее льстил народу открытым признанием этих установлений. И ничто в действительности не подверглось изменению ни в политической, ни в гражданской жизни Рима; все формы как общественной, так и частной жизни оставались при Теодорихе в такой же мере римскими, в какой они были римскими при Феодосии и Гонории. Даже самому себе Теодорих дал патрицианское имя Флавиев. С сенатом он обходился с особенным вниманием, хотя светлейшие отцы не принимали уже никакого участия в управлении государством. Сенат представлял собой только средоточие всех высших государственных назначений: каждый, получавший такое назначение, вместе с этим получал и место в сенате. Петронии, Пробы, Фаусты и Павлины из рода Анициев все еще существовали и занимали высшие государственные должности. На сенаторов еще возлагались посольства ко двору в Константинополь; в самом городе на них отчасти еще лежала судебная деятельность по уголовным делам; в ведении сенаторов были и все дела, относившиеся к общественному благоустройству; наконец, сенаторы имели влиятельный голос в выборе папы и в делах, касающихся церкви. Среди собранных Кассиодором эдиктов есть 17 посланий Теодориха ad patres conscripti, написанных в официальном стиле императоров, и в этих посланиях король выражает свое уважение к достоинству сената и говорит о своем намерении охранить и возвысить значение сената. Совет отцов Рима является, таким образом, как бы самой почтенной руиной в городе, которую благочестивый король варваров старается охранять с такой же заботливостью, с какой он относится к театру Помпея или к Circus Maximus. Назначая кого-либо в виду его заслуг патрицием, консулом или на какую-либо другую доходную должность, король в вежливой форме обращался к сенату и просил его принять в свою среду как товарища, избранного им, королем, кандидата. Названия должностных лиц Теодориха: magister officiorum (директор канцелярии), граф дворцовых войск, префект города, квестор, граф патримония (доменов), magister scrinii (директор государственной канцелярии), comes sacrarum largitionum (министр казначейства и торговли), равно как и приводимые Кассиодором формуляры назначений на должности, – все это показывает нам, что Теодорих сохранил все должности, бывшие при Константине и его преемниках, и старался вернуть этим должностям их значение. Ничего не переменил Теодорих и в римском законодательстве. В интересах обеспечения своего положения в Италии Теодорих как чужеземец должен был облечь военное могущество готов, вторгшихся в Италию, покровом титулов республики и сохранить римлянам их римские законы. Но обособленное существование германской нации между латинянами и среди римских установлений привело ее самое к неизбежной гибели. Нерешительность в деле воссоздания государства и безжизненность политических форм, которые только искусственно поддерживались и сохранялись, как развалины, сделали невозможной гражданскую реорганизацию Италии и лишь послужили на пользу образовавшейся церкви, которая с распадом государства усиливала свое влияние.
Теодорих вступил в Рим в 500 г. Чужестранный король, теперь повелевавший Италией, явился перед лицом римского народа в его столице, как для того, чтобы подчинить своей власти, так и для того, чтобы потушить все еще пылавший огонь партийной борьбы из-за выбора папы. Теодорих вступил в Рим, как император, и римские льстецы приветствовали его как нового Траяна. Еще за городом, у Апинского моста или у подошвы горы Мария, его встретили сенат, народ и духовенство во главе. Руководимый разумной предусмотрительностью, король-арианин проследовал прежде всего в базилику Св. Петра, вознес там «с великим благословением и как католик» свою молитву на могиле апостола, и уже затем со всем пышным торжеством направился в Рим через Адрианов мост. Те германские преемники Теодориха, которые впоследствии носили титул императора, точно так же, вступая в Рим, в течение всех Средних веков шли сначала к св. Петру, и таким образом этот ритуал императорского въезда в Рим ко времени Карла Великого имел уже давность 300 лет.
Король готов поместился в давно уже опустевшем императорском дворце на Палатине и привел римлян в восторг, дав им случай насладиться танк е давно невиданным зрелищем вступления их властителя в курию, где благородный Боэций сказал Теодориху хвалебное слово.
В сенате, в том здании, которое Домициан построил у арки Севера, вблизи Janus Geminus, Теодорих обратился к народу со своим приветствием. Это место называется также ad Palmum или Palma aurea, и должно было быть помостом у «сената». Теодорих был закаленным в боях героем, но без всякого литературного образования, и в писании ничего не смыслил. Речь, сказанная на северном латинском языке, которому Теодорих обучился больше во время своих воинственных странствований и в лагере, чем у риторов, эта речь была краткой. Возможно, что она была сказана через секретаря. Теодорих объявил римлянам, что он будет охранять все прежние установления императоров и в удостоверение этого велит выгравировать свое обещание на медной доске.
Среди уже глубоко павших римлян, которые, разместившись у подножия опустошенного и разграбленного Капитолия, между изуродованными статуями своих предков и у ростр, внимали речи готского героя и встречали ее кликами радости. В этой толпе, в которой рядом с тогами видны были рясы множества монахов и священников, находился африканский аббат Фульгентий, несчастный беглец, бежавший от преследований вандалов. Он прибыл в Рим из Сицилии. Его древний биограф рассказывает, что сенат и народ, видя перед собой короля, испытывали большой восторг. Даже сам благочестивый, чуждый всему мирскому Фульгентий был охвачен этим чувством. Видя (так пишет биограф) римскую курию, окруженную ореолом присущего ей величия, слыша клики одобрения свободного народа, Фульгентий был увлечен блеском мирской суеты. Но, устрашенный такими чувствами, бедный беглец обратил свои взоры к небу и привел в недоумение толпу окружавших его римлян своим неожиданным восклицанием: «Как же должен быть хорош небесный Иерусалим, если уже этот земной Рим так сверкает своим великолепием!» Это наивное выражение восторга чужестранного аббата еще раз показывает, какое поразительное впечатление производил Рим даже в это время на умы людей.
Но неоценимое собрание рескриптов Теодориха, написанных Кассиодором, дает нам больше возможности составить себе понятие о тогдашнем состоянии Рима; вместе с тем это собрание в такой же мере свидетельствует о направленных к охранению города заботах короля готов, который был более достоин владеть Римом, чем многие императоры до него. В этих эдиктах, написанных с педантическим многословием, напыщенным канцелярским слогом, мы видим также и явное доказательство тому, что время варварства уже наступило. В этом убеждают нас и то почтительное отношение к памятникам, о котором говорится в эдиктах, и стремление просвещенным изложением сведений о возникновении, цели и условиях постройки того или другого здания замаскировать варварское происхождение самого властителя, и наконец частое употребление слова «antiquitas». Восторженная любовь Кассиодора свидетельствует о душевной боли римлянина, который сознавал, что величие его родного города уже не может быть спасено, и прощался с ним. Этот римлянин видел, что время варваров приближается и ничто больше не может его отвратить. Своим талантом он задержал на немногие годы наступление этого времени и руководил Теодорихом. Оба эти мужа, римлянин и германец, последний сенатор и первый готский король Италии, представитель древней культуры и жадно желавший просвещения варвар с великой душой, представляют в своем сочетании в высокой степени привлекательное зрелище, которое является как бы пророчеством, возвестившим наступившее несколько столетии спустя единение Италии и Германии и возникновение всей вообще германо-римской культуры.
После того как мы беспристрастно проследили историю разграбления Рима германцами, мы уже не должны больше удивляться тому, что еще в 500 г. были целы все те знаменитые сооружения древнего города, созерцанием которых мог наслаждаться Гонорий в 403 г.; только огромное количество мраморных и медных статуй, которыми еще в то время были украшены общественные места, приводит нас в изумление. Кассиодор прямо говорит об очень многочисленном количестве статуй и чрезмерном множестве коней, т. е. конных статуй. Ни отвращение христиан к изображениям языческих богов, ни хищения Константина, ни разграбление Рима вестготами, вандалами и наемниками Рицимера не могли опустошить неистощимые сокровища римского искусства. И хотя число статуй уже не было настолько велико, чтоб равняться числу жителей, тем не менее сохранившихся статуй было так много, что они едва ли могли быть сосчитаны. Особый начальник, имевший особый титул Comitiva Romana или римского графа и подчиненный префекту города, должен был наблюдать за целостью статуй. Теодорих и его министр должны были, к сожалению, признать, что в это время общего упадка охраной красоты Рима служит не чувство любви к прекрасному, а уличная стража. Эта стража должна была ночью ходить по улицам города и ловить похитителей, которых привлекала уже не художественная ценность статуй, а металл, из которого они были сделаны. Тот, кто был озабочен целостью статуй, успокаивал себя еще тем, что медные статуи выдадут воров своим звоном, когда лом вора коснется их. «Статуи не совсем немы; звоном, подобным колоколу, они предупредят сторожей об ударах, наносимых ворами».
Теодорих взял под свою особую охрану беззащитный народ из меди и мрамора и распространил эту охрану на все провинции. Последнее доказывается эдиктом Теодориха, изданным им по случаю кражи одной бронзовой статуи в Комо; в этом эдикте Теодорих назначает награду в сто золотых монет тому, кто найдет статую и укажет вора. Но варварство римлян было уже настолько велико, что эдикты короля готов не могли больше обуздать население. Теодорих не переставал сокрушаться о том оскорблении, которое наносили римляне памяти своих предков, обезображивая прекрасные творения. Обнищавшее и деморализованное население города, когда не имело возможности утащить целую статую, не задумывалось отбивать у нее отдельные части и вытаскивало из мраморных и травертинных плит в театрах и термах металлические скрепы. Позднейшие потомки этих грабителей в конце Средних веков с изумлением смотрели на явившиеся таким образом провалы в стенах развалин ры в своем наглом невежестве приписывали эти разрушения тем самым готам, которые с такой любовью охраняли красоты их города. В рескриптах короля готов есть сотни мест, которыми доказывается его глубокое благоговение к Риму, этому городу, «всем родному, матери красноречия, обширному храму всех добродетелей, включающему в себе все чудеса мира, так что по справедливости можно сказать, что весь Рим – чудо». Охранять величие древних римлян и пополнить его достойными сооружениями Теодорих счел своим долгом, но он никогда не задавался мыслью сделать Рим своей резиденцией. Он назначил особого городского архитектора, подчиненного префекту города, и возложил на этого архитектора заботу о сохранении памятников; что же касается новых сооружений, то Теодорих вменил архитектору в обязанность тщательно изучать стиль древних и не делать варварских отступлений от него. По примеру прежних императоров Теодорих ежегодно отчислял часть доходов на реставрацию зданий; на возобновление городских стен он приказал каждый год отпускать из государственного кирпичного завода по 25 000 кирпичей и расходовать доходы с пошлин в Лукринских гаванях. С большой строгостью Теодорих следил за тем, чтобы деньги расходовались согласно своему назначению. Нужную для построек известку должен был доставлять приставленный к тому особый чиновник, а разрушение памятников и статуй с целью получения из них извести было запрещено под страхом наказания; таким образом, можно было пользоваться только такими глыбами мрамора, которые валялись в разных местах, как ненужные остатки.
Столько же заботливости было уделено клоакам Рима, этим изумительным отводным каналам города, которые «были заключены как бы в горах со сводами и вы. ходили в громадные пруды». «По этим одним каналам, – восклицает министр Теодориха, – можно было сказать: «О единый Рим, до чего достигало твое величие; ибо какой город мог дерзать достигнуть твоих вершин, если не было ни одного равного тебе по твоим подземным глубинам?»
Не меньше внимания было обращено на исполинские акведуки. С течением времени и вследствие недостатка надзора эти заключенные в стены потоки светлой воды заросли кустарниками; но древние водопроводы все-таки еще вели воду, оживлявшую своим шумным движением пустынную Кампанью, и снабжали водой термы и фонтаны города. Кассиодор описывает водопроводы следующими возвышенными словами:
«В водопроводах Рима, – так говорит он, – столь же изумительно их устройство, как и велико благодетельное значение воды. Потоки воды проведены по горам, как бы созданным для этого, и каменные каналы можно было бы принять за естественные русла, так как эти каналы могли в течение многих веков выдерживать огромную тяжесть протекавшей воды. Горы с вырытыми в них пещерами обыкновенно обрушиваются, речные каналы разрушаются; но это сооружение древних продолжает существовать, если на помощь к нему приходит заботливое внимание, Посмотрим, сколько прелести дает городу Риму изобилие в нем воды; да и к чему сводилась бы красота терм, если б не было в них благодетельной воды? Aqua Virgo несет с собой чистоту и блаженство, и она, как незапятнанная, заслуживает этого имени. В других акведуках вода при сильном дожде загрязняется землей; Aqua Virgo со своей шумно бегущей волной отражает всегда веселое небо. Кто может объяснить, каким образом была проведена Клавдия через огромный акведук к челу Авентина, что, падая с высоты, она орошает вершину так же, как орошала бы глубокую долину». И Кассиодор приходит к заключению, что сам египетский Нил превзойден римской Клавдией. При Теодорихе водопроводы так же, как и прежде, все еще находились под присмотром особого чиновника – Comes lormarum urbis или графа акведуков города, и в распоряжении этого чиновника была целая толпа надсмотрщиков и сторожей.
К тому времени многие здания уже ослабели в своих связях и в силу своей огромной тяжести начали расползаться; это случилось с театром Помпея, тем великолепным зданием, которое в виду его величины давно называлось просто театром или римским театром. При Гонории этот театр был восстановлен и внутри, и снаружи. Теодорих нашел его снова пострадавшим и поручил восстановить его одному из самых знаменитых сенаторов, патрицию Симмаху, немалые заслуги которого, по мнению короля, заключались в том, что он возвел несколько новых блестящих зданий на окраинах города. По поводу именно этого театра Кассиодор восклицает; «Чего не сокрушишь ты, о всеразрушающее время!» «Казалось, – так говорит он со скорбью, – скорее горы распадутся, чем этот колосс, весь созданный из камня и казавшийся естественной скалой». Далее Кассиодор восторгается сводчатыми галереями, которые, будучи соединены невидимыми ходами, кажутся пещерами в горе. Говоря от имени Теодориха, Кассиодор, как какой-нибудь современный археолог излагаем происхождение театра вообще и разного рода драматических представлений и затем, сказав в своем воодушевлении археологическими исследованиями, что Помпей заслужил себе имя великого скорее постройкой этого театра, чем своими политическими деяниями, поручает благородному Симмаху произвести все необходимые поправки для того, чтобы пострадавшее здание этого театра было восстановлено, все же нужные к тому средства черпать в королевском cubiculum.