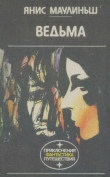Текст книги "Лоцман кембрийского моря"
Автор книги: Фёдор Пудалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
– И я так думаю, – сказал начальник.
– Промыслю его самого – в руки отдам, не сам убью.
– Не сам! Ни в коем случае! – Начальник забеспокоился. – Сам под суд пойдешь!
1933 год
РУССКИЙ ЖИЛЕЦ СОВЕРШАЕТ СВОЙ ПОДВИГ
Глава 1
В ОБЖИГАЮЩЕМ ТУМАНЕ
Николай Иванович сговорился с торговыми людьми ехать до Оймякона. Вышли из Якутска большим обозом, во сто оленей, 16 января.
Все утро ехали в туман через Лену. На другом берегу остановились возле юрт, не распрягая. Хозяин ближайшего балагана уже выкопал из снега бутылки с жидкой водкой – еще раньше, чем обоз остановился: пока соседние балаганы не перехватили к себе выгодных гостей.
Жидкая водка дивила Николая Ивановича с прошлой зимы; а еще больше дивились люди его неведению. Уговаривал людей не студить свою жизнь и не пить шальную воду, воспротивившуюся богу (и тоже говоря – стихее). Всякая капля каменела на лету, а эта водица упрямилась и холоднее льда оставалась жидкой. Но все-таки никто не окоченел от нее, и кто был иззябши – оживел и повеселел. Это еще страшнее показалось Николаю Ивановичу – и люди поверили, не видя хитрости в нем и жадности к водке. Люди крестили бутылку, просили верить и крест принимали на том, что водица православная, не одержимая бесом.
Она ему горло ожгла лютым морозом. Желудок заледенел, а по жилочкам растекся чистый огонь. Подумал, что пришла его смерть. Но не умер.
Подумал еще – и решил не говорить отцу о шалой воде, а то, пожалуй, и побьет за неправду. Другие же русские жильцы скажут: Николай выпил водицу небогозданную, бесовскую.
То было в прошлом году. Нынче в юрте смотрел, как ямщики пили водку, и ему захотелось испытать того же опять. Но он стерпел, потому что за водку платили большие деньги. Он также смотрел, как другие пили чай, и смотрел, как платили деньги, – жалеючи платили. И смотрел на радиоприемник.
В юрте возле теленочка стоял красный ларец и ревел непостижимо, даже телячьим ушам нестерпимо – теленок дрожал, бедный. Перед этим ларцом младший братец почитай что без горла. Батя и тот надсадился бы. Да и отцу не превозмочь такую голосину: горы от нее треснут. В горы нельзя этот ларец возить.
А швейная машина, стоявшая прошлый година месте громогласного ларца возле теленка – теленочка не тревожила, – ныне задвинута в углу балагана.
Обоз медленно двинулся от Лены к Алдану в легком тумане окрест и в густом замороженном облаке собственного дыхания. Олени бежали ходко по черным, голым камням и по скудному снегу. Якуты бежали рядом с нартами для разогрева, всю дорогу, потому что месяц январь – самый холодный в году.
А вверх по Хандыге-реке пришлось брести водою часто. Дорога пустилась живорастущими наледями, мороз велик был. Вода застывала на глазах, но по верху льда текла вновь, и тут же смерзалась, и вновь живоструйная выбивалась из галечников, никогда не иссякающая, заливала ущелье во всю ширину, от горы до горы. Горы: над головою хиломера. Не объедешь наледь, приходилось идти вброд.
Олени не хотели. Проводник напрасно головному оленю своей связки разбил морду в кровь. Олень огорчался и отворачивал морду, но не шел в темный поток, под которым не видно и льда.
Николай Иванович не стерпел, повел свою связку вперед, сам вошел в воду, и олень – с доверием к нему. Якут за ним сразу погнал в упор, мордой в его нарты, и другие поспешили вослед. Брызги облатали оленей крепкой белой и прозрачной корой, и на лицах у людей наросли сосульки – на бородах, на усах, на бровях; на ресницах занавесили белый свет, опуская веки тяжестью своей.
Николай Иванович обрубил и обколотил лед на унтах до колен. Внутри новых унтов ноги были сухие. Один из якутов разулся и менял унты, в которых уже не таял лед.
Пришлось и поглубже бродить. Нарты залило поверх досок. Тюки обледенели хорошо, сразу, и через лед не приняли много воды вовнутрь. Хозяева не потревожились. Но нарты тяжелые, продавили тонкий лед под водой и провалились. По счастью, нижний лед оказался неглубоко.
В глазах у оленей были смертный страх и кротость. Люди тоже искупались по шею.
Николай Иванович стал зябнуть на ночлегах. Он угадывал причину в перемене корма. Два лета и вторую зиму кормился дивно и сладко: чай с сахаром пил, русского хлеба съедал килограмм или два, так что животу нужно и ногам тяжко становилось, голова болела. А теперь всему телу стало быть и зябко.
А прежние сорок лет едишку ел христианскую: рыбку в разных видах весь день и весь год, при случаях – дичину. И никогда не зябнул ни в доме своем, ни на Теплой реке, ни на Великой наледи ночлегом.
Хозяева обоза каждый вечер ставили мягкие повалуши-спаленки. Они владели вещами несказуемыми – слов нет сказать о них и названия нет. Они ум свой изощрили сладкой едой и такими хитроскладными предметами, какие ввек не измыслить одному человеку; но свое тело содержали нечисто, как звери.
Николай Иванович сознавал, что они во многом превосходили его, но только – от бога ли? Может быть, от нечистого?
Они в повалушах валились во всех одеждах, что надели еще в Якутске, и все дни проходили в них, ни разу и не сымали, ни на одну ночь: в меховых штанах и ферязях в меховые мешки залезали. Платье на них должно было заколеть и не греть, а отымать тепло.
На Хандыге-реке водка затвердела.
Ехали молча по темному дну расщелины в камне (якутские говорят: ущелье в горах) и над собою не видели тусклого, бессолнечного неба – тяжелые меховые шапки, куколи, шарфы не пускали задрать голову.
Стало трудно изготовить костер. Топор отскакивал от дерева и не мог войти, а дерево звенело под ударом и рассыпало искры. Замерзшее железо было как стекло, а дерево – крепче железа, и лезвие топора могло брызнуть своими осколками.
Николай Иванович обламывал сучья и складывал из них костер. Ничтожный красный язычок от спички мгновенно замерзал на сучьях, его следовало беречь и холить. Хилый огонек прилипал к дровам; наконец, дрожащий и посиневший от холода, он жался и вяло полз, не имея силы подняться под тяжестью замороженного воздуха.
Через несколько дней еще выше, в ущельях, не стало и такого костра среди черных, голых скал, не хватило запасенных дров. Ели хлебные, масляные, мясные камни, понемножку отмачивали во рту, кусочками льда напивались. Освещались от серебряного сияния гор, а небо чернело к ночи наглухо.
Николай Иванович хоть перезяб от безрыбицы, но каждую ночь сымал все платье до последнего и спал в мешке меховом двойном – шерстью внутрь и наружу.
Глава 2
ОБУВАНИЕ И ОДЕВАНИЕ ТРАКТОРИСТОВ
Тракторы вышли из Якутска через месяц после торгового обоза с Николаем Ивановичем. Их было шесть тяжелых машин на гусеницах.
Якутское правительство придавало большое значение этой маленькой экспедиции, да и Москва запрашивала о ней: по тем временам колонна из шести гусеничных машин была даже очень большой, а в Якутии – исключительной.
Несколько организаций заботилось о тщательной подготовке всего необходимого для небывалого похода. Трактористов снабдили даже часами, которых было в якутских магазинах в то время немногим больше, чем гусеничных тракторов.
Председатель Совнаркома интересовался одеждой и обувью трактористов. Они не могли, подобно их проводникам, бежать рядом со своими тракторами, чтобы согреться время от времени, как бегают все путешественники рядом со своими нартами и оленями. Трактористы могли замерзнуть в своих высоких креслах, под железной крышкой, – никакая русская шуба не поможет им. Приходилось завернуть их в меховые одеяла.
Но между тем, по словам трактористов, машина не позволит им всю дорогу просидеть в креслах, закутавшись в одеяла и не слезая с машины весь день.
Эта проблема обсуждалась в хозяйственных и культурных центрах республики и в частных домах столицы, в партийных учреждениях и в правительстве. Ошибка или недосмотр, упущение в одежде или обуви трактористов могли причинить республике и всей стране миллионные убытки, без преувеличения, и, кроме того, сорвать планы Главзолота, отразиться на планах второй пятилетки.
Решено было: изготовить для трактористов, как людей молодых, здоровых и сильных, испытанный в старину дорожный костюм путешествующего верхом, довольно удобный даже для ходьбы на лыжах, довольно легкий и довольно теплый.
Постановили: обуть трактористов в две пары шерстяных носков и в меховые чулки и не в обычные замшевые унты, подложив в них войлочные стельки, а в меховые оленьи сапоги – торбасы.
Опытнейший скорняк пошил одежды и помог трактористам облачиться первый раз. Он повязал меховые наколенники поверх лисьих штанов – и богатыри одобрили это. На живот надел сверх рубашки меховой широкий пояс; затем нагрудник меховой, меховую фуфайку и меховую куртку; май-тарук вокруг шеи, то есть ошейник из беличьих хвостов, и сверх всего – меховой санаях, вроде крестьянского кафтана.
Парни посмеивались, оглядывая друг друга. Потом Сеня начал хмуриться. Портной зорко наблюдал за его лицом – и немедленно надел на него меховую шапку с длинными наушниками, висящими до пояса, и другой наушник особо – с висячим меховым козырьком, а перед глазами подвесил черную волосяную сетку.
Поверх шапки портной быстро надел на него варварку короткую, только до плеч, то есть подвеску из оленьих выпоротков с окном против лица. Поверх всего надел парку через голову, потому что парка круглая, без разреза.
Парка длинная, до земли. Русские называют ее также куклянкой, потому что она делает человека похожим на куклу и окончательно столь же несамодеятельным, как меховая кукла. Эти куклянки для трактористов были парные, то есть двойные – шерстью и внутрь и наружу, и с пришитым куколем-наголовником, вроде башлыка бесхвостого, по-иностранному – капюшон. Всё – из пыжика, для легкости. Так что всех мехов надето было на одного тракториста всего полтора пуда, двадцать четыре килограмма.
Начальнику колонны дали такой же костюм. Он взял, а когда увидел, что нет пуговиц – ни в одной одежде ни одной пуговицы, – не стал надевать, остался в своей пуговичной шубе. Его уговаривали – он и слушать не захотел.
Кроме того, дали им спальные мешки волчьего меха.
Да надо отметить пришитые на куклянках большие волчьи рукавицы для отогревания рук; внутри них были заячьи рукавицы, а внутри заячьих – обыкновенные русские перчатки, вязанные из верблюжьей шерсти – самой теплой.
И на каждом тракторе было по две пары лыж, на всякий случай.
Наконец отряд выступил в конце февраля.
Шесть «катерпиллеров» подняли шум на весь город. С непрерывным стреляющим грохотом они поволокли массивные, невиданные сани с великаньими грузами машин для золотых приисков.
На тракторах сидели под железными крышами разгоряченные трактористы в кафтанах, от них валил пар. На шапках блестели красивые большие стекла под меховыми козырьками. Все остальные меха на пяти тракторах свалены были в просторных креслах, а головную машину вел первый и единственный в мире тракторист-якут, и его княжеские меха все были на нем. Просто он хотел испытать удовольствие князей, которым до этой поры и позавидовать мог только понаслышке.
Женская часть городского населения взирала с огорчением на груды дорогих мехов, оставляемые в пренебрежении без пользы. Молодые мужчины смотрели на богатырей с веселым восхищением. Старики русские высказались, однако, так, что в Якутии лето, мол, как лето, а зима – как язва. Старики якуты тоже намекнули, что недаром говорится: «Пока не поймаешь – не наедайся, пока спать не лег – не раздевайся…»
Февраль в Якутске бывает теплее января всего на полтора градуса.
Чуть выглянуло солнце, на Лене наст заиграл нестерпимой для глаз алмазной пылью, всеми цветами радуги.
Великолепные московские очки с дымчатыми стеклами-светофильтрами моментально замерзли. Трактористы старались возможно реже опускать глаза на дорогу. Но больно было смотреть и прямо в воздух, полный отраженного света. Пришлось поискать в меховых кучах сорванные с шапок черные волосяные сетки и приладить к месту, чтобы не ослепнуть.
Очень скоро заныли от холода в лисьих штанах коленки, выдвинутые вперед. Пришлось опять с бранью перерыть все снаряжение; а замерзшие меха кусались, как живые белки, зайцы, лисы, волки, – меха оказались холоднее льда на Дону, на Волге, на Енисее! Покуда нашлись эти собачьи наколенники, пальцы окоченели и не могли привязать. Не удалось отогреть руки верблюжьими перчатками внутри заячьих рукавиц, внутри волчьих. Пальцы не гнулись в глубине мехов и сразу одеревенели на воздухе.
Якуты-проводники, смеясь, оголили руки и повязали богатырям наколенники, а заодно набрюшники, нагрудники, наушники, налобники, ошейники, и подбородники, и куртки – все снаряжение, кроме куклянки-парки.
Эту превосходную одежду из двойного мягчайшего пыжика цвета топленых сливочных пенок трактористы отдали своим машинам! Живым младенческим мехом поверх спальных мешков прикрыли бесчувственное брюхо железных мертвецов, переваривающее огонь на морозе.
Но может быть, это вовсе не мертвецы?.. Может быть, они оживают от огненной пищи?
Чудовищные машины произвели в юртах до самого Оймякона, по всей дороге наибольшее впечатление, возможно, именно тем, что одеты были в нежнейшие пыжиковые куклянки.
А трактористы зябли и с удивлением поглядывали на проводников. Проводники тоже зябли. На них были старые, вытертые парки, штаны и унты холодные, из оленьей замши – ровдуги. Якуты привыкли бежать всю дорогу оленьей рысцой, рядом с нартами, но тракторы шли вполовину медленнее оленей и вынуждали пеших трусить припрыжкой, чтобы не закоченеть.
Скоро трактористы обнаружили невозможность достать часы из-под глухих одежд. Начальник колонны самодовольно расстегнул свою пуговичную шубу и достал часы из нагрудного кармана.
При этом он хотел еще усмехнуться. Но твердая маска на его лице не изменила ни одной черты. Он это и сам почувствовал.
Глава 3
ОБСТУПИЛА И ПРИТИСНУЛА С НАКЛАДНЫМИ НОЧАМИ ЗИМА
Начальника не слушались пальцы и, хотя угадали в кармашек, упустили часы все-таки мимо. Часы закреплены были на ремешке и благополучно повисли. А застегнуть шубу начальнику не удалось.
Несколько километров он ехал, прижимая локтями к животу расстегнутую шубу. Песцовые рукавицы внутри волчьих не помогли. В досаде, а потом в отчаянии начальник стал просовывать правую руку к голому телу. Потом он срыву набрасывался на петлю, ожесточенно боролся с пуговицей и одерживал труднейшую победу, после чего торопливо прятал руку с мучительной болью в пальцах.
Проводники лукаво следили за героической борьбой начальника с пуговицами и по прошествии изрядного времени прониклись удивлением и уважением к русскому упорству и стойкости. Один из них вскочил на машину и застегнул шубу. Он не высказал при этом ни одного нравоучения, полагая, что начальник вполне убедился в бесполезности и вредности пуговиц.
Остановились обедать безо времени, на правом берегу Лены, возле юрт.
Первый день в пути должен был принести, конечно, первые досады.
Проводники тоже размышляли весь день. Они по очереди взбирались в кресла к Уйбану, то есть Ивану, и расспрашивали по-якутски. Но в якутском языке в начале 1933 года еще не было таких слов, какими Ваня объяснил бы мотор внутреннего сгорания. Ваня голословно отрицал божественность «катерпиллера» и всякое присутствие волшебной силы.
В конце дня проводники отрезали наименее важный краешек одежды на себе, но поярче и повязали на машине своего тракториста – на переднем столбике, поддерживающем крышу: поближе к мотору, чтобы почтительная жертва была все время на глазах у всесильного Мотора и расположила его благосклонность к восхищенному жертвователю. Ибо нет бесов неподкупных и богов, не податливых на лесть…
– Он не всесильный, а сорокавосьмисильный, я уже сказал, – терпеливо поправил Ваня.
Проводник усмехнулся. По его мнению, этого вполне достаточно, чтобы претендовать на идольские почести. Мы величаем Зиму Сорокаобхватной, и этого преувеличения хватает, чтобы Холодная Дама считала себя польщенной. Сорок меньше сорока восьми…
– Не веришь в сорок восемь сил? – спросил Ваня.
– Немножко меньше сорока – верю.
– Сорок восемь.
– Ты сам считал?
– Сосчитай: сколько лошадей увезут его груз?..
Проводник согласился внести уточнение в молитву. Но поскольку она уже была произнесена, не стоило второй раз молиться для того, чтобы умалить польщенного бога внутреннего сгорания. Как ты думаешь?..
Ваня промолчал, и проводник соскочил, чтобы согреться.
В сумерки якуты выбрали место для ночлега.
Снег разгребли до земли, разложили большой огонь и ужинали первый раз на морозе. Ели кипящую похлебку из сала и мяса. Мяса было мало, сала – много.
Сеня зачерпнул кипящую похлебку, посмотрел в свою деревянную ложку с недоумением и, не донесши до рта, зачерпнул вторично. И как только ложка вынесла из котла двадцать граммов похлебки, края покрылись льдом.
– На одной ложке видны и лето и зима, – сказал проводник смеясь.
Ввиду такого мороза оставили мотор головной машины работать на малых оборотах, чтобы этой машиной утром завести вторую. Моторы укрыли мехами, снимая с себя варварку, и санаях-кафтан, и май-тарук, наушник с козырьком, и шапку с наушниками, куртку, фуфайку, нагрудник, набрюшник, наколенники, налобник, подбородник… Торбасы, меховые чулки, шерстяные носки, две пары, – все набрасывали на мотор с прыжками, с яростными выпадами, под конец – нательную рубаху, и, растерев тело, с воплями, для смеха и для храбрости, залезли в остывшие меховые мешки с твердым сознанием, что «не пытают меня, а я делаю что хочу!».
И тогда главное – чтобы выдержало сердце.
Не так страшно показалось утром, согревшись, выскочить из мешка – с отчаянной зарядкой хватать не помня себя, надевать на трепещущее тело железную, обдирающую по коже рубаху, опаляющую морозом.
И во все остальные одежи – в одну, в другую, пятую, тринадцатую – Сеня вмораживал себя заживо в течение получаса лихорадочного и очень внимательного одевания. Затем растолкал ребят и заставил выброситься на мороз. Бедное человеческое тело в страхе сжалось, отдавая свое тепло для отогрева полутора пудов звериных мертвых шкур.
Проводники еще спали на подостланных конских шкурах, укрыв животы парками, а голые спины обратив к погасшему костру. На кофейно-черных спинах успела нарасти белая куржавина инея.
Якуты с криком и смехом потерли спину себе и друг другу и оделись очень быстро.
Начальник запретил разводить костер для завтрака, чтобы не терять два-три часа дорожного времени.
Семену Тарутинову не понравилось предложение проводников позавтракать топленым маслом. Оно кололось, как стекло, и казалось, обрежет язык и десны.
Сеня вылил немного отработанной смазки из мотора и поджег. Снег стаял, не гася огня. Проводники воззрились на колдовской огонь, а начальник сильно накричал на тракториста.
Слава этого костра опередила тихоходную колонну и скоро добежала до Оймякона.
Завтрак сварился быстро.
Тракторы взяли на крюк сани, но сани вмерзли под своею тяжестью. Пришлось повозиться с ними.
Начальник время от времени поглядывал на часы. Он поместил их в рукавице. При часах день потянулся медленно и никак не мог дотянуться до обеда. Проводник вскочил на Сенину машину, где сидел начальник, и закричал ему:
– Начальник! Наверно, время замерзло в рукавице!
Смущенный начальник (ему самому давно хотелось есть) опять поглядел на стрелки и убедился, что проводник прав: часы замерзли, напотев от руки.
Незадолго до наступления темноты на дороге появились взволнованные якуты на оленях. Они просили начальника остановиться возле их юрты ночлегом, потому что сюда собрались многие соседи, со ста километров, посмотреть на тракторы и воспеть их мощь, которая стала мощью якутов.
Тракторист Уйбан кратко перевел их горячую речь:
– Просят ночевать.
Тракторист Уйбан привлек наибольший интерес у всех собравшихся со ста километров. При свете костра в открытом очаге на земляном полу в тесной юрте окружили Ваню пятеро мужчин-якутов, не считая проводников и самих трактористов; пять женщин и еще дети, которых трудно было сосчитать, потому что они не сидели на месте и казались очень похожими. Ваня что-то рассказывал по-якутски – так же немногословно, как у него и по-русски получалось.
После ужина он запел, скупо отбирая слова, точные даже в образных преувеличениях. Он пел негромко и очень мечтательно, к удивлению Сени. Он воспевал страну, прекрасную зимой и летом, и ею созданный народ.
– Второй раз в жизни слышу, как ты поешь, – сказал потом Сеня.
Вот перевод Ваниной песни:
Ну-у!
Во-от!..
Морозом пышущая,
обступила и притиснула
вселенную теснящая пора.
Какое основание петь мне?..
Для меня ложе стелет ледяными иглами,
одевает спину пышным инеем,
лицо украшает снежными суметами!
Почтенная пора!
Девятимесячная важная пора!
С обжигающим туманом
убыточные сутки,
с накладными ночами,
с пургой и метелью,
вечной вьюгой и слякотью
и плетью резкого ветра!
С отвратительным видом:
валящимся лесом,
поздно рожающим скотом,
недолговечными людьми!
Какое основание взять для песни?..
Прекрасная!
С широким и знойно-дымчатым лицом
восьмигранная Земля-мать!
С тремя оторочками,
восемью путами,
с девятью подпорами!
От ледяных громад владычного моря
до краев немерзнущего моря
обставленная стоячими горами!
С зелеными равнинами лежачих гор,
с текущею кипящею водою в основании!
Какое направление петь мне?
О чем сказать мне вещие слова?..
Скоро набухнут почки на сосульках!
Увижу мягкие цветы на изваяниях льда!
Увижу серебряные цветы на белом снегу!
Увижу днем оживающие ночные камни!
И самая гибель становится мягче!
И самую гибель умягчим железом!
Мы изомнем эту зиму
в незамерзающих горстях —
нашими новыми пальцами,
железными, нажимающими
и раздавливающими смерть!
Длинноногие, подпоясанные,
с глазами из воды,
и телом из земли,
и жилами из травы!
С гибкими сочленениями
и на гибкой шее свободной головой
оседлавшие трактор —
мы, якуты!
Глава 4
СОРОКАВОСЬМИСИЛЬНЫЕ ДРАКОНЫ ФИРМЫ «ПОТЕРПЕЛЕВ» И САМОЛЕТ
Николай Иванович сразу смекнул, что трактористы разогревали завтрак на гееннской смоле.
Он еще не ушел из Оймякона месяц назад, когда прилетел слух об отправлении тракторов из Якутска. И он решил дожидаться, чтобы увидеть их на ходу и увидеть котлы и драгоны.
Он утомился чрезмерными впечатлениями долгого путешествия и непривычным размышлением о вещах непостижимых: о гееннской смоле, и адских котлах, и драгонах, не то драгах, и дракторах, то есть тракторах… Уже слова сбивались – оказывались мыслями, а мысли – словами: разобраться в них, что к чему, с каждым днем становилось трудней. Возможно ли, что драги и дракторы – суть одно?.. Выговаривается «драгоны», а на деле – не те же драконы ли?
Догадаться ж надо! Подправили прозванье, чтобы крещеных исплошить поверней.
В середине марта в Оймяконе стал слышен дальний железный гул.
Они все громче ревели, подползая к Индигирке, отрыгая ноздрёй огонь и смрад от своей гееннской еды – нефтяной смолы, возбуждая отвращение и страх в воображении Николая Ивановича.
Черные могучие груди, способные сбить с места любой домишко, прикрыты были от стужи пыжиковыми желтящимися парками и время от времени явственно издавали немощный кашель, и также слышался мощный чих.
Все четыре столбика, несущие кровлю над креслами, повязаны были синими и красными полосками, обрывками, клочками цветных тряпок сверху донизу на шести дракторах – подношениями от прельщенных душ, поклонившихся огнедышащему.
Оймяконские посмотрели – поспешили тоже с дарами, как только драконисты уняли своих бесов и те притихли.
Драконистов приняли почетно. У самого богатого начальника оймяконского истопили в просторной летней избе, в окнах прилепили к стеклышкам новые чистые льдинки для утепления; по полу раскидали сено для чистоты и приятности. В избе стало красиво, чисто, и драконист Уйбан вечером пел:
Ласковой волной подул теплый ветер!
Затрепетал своими каплями теплый дождь!
На третий день поползли из Оймякона дальше, на Индигирку. Николай Иванович пошел за ними, а потом и рядом с ними, да и взошел на Ванин трактор. Ваня поманил рукой: узнал-таки байкальского знакомца.
В креслах посидел и рассудил, что один грех долгий, хиломеров на тысячу, согрешил уже от Иркутска до Качуги ездой на автомашине. Еще хиломеров на десять малый грешок согрешить – прибавка невелика. Тысячу бог простит – неуж на десяти упрется?
Драктор тащил на себе Николая Ивановича.
Разновидны были с автомашинами во всем, кроме шума и смрада. Силой превосходили, шумели непомерно, смрадом же мерзко подобны и, думалось, движимы духами сродственными.
С Ванина перешел на Сенин. Осмелев, сидя в креслах, – перекрестился. И сошло. Он и драктор перекрестил и дракониста – те не поперхнулись.
Семен удивился, вгляделся в пассажира – узнал. Захохотал. Николай Иванович напрямки спросил:
– Куда идете? Зачем? Для чего котлы?
Сеня напрямки отвечал:
– Котлы с нефтью ставить и в гееннской смоле нас, грешных жильцов, уворовавших океанскую дорогу, варить по дохлому указу.
Николай Иванович отшатнулся, с гневом взглянул на оскаленную рожу, измазанную по-чертовски, но засомневался: почему же сказал «нас варить»? Самого себя варить не станет. И смеется.
– Семен Агафангелов! Над народом скалишься! – сказал сурово.
Тарутинов перестал смеяться. И тут у них был важный разговор. Николай Иванович сам даже в руки взял железное колесо и беса водил: куда повернул ручное колесо – туда и беса повел. Открыл глаза на многое и сам веселился вместе с Тарутиным.
Мороз умягчился днем. Уйбан громко пел по-якутски:
Над самой головой четыре луны,
четыре серебряных сугроба —
четыре копыта Иэехсит,
летающей белой кобылицы.
Она фыркает сильней, чем «катерпиллер», —
Иэехсит, богиня, тетка,
одаряющая нас телятами,
и жеребятами, и тракторами,
и сладким творогом!
Широкая страна пусть нарядится!
Создательница звонко ржет:
«Ретивые тракторы пусть водятся у вас!
Огнепышущие да соберутся в табуны!
Полное поле железных кормите
каменным маслом, тас-хаяк!»
Николай Иванович проводил их до половины дня и вернулся в Оймякон. Стало ему покойно.
Он обещал хорошему человеку Мичике помочь в заготовке веточного корма. Мичикой звали якута, потому что не умел выговорить крещеное имя: Дмитрий.
Мичика обещал проводить Николая Ивановича по Индигирке вниз до Большого улова, до Момского ущелья на оленях. Уговорились ехать в марте, но Николай Иванович стал дожидаться тракторов из Якутска. Тракторы прошли, а Николай Иванович не заторопился.
Они выехали ломать ветки ближе к полудню, потому что раньше самые кормовые, тонкие веточки крошились и рассыпались при первом прикосновении.
Но в полдень на кустистых ледяных изваяниях начинали распускаться почки, как в песне Уйбана. Оттаявшие на солнцепеке кончики ветвей и растений начинали самостоятельно и поспешно жить.
Мичика и Николай Иванович собирали оттаявшие ветки целый месяц. В середине апреля еще были сильные морозы по ночам, да и днем в тени держался мороз. Деревья стояли, как ледяные столбы. Отененные ивовые кусты были как ледяные узоры в воздухе – бездыханные и хрупкие, – но чудно осыпаны живыми серебряными сережками над самым снегом и льдом.
На веточках торопливо развивались листочки. Зеленели ниточки трав, тянулись вверх из замороженных корешков с такой быстротой, что при охоте и терпении можно было увидеть, как они подрастали. А вечерними страшными чарами мороза все это теряло дыхание, мертвело, каменело… до завтрашнего дня.
В полдень – но каждый день немножечко раньше – солнце творило сказку: расколдовывало льды, и камни мягчели, дышали снова, жили и подрастали в течение двух или трех часов.
Ни на один день земля не осталась оголенной, когда стаял снег. Снег сошел с зеленой земли, покрытой травами и белыми, и желтыми, розовыми, красными, фиолетовыми, голубыми, алыми цветами.
По нарядной, праздничной земле проехали веселые, праздничные гости – Сеня и Ваня с начальником, чистые, умытые, богато одетые, с песнями, в Якутск, за наградой приглашенные правительством все трактористы.
Сеня, Ваня и Николай Иванович встретились, как старые, добрые знакомые, и снова долго беседовали. Николай Иванович опять советовал Семену Тарутину вернуться в Русское жило, звал ехать вместе, нынче, и намекал: без меня-де дорогу не сыщешь, не войдешь в Русское жило.
Семен ответил хвастливо, что с орденом-де дорогу найдет куда угодно. Еще сказал: кто из нас-де в Русское жило раньше будет, тот и поклон исправит. По старинному обряду облобызались, лицемерясь душевно и родственно.
Лед в реке стоял крепко, примороженный ко дну. В старой реке не было ни капли воды – только лед, кроме разве самых глубоких мест. Но поверх льда, поверх старой, затвердевшей, прошлогодней реки хлынула новая, молодая река вешних вод.
Прошел еще месяц. Молодая лиственница начала распространять свой сильный аромат, и днем в тени уже тепло было – лето смешалось с зимой. Морозы отступили в ночь и стояли крепко до утра, замораживая все жидкое, мягкое, зеленое и красочное – до появления солнца.
Мичика предложил плыть. Он уверял, что вода как раз сейчас самая правильная, домчит в два дня до Момского ущелья.
Николай Иванович отказался и проявил упорство при этом, удивившее Мичику. Как можно человеку стать таким изнеженным и требовать от Индигирки, чтобы она была теплая?.. Правда, «течет кипящая вода в основании гор», но кто из живых плавал под горами?..
Мичика рассердился:
– Сказал, «будем плыть» – надо плыть. Люди ждут – верят Мичике.
Николай Иванович ничего не сказал, но плыть не спешил и все еще находил воду холодной. И ночные заморозки признавал неприятными. Так что он провел бы еще месяц в Оймяконе.
И деньги он отдал взаймы государству для пятилетки. Взамен большого количества малых грамоток получил в меньшем числе большие раскрашенные грамоты, и на них изображались поезда, и тракторы, и пароходы, и другие вещи непонятные. И самолет.
Вот уже лед оторвался ото дна и всплыл и умчался вниз. Тут приезжие из Якутска рассказали, что скоро полетит самолет на Студеное море и на Индигирку.
Самолет будет лететь один день от Якутска до моря, другой день – до Индигирки, третий день – по Индигирке до Оймякона.
Председатель кооперации спросил: зачем же самолету лететь в Оймякон через море и горы, вокруг вселенной целых три дня, когда он может пролететь прямой оленной дорогой с утра до обеда и быть в Оймяконе?
Рассказчик ответил, что люди на самолете увидят сверху всех якутов и эвенков, юкагиров и русских во всей вселенной – в укрывшихся поселках, где до сей поры ничего не знают о новых законах, о советской власти. В этих поселках самолет будет садиться, и советские летающие люди расскажут обо всем новом на Руси.