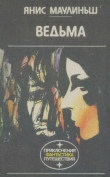Текст книги "Лоцман кембрийского моря"
Автор книги: Фёдор Пудалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 37 страниц)
1934 год
ПОЖАРОМ В ТАЙГЕ
Глава 1
БОГАТОЕ СВЕТОМ
Когда Лена прочно встала, Григорий Иванович Кулаков поехал в Алексеевку, на реке Полной. Сына он взял с собой для его роста: девочка растет в пеленках, мужчина – на охоте.
Весь Черендей оглянулся с удовольствием на богатейшую новую кошеву председателя эвенкийской кооперации, сплетенную из зеленой лозы и выстланную внутри шкурами.
В теплой пыжиковой шубе-парке Кулаков расселся на дне глубокого короба и руки спрятал в лисьи огромные рукавицы. Он вытянул ноги на мягкой черной шкуре. Задняя стенка, обтянутая желтым мехом, поддерживала спину и поднималась выше головы, укрывая от снега и от ветерка.
Лайка побежала за кошевой и даже впереди лошади, нетерпеливо угадывала направление. Но она ошиблась.
Она побежала берегом, трактом на Якутск, а лошадь непредвиденно спустилась на неезженый лед реки. Собака вопросительно остановилась. Сверху она увидела обоих хозяев в кошеве: малого и большого. Большой хозяин грел свои мягкие руки в рукавицах, а вожжи отдал Владику. Лайка постояла, изучая намерения Владика. Она прекрасно понимала, что не кобыла выбирает путь. Два ружья спрятаны были в мехах, но чуть слышный запах железа дразнил горячие ноздри, и тайга синела на высоком дальнем берегу; там тепленькие белки падают с высоких кедров, когда гремят железом руки хозяев. Собака с немым восторгом кинулась галопом вниз, наперехват кобыле, и вперед – к Алексеевке.
Григорий Иванович как будто не заботился о лошади, а смотрел якобы только вдаль. На самом деле он любовался сыном, который жаждал привлечь внимание отца.
Отец пристально всматривался в расплоские, скрытные сугробы: вот где Владик ошибется – и обидит, подведет старую кобылу, доверившуюся руководству восьмилетнего мальчика. Через Лену еще не было следа. Но Владик чувствовал выжидающий взгляд отца, устремленный на косые череды белых длинных клиньев с неразличимыми гребешочками, тихонько ослаблял вожжи и настораживался к тем сметенным суметам. И лошадка обегала каждый такой сугроб и запрятанный под ним гладкий, стесанный ветром лед, где она, некованая, могла бы поскользнуться.
Она выгодно, извилисто, бежала через Лену наискосок, направляемая мудрым сыном Кулакова. И в круглой голове папаши, битком набитой пословицами, мелькали блаженные мечты о том, как «этот мальчик просушит отцовы копыта». Какой отец не обрадуется таким ожиданиям?.. Григорий Иванович решил, что пора отпустить Владика одного с собакой на белку, ибо орленок – всегда орел. Отсюда ясно, что Кулаков не был плохого мнения о себе.
В ночной Алексеевке лайку не встретила ни одна собака, а ее хозяев – ни один мужчина. Все лайки и мужчины добывали белку в тайге. Григорий Иванович внес в один из домов спящего сына и раздел, а через несколько часов одел сонного, с нежностью, и повлек за руку в предутреннюю темноту.
Лайка слегка поталкивала Владика, поигрывала с ним, помогая избавиться поскорее от сонливости. Скоро Владик разгулялся.
Отец вручил ему ружье. Владик позвал собаку и пошел один в тайгу, не оглянувшись. Лайка оглянулась на старшего хозяина и молча бросилась галопом в сумерки меж деревьев. Она сразу скрылась. Владик не побежал за ней. Лайка могла убежать очень далеко и неизвестно, в какую сторону. Она будет носиться весь день взад и вперед и обрыщет огромный кусок леса.
Владик шел неторопливо, подражая отцу, ожидая от лайки вызова туда, где она облает белку.
Григорий Иванович пошел в сторону от сына. Он не так нуждался в собаке, потому что белка в эту пору жировала, то есть кормилась, на земле: усердно собирала шишки под неглубоким снегом и тут же, на снегу, шелушила. Она оставляла хорошие следы и мало таилась. Впрочем, Григорий Иванович не рассчитывал на большую добычу вблизи охотничьего поселка, да еще такого славного, откуда и сам он родом.
Он прислушался к страстному непрекращающемуся лаю и усмехнулся: Владику приходилось побегать за лайкой. Но – выстрел, и собака удовлетворенно умолкла. Владик сбил белку.
В сумерки лайка привела Владика в Алексеевку в одно время с другими охотниками. Он протянул шкурку отцу таким же движением, как все взрослые охотники сдавали пушнину кооперации. И никто из присутствовавших в доме председателя поселкового Совета не посмеялся над малой добычей молодого охотника.
Отец сказал, что белка метко застрелена одной дробинкой в глаз и шкурка отлично снята, без повреждений. Теперь надо ее высушить так же отлично, чтобы сдать первым сортом. А тогда охотнику будет выдан членский билет эвенкийской кооперации. После отца охотники сказали о Владике похвальное слово. Владик сел рядом с отцом в кругу мужчин перед очагом, как равный.
Все поели, потом отец рассказывал множество новостей, которых даже Владик не слышал в Черендее. Особенно про человека из Москвы. Человек обещался найти керосин на Полной.
Дрова сгорели в очаге, а новости не кончились, и женщины подложили новые дрова. В котле кипел чай. Большое пламя беспокойно озаряло темнокожие лица и красило их выражением веселья и неожиданно перекрашивало, нахмуривало, будто бы злобой, искривляло носы им, поджимало им губы. А за спинами скрытная тьма стеснила людей, и сама ежилась, и шарахалась при внезапных прыжках огней на очаге. Владик устал наблюдать мелькание теней и света. Он решил, что больше пользы будет пойти бить белку; взял ружье, кликнул собаку и отправился в тайгу, уткнув спящую голову в отцовский бок.
Зима была жаркая в том лесу, где охотился Владик во сне. Он сбросил теплый кафтан и не удивился, что белки делали то же самое: сбрасывали пышные меха и прыгали голенькие на снегу. Владик подбирал отличные шкурки, снятые первым сортом, не истратив ни единого выстрела. Теперь их надо было только высушить, чтобы получить членский билет эвенкийской охотничьей кооперации.
После Кулакова сказал свое слово председатель совета Алексеевки Алексей Петров. Он рассказал, что в конце лета спустился по реке человек из Москвы, Зырянов. Человек ночевал в его доме, и многие разговаривали с ним в ту ночь. Зырянов был начальником Евгения, сына Петрова, на Байкале.
Он показал обломки горючих камней, собранные на Полной. Зырянов удивился и обрадовался тому, что охотники в Алексеевке знают давно о горючих камнях. Он доверил охотникам свой секрет: подарил Петрову бутылку с жидкостью, похожей на керосин. Эта жидкость взрывается, как порох. Ее надо держать подальше от огня. От ее запаха болит голова. В ней растворяется жир – как соль в горячей воде. Если в камне есть жир, можно узнать с помощью этой жидкости.
Зырянов просил Петрова, как лучшего охотника в Алексеевке, отыскать обломки камней с черными прожилками окаменевшего жира. Через месяц Зырянов приехал на катере и забрал у Петрова собранные камни. Он еще раз налил бутылочку и просил собрать еще лучшие камни, отослать ему в Москву, в Нефтяной институт.
– Это очень интересно, – сказал Григорий Иванович. – Что еще он говорил?
– Он говорил, что глубоко в земле, ниже мерзлоты, черный жир еще не отвердел. Там он покоится совсем жидкий, подобный хаяку. Зырянов назвал его тас-хаяк и сказал, что это древний жир.
Но самые неслыханные слова из всех, сказанных Зыряновым, были вот какие: будто бы из древнего жира, который стал жидким черным камнем, русские умеют делать керосин – вещество текучее, подобно воде; жирное, подобно лучшему жиру рыб, откормившихся комарами в жаркое лето; богатое светом, подобно большому лесному пожару, и еще более жаркое, чем самый большой лесной пожар.
Это сказал Зырянов, и Петров поверил в это, ибо, если оно дает больше света, – оно дает больше тепла. В Алексеевке знали, что две ложки керосина дают столько света, сколько может дать целое дерево, мелко изрубленное и сжигаемое на хорошо сложенном, немного наклонном очаге. Но керосин в Алексеевке бывал в то время редко. Продавали его в эвенкийской кооперации только сдатчикам пушнины. Керосин – не золото.
Охотники знали, что их река течет по золотому ложу. Но в Алексеевке предпочитали доставать золото ружьем, а не лопатой, – пушистое золото, греющее зимой подобно летнему солнцу и ценимое не меньше того холодного золота, подобного снегу или железу, которое выбирают из грязи по одной пылинке.
Охотникам приходилось таскать из лесу в огромном количестве дрова: сто кубометров на год, чтобы прожить зиму в тепле. Поэтому они заинтересовались каменным жиром, когда узнали, что из него делается керосин.
Старый Петров нашел отличные кусочки окаменевшего черного жира у Повешенного Зайца.
Если не трудно будет председателю, сказал он, увезти небольшой ящичек в Черендей и отправить Зырянову в Москву вместе с письмом – это будет хорошо для алексеевских охотников. Зырянов прочтет письмо, рассмотрит окаменевший жир и приедет весной.
Он отыщет место, где хранится жидкий тас-хаяк. Алексеевские эвенки смогут отапливать свои дома с меньшим трудом и освещаться всю зиму – жароносным и светозарным нутряным жиром земли.
Сын Петрова, Женя, принес ящичек и вынул деревянные шпильки, вставленные в отверстия вместо гвоздей. Женя разогрел один камень в очаге, и Григорий Иванович с недоверием и надеждой, с изумлением ощутил сильный запах керосина, и все громко подтвердили, все учуяли запах.
Глава 2
«ЧУДО» В ЧЕРЕНДЕЕ
Кулаков упивался запахом керосина! Председатель эвенкийской кооперации хорошо знал цену керосину в ленской тайге.
Кулаков долго рассматривал камни и любовался ими. Утром он увез их в Черендей.
Григорий Иванович не торопился отослать посылку в Москву. Ящичек лежал на столе у председателя эвенкийской кооперации. В кабинетике за лавкой перебывали почти все жители Черендея. Многие охотники, колхозники, эвенки, якуты и русские издалека приезжали взглянуть на камни и понюхать их. За эти дни увеличилось число пайщиков эвенкийской кооперации. Охотники вносили сразу полный пай, чтобы не отстать от первой очереди при получении керосина с реки Полной.
Григорий Иванович заменил крохотную экономную лампенку в лавке, так называемую пятилинейную, настоящим «чудом»: эта новая лампа так и называлась. Она устроена была наподобие печи. Она имела поддувало – сквозную дыру внутри корпуса, снизу вверх, для притока воздуха к огню. Над широкой дырой укреплялась на корпусе горелка, над горелкой поднималась еще более широкая и очень высокая стеклянная труба для хорошей тяги. По верху трубы написано было название лампы: «Чудо». Многие приезжали в Черендей с отдаленных зимовий в пятидесятиградусные морозы, чтобы полюбоваться светлым сиянием в лавке эвенкийской кооперации.
Глазам больно было смотреть на круглый огонь за стеклом. Все спрашивали:
– Сколько требуется керосина для такого чуда?
– Пол-литра, – драматически отвечал Григорий Иванович.
– Столько я покупаю для своей коптилки! – удивлялся пайщик. – Поистине это чудо-лампа!
– Твоей коптилке это на всю зиму, а «чудо» требует поллитра на один вечер… Столько сжигают за вечер все коптилки у наших пайщиков во всем районе, снабжаемом черендейской лавкой.
Сияющее окно эвенкийской кооперации притягивало глаза, и головы невольно поворачивались в ту сторону. В тепле за этим окном был островок живого света среди океана мертвой зимней тьмы, а люди стремились к свету. Тьма тяготила людей не меньше, чем холод. У порога эвенкийской кооперации кончалось царство белого холода и черного безмолвия!
В лавке собиралось так много народу, что покупателям трудно было пробиться к прилавку. Но покупатели не обижались. Григорий Иванович соорудил две длинные скамьи. Они стояли днем у стены, а вечером одну из них придвигали к прилавку.
И вот тогда-то, в ту памятную зиму, жители Черендея начали понимать, как много надо керосина, чтобы жить светлее. Но его везли из очень далекого южного города Баку – железной дорогой, лошадьми, автомобилями и еще полгода Леной.
Свет завладел умами в Черендее.
Жирные камни на реке Полной и разведка Зырянова стали первейшим предметом разговоров. До зимы 1933 года клуб в Черендее считался самым светлым домом, но там горела десятилинейная лампа (это значит – с шириной фитиля 2,5 сантиметра), а не «чудо».
Заведующий клубом Демидов, худощавый и нервный человек, принес главную клубную лампу, десятилинейную, из зала в маленькую комнатку. Двенадцать человек молча взглянули на нее.
Только эти двенадцать продолжали еще приходить сюда. Они искали общения между собой каждый день. У них всегда было о чем поговорить, и отдохнуть им нравилось тоже своим кружком, за своим разговором.
Заведующий клубом заговорил с раздражением. Он сказал, что «чудо» в Черендее имеет политическое значение. Это недопустимо в нашей стране, чтобы товарищ Кулаков сидел на тридцатилинейном «чуде». Этим «чудом» Кулаков ослепляет глаза, отвлекает народ от света коммунистической культуры и затемняет мозги.
– Твое предложение, товарищ Демидов? – по привычке спросил седоватый Матвей Ильич.
– Передать «чудо» клубу, – твердо сказал Демидов.
Председатель сельского потребительского общества (сельпо) толстый Акамков поддержал:
– Кулакова надо снять с работы за превращение торговой точки в обывательский клуб. Эвенкийская кооперация получила всего одну бочку керосина – это слезы!.. Сле-зы! А Кулаков что делает? Он эти слезы, вместо того чтобы распределить между полными пайщиками, присвоил половину. Слезы он украл у полных пайщиков и устроил из них иллюминацию. Кулакова снять надо с работы за превращение торговой точки в обывательский клуб, оплачиваемый средствами пайщиков, и за незаконное сокращение часов торговли, за подрыв эвенкийской кооперации, выразившийся в преступном разбазаривании керосина при помощи купеческих «чудес»…
– Это пахнет клеветой, ого, – сказал Григорий Иванович.
– Он неправильно выразился, он хотел сказать: «Через посредство купеческих «чуд», – поправил заведующий школой.
– То-то, – сказал Григорий Иванович и задумался над поправкой.
– Это не чуда, а причуда, – пробормотал Астафьев, грузчик Золотопродснаба, и, определив свое мнение по вопросу, устроился прикорнуть.
– С передачей материала прокуратуре для привлечения к суду, – яростно закончил Акамков.
– А что сделать с лампой? – спросил Матвей Ильич.
Акамков махнул рукой.
– Чепуха! – сказал небритый, с черными щеками, большеголовый директор мукомольного завода. – Акамков завидует Кулакову, потому что Григорий Иванович замечательно работает. Он своим «чудом» уже удвоил число полных пайщиков и удвоил накопление средств. Этим он уже полностью оправдал перерасход керосина. Сельпо не выкупает поступающие ему товары за недостатком средств. А Кулаков уже состоятелен перекупить грузы, от которых сельпо отказывается. Пайщики еще скажут спасибо Кулакову…
– Он тебе керосину дал за счет пайщиков, – в гневе сказал Акамков.
– Дал, – хладнокровно сказал директор. – Пусть бы он не дал, я бы ему зерно не смолол для его пайщиков. А ты – не дал? Откуда же на мельнице свет, если бы ты да Кулаков не давали мне керосин?
– Григорий Иванович молодец, – сказал директор базы Золотопродснаба.
– Это «чудо» – кооперативная собственность, кто имеет право отнять? – сказал председатель сельхозпромартели.
– Астафьев! Скоро тебе выступать.
– А? Что? Я не сплю, – сказал Астафьев и проснулся. – А разве собрание у нас?
– Если бы собрание, кто бы тебя стал будить на свою голову? Ты еще выступишь, скажешь речугу.
– Керосин идет на общую пользу, не одних пайщиков, – сказал Гаврильев, председатель сельсовета.
– И по-моему, хорошо, что Кулаков создал в Черендее еще один культурный уголок, – сказал Антошин, молодой начальник почтово-телеграфной конторы.
– Уголок создал, а клуб подорвал, – сказал Демидов, – и стало культуры меньше.
– Народу не укажешь, товарищ Демидов, куда ему ходить для разговоров, – сказал заведующий школой. – В леспромхозе объявление около бочки с водой, написано: «Кроме этого места курить воспрещается». Григорий Иванович создал в магазине обстановку – и народ ушел от своей бочки с водой туда, где ему понравилось.
– Что это за бочка с водой? Что ты называешь бочкой с водой?
– Успокойся, Демидов, – сказал Матвей Ильич.
– Нет, я знаю, что он называет бочкой с водой!
– Это тебе придется повторить на бюро. Беру всех в свидетели, – сказал заведующий клубом.
– Демидов, не сходи с ума, – сказал директор Затона.
– Эти слова возьми обратно, Демидов, – сказал Матвей Ильич.
Демидов надулся и молчал.
– Захожу я к Григорию Ивановичу, – сказал Астафьев, – и верно: понравилось. Светло. Хорошо. Но скажу: не все. Газет у него нет, библиотеки нет. От его света идти в демидовскую тьму не хочется, а культуры в одном «чуде» маловато, это так… Зашел как-то учитель в лавку – рассказал, как нефть произошла. Интересно было узнать. Зашел наш директор базы, рассказал о тракторах и автомобилях. Оказывается, и они бегают от нефти. Другой раз директор Затона…
– Закругляйся, Астафьев.
– Если бы в лавку послать докладчика по международному вопросу, в другой раз – о солнечном затмении, вот тогда у Григория Ивановича был бы полный клуб. Надо дать нагрузочку Грише: наладить культурную работу.
– Сказал-таки речь! Кто его разбудил?..
– Астафьев оценил тебя как массовика, Гриша, – сказал седой, усмехаясь, – а все же и недостаток отметил: негоже одним керосином питать умы… Как ты усилишь культурную работу? Расскажи.
Григорий Иванович испугался:
– Торговать будет негде тогда и некогда.
– Отдадим тебе помещение клуба. Разворачивай работу. С чего начнешь?
– Первым делом повесил бы «чудо» в клубе, – сказал Григорий Иванович и рассмеялся вместе со всеми. – Ты очень хитрый, Матвей Ильич! Труды-то мои, а песни будут Демидова? Ладно, пускай он приходит за «чудом». Только чтобы не вышло бюрократизма, товарищ Демидов!
– Какого бюрократизма, товарищ Кулаков?
– Такого, что в лавке свет погасите, а в клубе не запалите. Керосина-то у вас – на десять линий?.. А тут – пол-литра каждый вечер! А в клубе – еще больше спалите. И выйдет, что в лавке свет погасите, а в клубе не запалите. Бюрократизм…
– Без керосина я «чуда» не возьму! – нервно сказал Демидов.
– А у меня керосин получен для пайщиков. За разбазаривание знаешь что со мной сделает Акамков?.. Под суд!.
Глава 3
ПИСЬМО ИЗ XVI ВЕКА ВО ВТОРУЮ ПЯТИЛЕТКУ
– Мама!
Лидия с громким возгласом вбежала в мамину спальню, светлую от обоев и от белых чехлов на всей мебели; пикейного покрывала с тяжелым кружевным подзором на деревянной кровати, кружевной накидки на комоде красного дерева; кружевных нежно-кремовых занавесей во все окно, сверху до полу; и тоже кружевного тихого сияния из раскрытого комода с бельем.
Мать сидела в белоснежной блузе, очень тонкого полотна, еще из ее собственного приданого, очень просторной и не заправленной в черную юбку. Она раскладывала белье по выдвинутым ящикам комода.
– Мама, я получила удивительное письмо от удивительного человека и не могу прочитать! – кричала Лида звонко, как маленькая девочка.
Мать оставила белье.
– Испугаешь ты меня когда-нибудь, Лида. Вот не нравятся мне эти Танины замашки.
– Но ты не представляешь себе, что это за письмо, мама!.. Посмотри!
Мать расправила лист серой крепкой оберточной бумаги, осмотрела его со всех сторон и медленно начала читать вслух:
– «О солнце и луна московския земли! Лидия и Татьяна…»
– Боже, что это ты читаешь? Неужели это здесь написано?.. Покажи!.. Это по-церковнославянски, мама? Откуда ты умеешь это читать? Мой дедушка тебя научил, да?.. Читай, читай скорей!
– Это полуустав, невежественная ты. Получаешь письма от кавалеров времен Ивана Грозного, а читать не умеешь.
– Ладно, скорей читай дальше, мама же!.. Итак, я – солнце, а Татьяна – луна!
– Если ты не будешь мне мешать. «Лидия и Татьяна, яко звезды сияющие!»
Лидия села на пол и залилась смехом.
– Иди с твоим письмом, не мешай мне разложить белье, – но письмо не отдала дочери, ей самой стало интересно прочитать.
– Мама, милая, читай, я больше не буду!.. Мамочка, читай сначала! – сквозь слезы смеха выговорила Лидия.
– «Две зари, освещающие весь мир на поднебесной!» – с пафосом прочитала мать.
Лидия навзрыд захохотала.
– Господи помилуй! Сколько гимназистов и студентов за мной ухаживали и письма писали, и даже семинаристы, – а ни один не догадался сочинить акафист в мою честь, – сказала мать смеясь. – А ты смеешься, недостойная. Кто же этот акафистник?
– Мама, неужели ты не догадалась?.. Я ж тебе рассказывала, когда приехала из Якутии! Ну, читай, читай, читай! С самого начала начни!
– «О солнце и луна московский земли! Лидия и Татьяна, яко звезды сияющие! Две зари, освещающие весь мир на поднебесной!
Не ведаю, как назвать! Язык мой короток, не досяжет вашея доброты и красоты. Ум мой не обымет подвига вашего на Лене и страдания вашего на Усть-Илге. Вы – Василию Игнатьевичу собеседницы, експидиции украшение и всем лямочникам сопричастницы тож! Подумаю: как так, боярышни изволили, а матушка ваша позволили со московский высокия ступени ступнти вам на стылую, нечистую баржу и в лямочницы вринутися?
Но говорится: у матери сердце в детях, у детей – в камнях».
Мать с удивлением покачала головой.
– «Яко голубица посреди коршунов, ныряла посреде лямочников изрядная и избранная девица красная, изящная геологица!»
Лидия давно перестала смеяться и притихла. Мать оглянулась кверху над плечом на ее загоревшиеся щеки и расширившиеся глаза и продолжала разбирать полуустав.
– «Посем была посажена, горюша, в тепле томитися, в трапезной избе. А прочие геологи и геологицы на молотилке горе мычут. Твое же за них доброе сердце изболело».
– Он все понял! – прошептала Лидия. – Удивительный Савва!
– «Еще ли ты помнишь меня, голубка? Друг мой сердечной! Яко трава посечена бысть – мне от забвения твоего».
Мать взглянула на дочку, улыбаясь.
– Ух как забирает!.. «Я-су окаянный кривыми стопами измериваю жизнь свою по Якутии. Где мне взять – из добрыя ли породы или из обышныя? Которые породою получше девицы, те похуже, а те девицы лучше, которые породою похуже.
Ты же знаменита в Москве: лепотою лица сияешь, очи же твои молниеносны, ноги же твои в московских мелких обувочках, видел я, дивно ступают по снегу, лямку потаща. Персты же рук твоих тонкостны и действенны. Глаголы же уст твоих алмазам подобны, яко исландский шпат, удвояют мое разумение».
– Ну, что опять ты прыскаешь? – недовольно сказала мать. – Чего-нибудь по минералогии он напутал? А Небель твой облысеет – так красиво не напишет. Не мешай читать, а не то буду про себя! – Она молча уставилась в письмо.
– Читай вслух, мама! – закричала Лидия.
– «Василий Игнатьевич не сердитует ли на меня? Миленькой, где ты гуляешь зимой? Не слыхать про тебя на Лене. В лесу людском большом ты, Василий, бродишь и в расселинах каменных московских или по холмам измышлений книжных скачешь? Да добрую-то силу и горою не рассыплет, ниже зной науки иссушит.
А то шум краснословцев слыхал, яко ветром лес, возмущает человеческие души. В расселинах книг их человецы погибают.
Не сердитуй!
Ну, дружи со мной, не сердитуй же!
Дочаюсь тебя весною в Черендее!
Писано сие в Новый год. А преж сего послано: неведомо дошло, неведомо нет.
А что ты, Лида, сама не отпишешь ко мне? Как хошь.
Писал своею рукою я, ведомый вам Савватей Иванович».
Мать стала молча перечитывать письмо.
– Ну, что ты скажешь, мама? Теперь ты узнала, от кого это?.. Ну, говори со мной, мама!..
– Ты же не даешь мне рта раскрыть, Лида. Право, ты сегодня совсем на Таню похожа. Твой знакомый мне кажется попроще, нежели ты его представляла. Может быть, он старовер? Должно быть, еще прячется издревле где-то кучка староверов, и этот Савватей оттуда… Но какая у них культура сберегается! Не списал ли он свое письмо у протопопа Аввакума? Так или иначе, он предлагает тебе руку и сердце.
– Что ты, мама, откуда у него могут быть общие знакомые с тобой? И это же совершенно неграмотный человек! Я не знала, что он умеет писать.
– Пресвятая богородица! Если бы отец это услышал!.. Чему их учат в Геологическом институте?.. Протопоп Аввакум – мамин знакомый!
– А я же не хожу в церковь, откуда мне знать этого протопопа? Ах, это какой-нибудь церковнославянский автор?.. Ты думаешь, Савватей списал из какого-то церковнославянского любовного письмовника?.. Как обидно, если это так. Это не так, мама! Ведь все письмо о наших приключениях!
– Должно быть, ему редко приходится писать. Уж очень старательно он лепит буквы. Что же ты ответишь ему? Как ты относишься к его предложению?
– Ты шутишь, мама!
– Не шутится мне, когда дочка в двадцать пять лет еще не решила, в кого влюбиться.
– В двадцать четыре. И ты бы согласилась, чтобы я вышла за этого полудикаря?
– А к тебе все какие-то полудикари сватаются.
– Неужели Небель – полудикарь?..
– А никак не больше половины. Куда Небелю до Савватея, которого ты величать изволишь полудикарем.
Лидия хмыкнула, но затем ее губы опустились.
Глава 4
ПОХВАЛА ЭГОИСТАМ
– «В тепле томилася»! Вот как он тебя почувствовал, бродяга. Сердце золотое… Тебе такое ни к чему, – мать продолжала свои размышления вслух, разглядывая письмо. – Нет, матушка, этот – не дикарь. Что ж, нынче взрослых учат. Увидишь – Савватей Иванович таких Небелей десятерых за пояс заткнет да спляшет.
– А знаешь ли ты, что Небель – высоколобый?
– Нет, не знала. И даже задумывалась: отчего у этого мужчины такая высокая прическа?..
– Ты не поняла, мама: это в переносном смысле. Высоколобый – это интеллигент с высшим образованием не меньше чем в третьем поколении. Его родители и все родители его родителей имели высшее образование.
– Все родители? – насмешливо выделила мать. – Кто выдумал такой ценз? Вот как я отстала. Но вижу, и такой ценз не для всех полезен.
– Нет, мама, такое происхождение полезно для всех. Но даже образование не может сделать всем хорошие характеры.
– Я и говорю. У Небеля хотя и кудри высоколобые, а сердце низколобое.
– Почему же я виновата, если я нравлюсь, как ты говоришь, дикарям?
– Не рви кружева. Что ж, по-твоему, дикари виноваты?
– Вы виноваты, родители. Потому что вы и ваши родители не получили высшего образования.
– А вот и нет, не виноваты. Я вот была блондинка, а твой отец жгучий брюнет.
– Мама! Ну при чем тут бывший цвет волос, господи!..
– А при том, что на свете вся гармония зависит от неравномерности и не должно быть ни в чем равновесия. То же самое, что в магнитах, то и в людях. Ты ученая, к тебе и льнут полудикари. Я за твоим отцом всю жизнь ухаживаю, каждому его желанию наперед угождаю. И он так и ждет, так и привык.
– Мама, я прошу: не говори так об отце.
– И уж дочки за отца горой. А кто вас этому научил? Я научила. От меня вы переняли, девочки, все обхождение. Ты над Ольгой смеешься, как она к мужу внимательна. А он никогда не вспомнит ей туфли купить, пока сама не скажет или купит сама. Увидишь – какая ты будешь с мужем. Небель это и чувствует. Этакую ему и надо, чтобы его любила. Себялюбицы, такие, как он сам, ему не нравятся. Любящие сердца ему по душе. Лида, я дам по рукам! Отойди от накидки.
– Ты хочешь сказать, что отец тебя полюбил, потому что он эгоист?
– А что ж в этом удивительного? Ты удивись другому: за что мы любим эгоистов?
– За что?
– Ну, не за то, что они всю жизнь о нас не подумают и нашу заботу даже не замечают. А потому, что мы умеем позаботиться и о себе и о других. Нам и нравится делать то, что умеем… Мы так приучены. А ты думала о себе: сама такая хорошая?..
– По твоей теории выходит, что ты своим воспитанием подготовила мне довольно обидную судьбу. Я могла бы не поблагодарить за такую судьбу.
– А дети никогда почти не бывают благодарны родителям. Кроме таких детей, которые как Небель. И правда: благодарить не за что. В трамвае – ноги у ней скучают, оттого что в детстве набегалась с отцом, по двадцать километров каждый день. Вот и гуляешь всю жизнь в драных туфлях.
Мать принялась за белье. Лидия сложила письмо и пошла к отцу, взволнованная и смятенная.
– Папочка, можно к тебе? Ты отдыхаешь?
– Разумеется, можно, Лидуша.
– Что ты читаешь?.. Лысенко. А прежде ты читал всё Вильямса и Тимирязева.
– Неужто ничего другого не читал?..
– Читал, конечно. Но когда ты лежал на диване – значит, или Вильямса, или Тимирязева. А Лысенко… Я что-то слыхала о нем.
– Действительно, ты что-то слыхала о нем? Меня возмущает невежество нынешней молодежи. Кроме своего клочка науки, вы ничем не интересуетесь. Даже такой дельный молодой человек, как Бернард Егорович. Девицы, впрочем, и в мое время не читали газет.
– Я читаю газеты, папа. И даже очень старые!
– Это я знаю за тобой, – отец рассмеялся.
– Я интересуюсь не только своим клочком геологии. Небель даже презирает меня за разбросанность.
– Дело в том, дочка, что можно оставаться необразованным и мужиком в звании профессора. Если не выглядывать за околицу своей науки. Как поживает Бернард Егорович?
– Ты всегда говорил мне, что науки не имеют околиц, и это я запомнила… Право, папа, Бернард Егорович интересует вас с мамой гораздо больше, чем меня.
– А он не так плох, чтобы не стоило интересоваться им.
– Ты находишь? Что ты можешь сказать в его пользу?
– Во-первых, он законченный эгоист.
– Восхитительно! Как раз то, что мама считает его худшим свойством… У тебя улыбка мудреца, папа.
– Понимаешь, маме надоел мой эгоизм за тридцать лет. Поэтому она больше не хочет эгоистов… Ну, через тридцать лет и тебе надоест какой-нибудь эгоист.
– Вы говорите о Небеле уже как о моем муже. Этим одним он мне надоел на тридцать лет вперед. А почему ты рекомендуешь мне в мужья эгоиста? Потому что ты считаешь себя эгоистом?.. А ты о себе так думаешь, потому что привык во всем полагаться на маму.
– Значит, я не должен во всем полагаться на маму?.. Ты, девочка, хотела бы, чтобы я полагался больше на тебя? А ты не считаешь меня эгоистом?
– Нет, не считаю! Я знаю, что ты очень внимателен ко мне. Я хорошо изучила твой характер. И я бы хотела, чтобы меня полюбил такой человек, как ты.
– А ты не находишь, что мама посвятила больше времени изучению моего характера?
– Не настолько больше: тридцать лет, а мой стаж с тобой – двадцать пять лет.
– Не все двадцать пять, Лидочка. В первые годы жизни ты недостаточно интересовалась мной, мне казалось…
– Значит, я начала увлекаться тобой в то время, когда матери ты стал надоедать?.. На моих глазах ты все более совершенствовался, а мать этого уже не замечала! Лежи, почему ты встаешь?
Отец спустил ноги с дивана и с удивлением смотрел на дочку.
– Кажется, я за тобою не уследил, девочка. Эка ты рассуждать научилась.
– Серьезно, папа, ты мне скажи, почему ты высоко так ценишь эгоистов?
– Не высоко, Лидочка, это было бы самодовольством… Но ты сама выбираешь эгоиста.