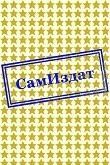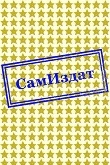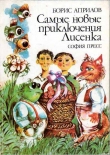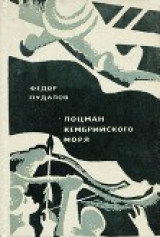
Текст книги "Лоцман кембрийского моря"
Автор книги: Фёдор Пудалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц)
– Товарищ неправильно употребляет понятие принципиальности, в то время как он заинтересован чисто лично, – сказал Небель.
– Вот именно я употребляю правильно это понятие! Когда человек интересуется чем-то большим для себя, то есть хочет понять, – это бескорыстный интерес, принципиальный научный интерес.
Директор треста рассмеялся:
– Значит, человек для себя берет бескорыстно. А когда же он бывает корыстным? Когда отдает?..
– Да! – крикнул Василий, но его больше не слушали.
С непокрытой головой выбежал на улицу, дрожа от гнева, и продолжал возбужденно додумывать: «Важно принципиально вскрыть кембрий!.. Какая мне в этом корысть?.. Неужели я в этом заинтересован корыстно?»
– Да это же нахал и мальчишка! – сказал Небель, когда Зырянов закрыл за собой дверь.
В ста шагах Василий увидел освещенные окна московского поезда. Он побежал со всех ног, помчался, перепрыгнул через что-то.
«Важно принципиально вскрыть кембрий!.. Я хочу только понять. Сейчас для меня важно понять. Это бескорыстно: чтобы я сам понял, откуда притекает нефть, где она образуется, как это все происходит… А для чего понять?
Для того, чтобы дать большую нефть. Тогда… это будет полезно для людей. Когда сам пойму и сумею дать людям то, что я понял. Вот тогда я стану корыстным! Сколько ни дам – все будет мало мне! Я чувствую большую жадность в себе! Давать облегчение жизни для всех людей!.. Чтобы все имели такую жизнь, какую я уже получил от народа через советскую власть: творческую жизнь!»
И все время пуд книг дубасил его по спине.
«Для меня важно принципиально вскрыть кембрийскую нефть хотя бы на другом берегу древнего моря, пусть это будет в Якутии или под Ленинградом».
Кембрийское море расстилалось от Байкала на тысячи километров к востоку и северу и на запад, до Ленинграда… Восстановить очертания его берегов – лоцманская мысль! – исключительно трудная задача. А рельеф его дна – еще трудней… В Якутии легче всего бурить, потому что кембрийские слои там лежат на поверхности…
И мысль, освобожденная от схватки за прорыв в одном месте, рвалась во все стороны от Байкала. Лесной пожар в безветрие. Пламя воображения само вызывало на себя ветра́ со всех сторон, бушуя от восторга. Оно напрягалось в огромных скачках, чтобы охватить извилины древнейшего узора берегов на пространстве всего нынешнего континента в горизонтальном и вертикальном измерениях и во времени, в продолжение миллионов лет. Подкоровые массы в своем движении увлекли твердую оболочку Земли… Кавказ, Урал – это короткие волны огромной высоты, поднимавшиеся на десятки километров. А на Русской равнине горообразовательное движение имело исключительную длину волны, при небольшой высоте в полтора-два километра, две-три тысячи километров в длину… И воды переливались. Дно моря становилось сушей и снова дном.
На всякой поверхности платформенной суши, ставшей дном моря, начинался процесс нефтеобразования при необходимых условиях. По всему дну моря совершался единый процесс в единое время. А книги в рюкзаке больно колотили по спине. Василий сам выводил это, и для него становилось ясно, что скважина, которая даст нефть в Якутии, докажет принципиальную нефтеносность кембрия не только под Байкалом, но и вплоть до Ленинградской области. Спину он не чувствовал, она не помогала выводу.
В плацкартном жестком вагоне на стене в коридоре жестяной плакатик приглашал туристов на Байкал. Василий остановился перед ним, с трудом дыша и еще не сняв рюкзак.
Почему они не могут понять таких простых вещей, очевидных, как этот плакатик?
Озеро нарисовано было в жестяных красках, красиво и привлекательно. Иван Михайлович обещал на будущее лето практику «на винограде».
Василий погрозил плакатику сжатым кулаком: «Я уйду от тебя за четыре тысячи километров и выведу твою тайну вверх дном!» Засмеялся громко и радостно, как в половодье.
Затем он сыскал свободное место, развязал рюкзак и обнаружил сверху клочок бумаги. Он расправил желтый комочек и прочитал карандашную запись:
«Поселок Алексеевка на Полной, Черендеевское почтовое отделение ЯАССР, Евгению Алексеевичу Петрову от Василия Игнатьевича Зырянова. Москва, напишите ваш адрес».
Василий дружелюбно рассмотрел бумажечку и спрятал в карман.
Хороший парень Женя Джаз. Евгений Алексеевич. И фамилию себе присвоил неплохую. Верная душа.
Глава 24
БРИГАДА ВЕРНЫХ ЛОЖИТСЯ СПАТЬ
– Он, – сказал Ваня.
– Кто – «он»? – яростно закричал Женя. Но уже Сеня схватил его за руку:
– Не окликай!
– Почему? – Женя узнал Зырянова в человеке с книжным горбищем. Зырянов карабкался на ступеньки вагона.
– А потому, что поезд тронется и он со своим мешком не успеет…
Парни внимательно проследили за тем, как Зырянов поднялся в вагон. Поезд сразу пошел.
Сеня сошел с этого поезда.
Бригада Верных без Сени доехала до Танхоя с Зыряновым, по его совету, в надежде, что Сеня догадается следующим поездом приехать сюда же. Сеня догадался и прибыл вечером. Товарищи встретили его на станции.
По дороге к Дому колхозника Сеня наугад спрашивал у встречных трест Сибнефть, Нефтестрой и тому подобное, но никто не слыхивал здесь о таких учреждениях.
В Доме колхозника бригада получила койки в общей спальне и оказалась в компании с теми, кого она искала.
– Так вот, товарищ директор, – сказал толстяку обрадованный Сеня, – позвольте рекомендоваться: мы явились сюда как раз после окончания трудов по раскрытию тайны Байкала.
В комнате раздался короткий смешок, подобный выхлопу из мотора внутреннего сгорания. Сеня удивленно оглядел присутствующих. Они все сохраняли спокойствие. Возле зеркала в глубине комнаты поднялся со стула человек с необыкновенно выпуклой грудью и очень короткими руками. Сеня подумал, что ему как раз хватает рук, чтобы обнять свою грудь. Человек пристально смотрел на Сеню.
– Мы хотим подписать обязательство, как бригада самых верных энтузиастов сибирской нефти.
– Какое обязательство, молодой человек? – спросил высокий симпатичный гражданин с внимательными, спокойными глазами и крохотной бородкой.
Но директор предупредил Сенин ответ.
– Товарищи! – заговорил директор и встал босыми ногами на холщовый половик. – Вы слышите первый отклик сибирского рабочего класса на ваши труды. – Директор перевел дух. – Вы видите стихийную делегацию… – Левой рукой он пристегнул обратно подтяжки, а правой указал широким движением на делегацию. – За этими первыми ласточками придут к нам сотни и тысячи, как говорится.
– Какое же обязательство вы желаете подписать, молодой человек? – повторил Осмин.
– До конца пятилетки, – подсказал директор, – работать на поисках сибирской нефти.
– Что вы, товарищ директор, – сказал Сеня, – зачем на поисках? Это еще не главное – найти! Мы ведь уже разведали эту нефть только что. Теперь мы обещаем достать ее! И подписываем обязательство в кратчайший срок достать нефть со дна земли!
– Со дна! – воскликнул кудрявый пижон. – Я слышу, как зарождается эпос сибирской нефти.
– Трудно, и только! – сказал Сеня с вызовом кудрявому пижону.
«Этот скалит зубы, – отметил про себя Сеня, – а директор набычился вдруг. С чего бы?.. А этого грудобрюхого я нигде не видел, но он похож определенно на кого-то».
– Где же вы нашли нефть, молодые коллеги? – спросил старичина.
– На Байкале. – Сеня поколебался и с гордостью добавил: – В кембрии.
– Замечательно! – воскликнул кудрявый, искренне радуясь.
– Будущим летом мы начинаем разведывательное бурение в третичных отложениях, если вы в этом разбираетесь, – сказал директор.
– А мы уже давно в них разобрались, – сказал Сеня. – Василий Игнатьевич сделал сотни анализов.
– Кто это?
– Товарищ Зырянов!
Директор быстро отстегнул подтяжки.
– Если хотите помогать, милости прошу! – сухо сказал он.
– А можно узнать, когда планируете кембрий?..
Директор проворно сложил подтяжки и прочее на стуле и скрылся под одеялом.
– Мне жаль огорчить вас, друзья, но сомнительно, чтобы кембрий планировался когда-нибудь в будущем, – сказал Осмин, слабо улыбаясь. – Вы видите, здесь все против мнения вашего молодого начальника Зырянова…
– Но это же не мнение, а факты – анализы!..
– А можно узнать у вас адрес товарища Зырянова? – спросил Женя.
Бригада молча и недоумевая переводила взгляд с одной кровати на другую и видела одни подбритые затылки, полотняные, крахмальной белизны спины и зеленые шерстяные одеяла.
– Думаю, если вы напишете на Нефтяной институт, студенту третьего курса Зырянову, письмо попадет к нему, – сказал Осмин. – Спокойной ночи!
– Спасибо, товарищ профессор! – воскликнул Сеня.
И по его взгляду вся бригада Верных вежливо грянула:
– Спокойной ночи!
РУССКИЙ ЖИЛЕЦ ПОДВИГАЕТСЯ К СВОЕМУ ПОДВИГУ
Глава 1
«А КАКАЯ ОНА, РУСЬ-ТА? КАБЫ НЕ ОБОЗНАЦЦА»
Кто расскажет о всенощной русского жильца Николая Ивановича на некоей прибайкальской станции? Как расскажет он сам в Русском жиле, если стихея допустит вернуться? Сумеет ли описать неизъяснимое, чему и слов-то не бывало, явленное в ту громовую ночь на восстановленной железной дороге? Ну, и прочее в Миру, на великой Руси увиденное за год. Много насмотрелся. В один год будто сто жизней прожил, – дивный год. Куда там сто! Больше. В одну ночь на станции увидел, сколько за весь год: ошеломленный, наблюдал разом всю Русь нескончаемую, в неисчислимых окнах на железных колесах, в хороминах длиннейших, обшитых зеленым железом, и синим, и цвета кедровой шишки; ввогонами называются или эвагонами: эва! гоняют – по земле быстрее птиц в поднебесье, гон за гоном, от станции до станции – наподряд.
На корточках просидел; взирая, глаза сомлели.
Эвагоны зацеплены поездом – четырнадцать хоромин. В зеленые по окованным ступеням через железные двери без креста и бесстрашно влезали православные толпами, а вылезали по одному. Куда девались? И всю ту неслыханную, неописуемую ночь прибывали-отбывали взад-вперед поезда эвагонов, людных и безлюдных, – красных, поменьше, безоконных. Чуть не весь подвижной состав транссибирской магистрали спешил пройти перед Николаем Ивановичем – заждавшийся пропуска после наводнения. Но этого не уразумел русский жилец.
Зрелище Руси, гремящей и ринувшейся в дорогу дальную железную, потрясло его.
Перед восходом солнца Николай Иванович за людьми влез в зеленый эвагон. А был еще синий, понаряднее, но туда не пустили. А в наиславнейший, цвета кедровой шишки, не пускали никого.
Влез в зеленый и неприметно сосчитал: столько не было людей в Русском жиле, сколь народу вгоняют в один ввогон. Индигирка с Русским Устьем уехала бы одним поездом вся!
Велика Русь!
Николай Иванович порешил ехать до Москвы. Помчало его на заход солнца. Но поезд не отставал от солнца, и солнце красное не могло закатиться. Катилось долгий день над горами и лесами, над морями, над полями, селами и городами, через многие днища пешей и конной и водной дороги. Вот уже и Святое Байкальское море пропало из глаз. Глаза устали глядеть на земную безмерность. Великая земля его пращуров за большим стеклом раскатывалась без конца и краю – и Николай Иванович испугался: не проехал ли Москву?
Вылез у большого жила́ Иркутского, названного по малому притоку Иркуту, а стоит жило́ на большой реке Ангаре. Выйдя, огляделся на площади, раз десять посторонился и спросил:
– В какой стороне горит?
Отвечали ему:
– Не горит ни в какой стороне.
Люди же во множестве бежали во все стороны скоро, как на пожар или к поезду, и друг друга не признавали, не привечали, будто и не знавали.
А людей – тайга!
Против Якутского города Иркутский велик, не стоит и говорить: не поверят в Русском жиле. А если счесть потолками – два города стоят один на другом. Есть дома каменные, построенные в четыре потолка один над другим, и вся улица из таких домищ. И дома все изряднёшенькие: не как в нашем жиле – домой ноги несут, а глазами свою избу из ряда не выделишь.
На той улице Николай Иванович увидел человека верхом на черной палке о два колеса. Мальчишки бусурманили: велисапед. Николай Иванович научился по-русски выговаривать: велицабеда.
Верховой на велицабеде звонил в малый колоколец – с дороги перед ним отсторонились бы, не зашиб бы.
Не то диво, что палка везла его быстрее лошади; поезд хоромин о ста осях мчался еще быстрей – не под силу целому табуну лошадей.
Ездят и на одной оси в Якутске: без телеги человек сидит на самой оси поперек ее, как на лавке, и два колеса на оси катятся за лошадью или за верблюдом.
Видел и такую двуколку на море Байкалове: ларь без крышки, на одной оси; справедливо зовут бедой. Но и под той бедой два колеса посажены пристойно: по бокам ларя.
В Иркутске же ехал человек на оси верхом. Колеса же не на оси – сама ось на колесах, и непристойно бежала одним колесом вперед, другое же за собой волочила иноходью. В Русском жиле не видели, такое в Берестяной Сказке не читано и не писано от Первова Тарутина до сей поры, немыслимо представить – не поверят. Скажу по-иному: оторвали бы от телеги одну боковину дрог – и два колеса. И сидит на дрожине – сам дрожится, ногами часто сучит, будто дитя на палочке! Нет, не поверят.
Этакое уже не беда – назовешь велицей бедой.
Потом увидел: многие, даже бабы, на таких велицых бедах ездят и детям ладят поменьше, о трех колесах – малобедки.
Мудрёна Русь!
Во многих лавках торговали разным товаром. Николай Иванович прислушался к разговорам: торговые люди сговаривались отправить товары на Лену.
Он снял колпак с головы и сказал тем людям, что взялся бы помочь в дороге. И его взяли торговые люди в дорогу ехать на грузовой машине с товаром.
Так он повернулся на обратный путь незаметно для себя и не скоро понял, что в Москву не попадет, а едет к своему дому поближе.
Дорога продолжалась все новая, необычная, неизведанная. Страхов натерпелся – не пересказать и в год.
Машина понеслась по земле, яко по воздуху птица, – чуть не отрываясь от собственной тени. Как сосчитать поденную ее дорогу? Да это не день дороги, а предлинное днище – на сто пеших дней. Хотел спросить, какая сила в машине, но удержался от греха: скажут – бесовская, потом не отмолишь вовек.
К вечеру были у Лены и в Кучуге сложили товары на баржу.
И за дивный провоз уплату не взяли с Николая Ивановича, ему же уплатили деньгами за работу. А работы всего было то, что поднял товары на машину в Иркутске и снял в Кучуге, снес на баржу – больше дела не было.
Из Кучуги он взялся рабочим на баржу до Якутска.
Баржей на Лене побольше стало против прошлого году, и товары другие. Людей даже гуще, да они говорили об ином, не о прошлогоднем. И дорога, повернувшая Леной вспять с запада на восток солнца, но через год уже непохожая, продолжалась по-новому, опять как будто вперед.
И дорога, повернувшая назад к дому на Индигирке, продолжала развертываться вперед в его сознании.
Баржу потащила вниз рекой самоходная по воде машина о двух колесах, «Верхоленец» зовется; сам гребется и тащит баржи две.
Николай Иванович заинтересовался: откупить бы? За этакую вещицу всего клада не жалко. Ею можно пройти Леной скоро до моря, а морем до Индигирки, а Индигиркой вверх – и до Великой наледи, домой. Клад немалый собрался за год у Николая Ивановича. Капитан – хозяин «Верхоленца», тезка Николаю Ивановичу, – Николай Алексеевич, сказал, что «буксир государственный», непродажный.
Какое же государство, когда царя-государя-то нет у них? Чья машина? Говорит: «Наша», – смеется: «Твоя и моя».
– А твоя и моя – откупаю твою долю, Николай Алексеевич.
– Неделимая, продать не могу.
Николай Иванович думал два дня. На третий день сказал:
– Тезка, послушай: вроде общественного выгона?
– Что такое?
– Машина. Вроде общественного выгона?
– Ах, вот ты о чем.
Утащить до Якутска должен был – не успел и от ледостава забежал в затон, у Берендея.
Николай Иванович начал зимовать: в полушубке нагольном, древнего покроя и черненом, и в ровдужных штанах, то есть оленьей замши, черненых, – из дому в чем вышел, потаскал на себе два лета и вторую зиму начал. Штаны потерлись, полушубок тоже серый. На ногах унты выше колен, хорошие, новые, из дому в запас брал для обратной дороги.
Обратная дорога наплывала, вторая зима складывалась с первой… И так уже много в один год явлено было Николаю Ивановичу нового, не известного из Берестяной Сказки и малопонятного, что две дороги переслаивались иногда в его памяти: из дому в Мир и обратная.
Для обратной дороги наиболее запасался из дому: и лоскутья крашеной ровдуги, зеленые и красные, взял для подарка Индигирке-реке; два алмаза взял наилучшие: светлее воды, а посмотришь сквозь – и всё удвояют. Ими откупиться думал от государевых людей, от опричнины или из плена. Древко у копья выдуплил – для денег.
Какие такие деньги, не видел до этого случая; только знали о них из летописной Сказки. И похвалился батя четырнадцать лет назад, будто ему в дорогу отец дал. Будто бы пять денег дал да еще пять копеек. Батя похвалился, а показать не захотел, злой, так и ушел тогда в Мир.
Позапрошлым летом отец принес в дом два моточка серебра – не захотел открыть сыну весь клад. Размотал плющеное серебро – оно узенькое и тоненькое, словно сухие ягодки, на жилочке нанизанные. Вынул нож якутский, хотел нарубить копеечек и денег. На каждой деньге выбит одинаково ездок с мечом. Другое размотал серебро – а на нем часто выбит ездок с копьем, одинаково: сам царь Иван с царским венцом на голове. Не стал отец рубить. Сказал:
– До обратной дороги не трогай денежки без крайности. Да береги обратной дорогой, Николай. Прадеды и деды сберегли, я сберег – за четыреста лет в Русском жиле не извели ни одной денежки, ни одной копеечки. Только в Мир ходоки запасались, и те назад принесли серебрецо… Батя твой один не вернулся из нашего роду, из началовожей. Ну, тут уж тужить не о серебре – о милой душе. Удалец был, царство небесное само ему в рот валилось. Мал, да удал. Смело пошел в Мир – с пятью копейками, пятью денежками, больше не взял… Повстречаешь – поклон отдай и приказ отцов: ворочаться в Русское жило! А если в плен попался – выкупай, серебра много даю; не хватит – в придачу сам иди за него, обмани хоть. Началовожа надо в Русское жило. Стар становлюсь… А если, не дай бог, плохим человеком большой стал – зло в нем есть, – убей, но не своими руками: кату отдай.
Не стал рубить серебро: отсчитал сто ездоков с мечом и сто ездоков с копьем, смотал и засунул в дуплецо под копьем, так, чтобы лежало тихо, и смолою замазал, накрыл копьем впотай. Сказал:
– Станешь сам отрубать одну денежку – семь раз отмеришь.
– Отец, а какая она, Русь-то? – спросил тогда Николай Иванович. – Кабы не обознацца.
Глава 2
ПРОМОИНА В МИР
Он опустил глаза перед сожалеющим взглядом отца.
– Не тебе лететь бы… Да орлы не вернулись, – сказал отец, помолчав. – Тебя-то посылаю с глазами затем, что не ведаем, какая есть Русь. Русь-то пращуры оставили рано… Ну, да раннее на позднее наводит – авось не обознаешься. Бабе не сказывай, куда и зачем летишь, Николай! Смотри у меня – ни полслова ей! На охоту, мол, на все лето.
Поцеловал сына в губы.
Вечером Николай Иванович сходил на Устье, помылся к дороге и долго нежился в теплой, остывающей воде у берега. Потом лежал на песочке и смотрел в туманное небо, всегда туманное над теплым озером. Слушал сладкое пение птиц и думал о том, что дед сказывал, будто бы на Руси вовсе нет горячей воды – самим нужно греть…
Утром рано жена поднялась провожать – ничего-то не помыслила, не опечалилась нисколько, не спросила у мужа ни о чем: не впервой уходит надолго. Николай Иванович поглядел на детей – целовать не стал, чтобы баба не тревожилась. И ушел от Благодатного озера вниз.
Пошел по Теплой реке, с Теплой – на Туманную речку; вверх-то камень Недоступный; а вниз-то, за туманом, – вся Наледь. Через Наледь два днища пути, отец говорил.
На Туманной ревели песню. Услышал:
Рыбка плавает по нну,
Я не хватаю ни онну!..
Ближе подошел и увидел: рыбу брали сетью братья Тарутины с батей Важениковым да старый Воранов. Не вовремя.
Полную лодку рыбы натрясли. Важеник взревел:
– Куда так собрался, Миколай?
– На охоту, – ответил Николай Иванович.
А старый Воранов покачал головой: мол, на Великой наледи какая же охота?.. Недаром говорится: всем Воранам нет веры, они сами без веры.
Тарутины опять запели – вслед Николаю, с насмешкой:
Лед толстой, труд людской!..
Рыбка плавает по дну,
Я не хватаю ни одну!
Дойдя до Наледи, оборотился – и перед ним восстал тот же туман, да густой, и укрыл от глаз русское место.
Пустился по Наледи вавилонами вправо и влево, обходя ночемёржи, тонкий лед, а все же поглядывал и назад, помнил отцов наказ, чтобы не сбиться с дороги: держать туман за спиной. Не провалился ни разу глубже чем по унты.
Шел через Наледь два дня, озирался на белое облако – клубилось у самой земли. И дошел до наклонной ямы. Заглянул в нее – дна не видно, вбок ушла промоина.
На эту яму отец указал: «В нее ложись смело – моргнуть не успеешь и вылетишь в Мир». Страшно показалось. Николай Иванович прошел мимо наклонной ямы.
И уже видна ему стала вдалеке зеленая долина, большая река – Индигирка. С детства слышал об Индигирке, Мало кто ее видел. Кому охота была ходить на Наледь?
Вот и конец Наледи. Николай Иванович лег на загрязненную и ноздреватую, обтаявшую и скользкую поверхность и дополз до края. Посмотрел вниз – крепче уперся руками, сразу вспотел. Под ладонями мокло и студило. Ледяная гора обрывалась и стеной наклонялась над зеленой долиной, подтаивая снизу от ее тепла.
Осторожно повел глазами на обе стороны, а внизу, на зеленой и цветущей мураве под ледяной стеной, куда ни пойдешь – на севере и на юге, сколь глаза видят, – упрешься в другие стены, такие же отвесные, но каменные.
С ужасом Николай Иванович подумал: так вот почему не вернулись батя и младшенький! Неуж высылает отец сыновей из Русского жила?.. Но приказал вернуться непременно.
В течение трех сотен лет ни один чужой человек из Мира не пробрался к Благодатному озеру!
Иные удальцы-женихи притащили чужих девок, а как – не сказывали. И девки помалкивали. Иные женихи пропали – не в Миру ли? Но сказал отец, что вернуться можно – через ту же наклонную промоину. А почему малого не помянул ни единым словом? Как будто не было младшенького братца у Николая. За что?.. Неуж самовольно ушел Саввушка в Мир?
Нет ходу назад. Иначе как через Русь не вернуться к своим: отец не допустит, и самому от себя не стерпеть обиду. Стало быть, нет иной пути, как через промоину и через Мир.
Николай Иванович отполз, пятясь от края Наледи, и пошел к наклонной яме. Он стал на колени перед скатом и вынул из меха с иссушенной рыбой две связанные вместе маленькие дощечки. Развязал их. Между дощечками лежали две желтенькие свечечки. Одну расправил, укрепил на дощечке и затеплил; перед нею положил свой крестик.
Перекрестился много раз и проговорил молитву:
– Матушка-владычица! И ты тоже, Теплая река в Наледи! Наша стихея покровительная! Пропустите меня через промоину и живого выпустите в Мир и обратно допустите в Русское жило! Не дайте погибнуть крещеному! Иду не своею волей – отец посылает… А я из Руси вернусь – принесу вам русские подарки! Что вы любите, принесу! Мне для вас ничего не жалко!
Он крестился и молился, пока свечка не выгорела. Завязал дощечки со второй свечкой, убрал в мешок, сам собрался и сказал громко, обращаясь к яме с упреком наперед:
– Вот видишь, как я тебе служу! Ладно уж, побей меня, оставь только целые ноги да руки, голову еще, ну, спину, грудь и живот и все нутро.
Бочком ступил на гладкий, обмытый скат – и тут же упал, понесся ногами вперед, вбирая голову в плечи, держась левой рукой за мех, в правой удерживал копье и лук с привязанным колчаном. И сразу свет убыл, дня не стало, ничего не видно, темнота зеленая. Нигде не стукнулся, только дух захватило, и почувствовал два плавных поворота, не то еще два – и уже засветлело, перед глазами мелькнула яркая солнечная зелень. Он отбросил оружие и, обнимая мех, несильно ушибся задом оземь. Полушубком спасся и молитвою, должно быть.
Глазами сразу поискал брошенное оружие.
В страхе увидел перед собою высокую, неприступно нависшую ледяную стену. Покуда глаз хватал, тянулась она к горам.
Над самой травой открылась дыра небольшая в подошве ледяной стены, устье промоины, откуда выскочил: тесный лаз кверху – в Русское жило, как в царство небесное.
Николай Иванович осмотрелся, запомнил навек заветное место. Родительское, подумал, копье железное, наследное от первого началовожа Льва Меншика, поможет с великою тягостью подняться наверх. Батя из гордомыслия не взял копья, младший не взял из легкомыслия. Мне досталось. Мне и поможет.
Пустился сходить к реке Индигирке. И когда оглядывался с опаской, видел: в горах, за Наледью, клубилось белое облако и казало ему родное жило. И шел смелее берегом Индигирки в Русь, – третий день из дому.
На четвертый день перестало маячить облачко. Николай Иванович хорошенько осмотрелся. Отсюда начал примечать на Дороге памятные знаки. И не думалось ему и в голову взойти не могло, что не придется на этой дороге обратно быть, не пригодятся памятные знаки. Он ступал ногою на север, а посматривал на юг, все время вертел головой, всею душою тянулся назад, но подвигался вперед. И было ему впереди все не любо и не интересно, а только страшно.
Глава 3
НАРОД НАЧАЛ САМ ГОСУДАРИТЬСЯ
Все лето он ходил по русским поселкам, выспрашивал дорогу в Русь. Дошел до Русского Устья, с русскими устьинцами дошел Индигиркой до Гусиной губы морской. Узнал, что и русские устьинцы мало сведаны в делах на Руси: триста лет не бывали. И решился идти дальше. Теперь – на заход солнца.
Другим летом прошел через горы Тас-Хаях-Тах. Там он не слышал духа человеческого. Каменные куропатки с черными бровями собеседовали с ним да один якут.
Якут провел его по ущелью, полному страшного грохота от реки Догдо и такому узкому, что утесы верхами сходятся и не пропускают половину света, внизу же вся ширина занята рекою Догдо.
Олени робко цеплялись по боку скалы, срывая потоки камней в воду. Рядом с оленями буйная Догдо с несказанным шумом катила громады валунов. От ее тряски дрожали своды утесов над головою Николая Ивановича, а смешение света со тьмою его глазам являло чудные, затейливые и страховидные образы. Представилось даже стоверстное Момское улово.
Острый ветер прорезывался сквозь по всему ущелью, и туманы наездничали как бешеные. Откуда брались? Без конца. И в августе месяце 28-го числа якут отморозил себе руки и ноги. Таково это ущелье Догдо: каменный гроб длиною в триста хиломеров.
Меру хиломерами Николай Иванович узнал в Верхоянске. Там он побыл служилым человеком исполкома на посылках. Два месяца томился праздностью половину каждого дня, другую же половину – пустоходьем с легкими грамотками туда и сюда по городу. Николай Иванович, исполняя дело отцово для Русского жила, прочитывал грамотки. Письмо, похожее на Берестяную летопись, легко научился читать; слова тоже – якобы русские, но понять заумно.
Иногда гоняли подальше. Послали вместе с другим служилым – за тридцать хиломеров, сказано было. По реке берегом ровным прошли в один день. Еще раз послали в другое место, и сказано было – опять за тридцать хиломеров. Николай Иванович думал – опять идти день, и взял еду на день; а по каменью и по болотам три днища от темна до темна ходил. Земля под Верхоянском разная, хиломера же у верхоянских одна для разной земли, – неправильная и неосмысленная мера, хилая.
Крещеные не должны землю мерять.
У русских жильцов мера не для земли есть – для своей силы: день трудиться. Эта мера от пращуров, когда еще на летней Руси жили и знавали день русский, полномерный.
Летом человеку посильно пройти в округе Русского жила в одно днище: по верхоянскому счету – хиломеров пятнадцать бережками Благодатного озера и Теплой реки, а по Наледи и того нет. У русских устьинцев, на Индигирке, днище пути (они и выговорить-то не умеют, говорят: нишша) не больше десяти хиломеров будет по тяжелым болотам – на сендухе, по-ихнему.
И про ущелье Догдо сказать понятнее: каменный гроб длиною в двадцать днищ.
Караульщик исполкома поведал пречудные новости или небывальщину: будто царь Иван Грозный Васильевич не оставил потомства на престоле. После него государили бояре Романовы и кончили лет пятнадцать назад. Будто бы прогнала их Москва и народ начал сам государиться. Но как понять это? Понять, как в Русском жиле живут без царя. Так ведь малое место – не то что великая Русь. И в Русском жиле не обходятся без началовожа.
Еще многое малопонятное сказывал караульщик: про каких-то помещиков, засидевших все мирские места под себя; прогнали их вместе с царем. И купцов, или купитолистов, до листа скупивших чужую долю, тоже прогнали. Они пустились разбойничать. Главаря себе нашли смелого.
– Злой, кровожадный человек, откуда взялся… А по виду мал, меньше всех ростом. За это даже кличка ему Меншик… Не твоего ли племя?
– Звать его как? – спросил Николай Иванович.
Караульщик о том не слыхал. Невелик из себя, но удал и особенно голосист. Оттого и не могут взять – страшен, дьявол.
«…Не своими руками – кату отдай». А как совладаешь с батей?
– Где его сыскать? – хриплым голосом спросил Николай Иванович.
– Зачем он тебе? – спросил караульщик. – Или тоже в разбойники захотелось? Молчи уж о нем: фамилия нехорошая у тебя.
– Убил бы его… не своими руками, – сказал Николай Иванович.
И тут же подумал: а вдруг и неправда про купитолистов, и не столь скупые, и верить надо им, а не караульщику? Вот же батя поверил… Надо спросить у самого.
– Говорят, ушел Меншик от своих купитолистов, скрылся, к большевикам прикинулся теперь. У большевиков ищи его, если очень нужен… Золото большевикам отдал. С приисков которое ограбил… Двести пять пудов, говорят!.. Будто бы сам и отвез в Москву. До чего бесстрашный человек!
Совсем растерялся Николай Иванович. Да и кто бы осилил так много дивовидного и в столь малое время?
В Верхоянске Николай Иванович увидел первое диво: колесо. В Русском жиле хватало полозьев. Второе диво: русский хлеб, из русского зерна. В Русском жиле пекли его из рыбьей икры, а зерно последнее, привезенное пращуром из Москвы, берегли в святыньке. Третье диво: деньги серебряные и даже медные, куда получше копеечек царя Ивана – недорогие. Грамотки пестрые, мятые, одинаковые, одна в одну, и непрочные – дороже денег; самая худая – во сто раз дороже новой копейки. Обман! Хватали заместо денег. Слепые, что ли? Николай Иванович попросил все жалованье деньгами. Подивились, не хотели дать: долго считать. Заругались. Все же таки дали.
Ему давали так много денег серебряных, а еще больше медных за его ненужную, дитячью службу (дитю послать – сбегает, отнесет грамотку), что заветные моточки в копейном ящичке – дупле стали малостью после первого жалованья; после второго – и весь родительский тайный клад умалился в глазах Николай Ивановича. И таскать на себе свое жалованье стало нудно и надсадно. Притом же и люди верхоянские смеялись над его мешком. Он на это внимания не обращал. Смеялись и над копьем и над луком, мало ли…