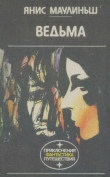Текст книги "Лоцман кембрийского моря"
Автор книги: Фёдор Пудалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 37 страниц)
– Ты, сынок, молодой и очень умный. Что же ты не учишься?.. В Серегове отец достанет тебя, говоришь? Иди в Удор, тоже соседнее село, там школа-семилетка открылась, хорошая школа. А ты остаешься неграмотным.
– Знаю, сам давно хочу учиться, – ответил Вася, потому что давно не стал думать об этом и слова коновала страшно его задели. Сказал с досадой: – Но только это не в соседстве, а довольно далеко.
– Нет, это недалеко, только надо знать тропу туда, а по тропе будет Удор в соседстве: верст триста шестьдесят или триста восемьдесят, не более, – он рассказал о просеке. Там была пешая тропа, – как только по ней спустились, дальше пойдем на север и можем считать себя в Удоре.
– Знаю, – сказал Вася, все выслушав с опущенной головой, – на этой тропе ограбили и убили очень много людей в прошлом году. Кто не слыхал!
– Это правда. Пешеходы из-за этого передвинулись на Лоптюгу.
Осенью отец взял Васю рубить лес. Они поднялись вверх по Выми, и уже всю дорогу Вася думал о просеке на Удор. И как раз возле этой просеки Игнатий остановился ночевать.
Вася сказал:
– Знаешь, отец, я остаюсь неграмотным. Мне восемнадцатый год. У меня все терпение истощилось.
Они долго спорили. Вася сказал:
– Как хочешь корми свою семью!.. Знаешь, два раза я ушел неудачно, на этот раз я тебя совсем заброшу.
Они здорово поругались, но отец знал, что Васе уйти нельзя отсюда, просека непроходима, – лег спать. Вася взял свою долю сухарей, примерно пуд; взял маленький чайник с лодки, забрал шесть или семь коробков спичек и ушел в ту просеку.
Уже лес был темный, и везде усердно семенил дождь. Игнатий не решился догонять сына – это была верная смерть от бандитов, застрявших в лесу после Латкина.
На Васе был холщовый армяк, подшитый куделью, и короткие сапоги. Весь день он шел холодной водой по набухшим болотам и обтирал ноги вечером и растирал, пока не согревались, но все-таки очень страдал от ревматизма.
Он ночевал у костра под елью каждую ночь. На речках он рубил маленькие плоты и переплавлялся. На девятый день вышел на большую реку. Оттуда поднялся километров сорок. На десятый день он пришел в Удор и прошел прямо в школу, возбужденный от нетерпения.
…Секретарь начальника Главнефти пересылал в Крым письма Сережи Лукова. Бурение шло хорошо. В конце октября углубились уже на двести двадцать метров. А в ноябре Василий получил телеграмму из Москвы:
«Бурение прекращено рабочие Полной уволены Цветаева».
В тот же день он оставил санаторий и выехал в Москву.
В купе вагона он вынул телеграмму из кармана, перечитал и нахмурился, дойдя до подписи. Он не видел Лидию с мая прошлого года, когда оставил ее на Эргежее. Меншиков заботился о том, чтобы Цветаеву держали в беспрерывных командировках, подальше от Москвы.
Василий не знал об этом. Но она и в больнице бывала, и видела его в беспамятстве. А письма ее лежали в ящике больничной тумбы нераспечатанные.
Глава 8
«ЭТОТ МАЛЬЧИШКА МУЧАЕТ МЕНЯ ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД» («ПЯТНАДЦАТЫЙ, А НЕ ТРИНАДЦАТЫЙ…»)
В кабинете заместителя наркома собралась вся коллегия.
– Я повторяю, – сказал Небель, – если даже есть жидкая нефть на Полной, то в непромышленных количествах.
Заместитель наркома с раздражением сказал:
– Довольно о Полной! Мы уже разговариваем двенадцать дней. Так же нельзя! Денег для Полной нет, ни одного рубля.
– Иван Андреевич! Если я еще не убедил вас…
Заместитель наркома схватился за голову:
– Ты перестанешь меня мучить?
– Не перестану. – Василий встал.
– Уходи отсюда.
– Не уйду!
Иван Андреевич вышел из-за стола и увидел на уровне груди подростка с Жирной реки – повзрослевшего, но глядевшего все так же исподлобья и по-прежнему с неукротимым упрямством. Он схватил мальчишку за шиворот и потащил из кабинета, приговаривая:
– Я не могу больше слышать о Полной.
Подросток был щуплый и легкий в мощной руке старика, он цеплялся ногами за стулья, члены коллегии поспешно придвигались к столу, очищая дорогу. Иван Андреевич сказал:
– Я не могу больше видеть тебя. Ты перестанешь, или я убью тебя своими руками.
– Не перестану! – крикнул маленький лоцман с Выми.
– Вон отсюда! – Иван Андреевич бросил его за дверь.
Заместитель наркома вернулся к своему месту, жалуясь:
– Подумайте! Этот мальчишка мучает меня тринадцатый год. Когда вас заставляют три раза выслушивать об одном и том же, вы уже не можете терпеть. А он нас заставил слушать о кембрии двенадцать раз в этом месяце! Я поражаюсь и не могу этому поверить! Члены коллегии, я не могу больше!.. И двенадцать раз мы ему сказали: это невозможно. Как заставить этого человека замолчать?
– Дать ему еще полтора миллиона, – сказал насмешливо кто-то.
Иван Андреевич метнул сердитый взгляд.
– Нельзя заставить меня замолчать, когда я знаю, что в кембрии лежит оборонная нефть, – сказал Василий в дверях.
– Ты еще не ушел?
– Я уйду, потому что я вижу, моих слов недостаточно.
– Слава богу, что ты это понял наконец!
– Я теперь подготовлю такой материал…
– Иди, – устало перебил Иван Андреевич. – Ты, значит, воображаешь, что мы будем еще раз слушать о кембрии?
– Иван Андреевич, вы можете не дать мне денег и отстранить меня от работы, но вы не можете не выслушать меня, когда я представлю доказательства кембрийской нефти, хотя бы пришлось показать вам живую нефть с урочища Повешенного Зайца, чтобы вас убедить.
– О да, тогда мы тебя будем слушать в тринадцатый раз. Но пока что я понял, отчего повесился Заяц на Полной. Члены коллегии, это было самоубийство, первое самоубийство на совести Васьки Зырянова.
«Если считать от Жирной реки, пятнадцатый год, а не тринадцатый я ело мучаю, – думал Вася, с сочувствием глядя на учителя. – Бедный старик действительно устал и заговаривается… Это он боится, что я приду на коллегию тринадцатый раз…»
Василий прибежал на квартиру Ивана Андреевича, где он нашел приют, и увидел Лидию. Он сдержанно поздоровался и сразу стал укладывать свои вещи. Лидия молчала и жалела, что пришла.
– Уезжаете, Василий Игнатьевич? – спросила жена Ивана Андреевича, чтобы сломить невыносимое и возмутительное его молчание, трижды невежливое.
– Уезжаю сейчас, ночным поездом.
– Куда? – спросила Лидия.
– На Полную.
– А я только вчера вернулась с Кылаах-Тогойо. Ваш прогноз блестяще подтверждается: на всем пространстве кембрия мы находим нефтепроявления, такие же, как на Полной.
Он с интересом слушал. Но простить не мог.
– Вася! А я тогда помчалась в Москву, потому что газ уходил из бутылки, необъяснимым образом, через сургуч и стекло… Ты знаешь, что я нашла…
– Простите, Лидия Максимовна, должно быть, я не успею дослушать о газе. Я бы желал узнать о нефти.
– Имеются, по крайней мере, три структуры на Эргежее, где стоит бурить. После инструментальной съемки, разумеется, – ответила она вспыхнув… и подавила обиду жалостью к этому несчастному человеку.
Василий простился с хозяйкой. Лидия в молчании поехала с ним на вокзал – он не возражал, и она думала с возродившимся гневом: «Да полно, несчастен ли он? Чувствует ли он себя несчастным?.. Это я, я чувствую себя несчастной, а он меня не пожалеет!»
В трамвае она рассказала подробности об эргежейских структурах, он внимательно слушал. На перроне вокзала она ждала прощания; надеялась на прощание. Но он протянул руку – она пожала, как товарищ. Он повернулся и пошел в вагон.
Она посмотрела вслед поезду и побежала прочь, задыхаясь от слез, поглощаемых гордостью, и шептала: «Кембрийское сердце, окаменевшее, высохшее, неживое!..»
Затем на вьюжной, темной Каланчевской площади она ожидала ночного трамвая, словно в пустыне, вымощенной булыжником, – одна на остановке, и думала о том, что Василий не найдет в Черендее знакомых людей, помогавших ему в прошлые годы. Могут даже не дать ему коня. У него нет денег. Он пойдет пешком на Полную и замерзнет. Нет, конечно, Зырянов не замерзнет…
Но коня ему дали в колхозе и дали ездового. Тем не менее пришлось идти немало пешком начиная от Алексеевки.
Глава 9
ТАК ВОТ КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ, КЕМБРИЙСКАЯ НЕФТЬ!
Лед на реке выступал в изломах и рытвинах, совершенно непроезжий на перекатах. Снега было мало. На берегу осыпи и галька, в лесу буреломы не давали проезда и мотали лошадку. На стоянках ездовой перевертывал сани и по-особенному ловко обливал полозья кипятком из котелка, намораживая ледяную полосу – гораздо удобнее железной.
Дыхание замерзало у рта и осыпалось кристалликами льда. Кристаллики сталкивались и шуршали. Ездовой со скуки прислушивался и объяснил Василию:
– Это звезды шепчут.
Но, по-видимому, звезды как собеседники были малоинтересны.
Приходилось дышать «украдкой», как писал корреспондент «Северной пчелы» в прошлом веке, потому что воздух входил через нос в горло, будто пятящийся еж!
Вечером они «надымали» высоко над снегом надью из двух стволов, надрубленных вдоль часто и обращенных зарубками взаимно вовнутрь, с небольшим зазором. Огонь пускали с конца надьи по зарубкам в зазоре и ложились под надьей по обе стороны, и жар широким покровом сверху закрывал их от мороза. А когда надья прогорала, мороз будил их, и они ехали или шли дальше.
Подветренный бок у лошади покрылся толстым слоем крупяного льда. Ветер был от Полной, слабый, но и от такого было худо.
Приходилось берегом и лесом объезжать непроходимый участок реки. Они подошли к аласу, полному снега. Ездовой остановил коня и пошел по аласу, почти утонув в сухой и рыхлой белизне. Он шарил руками и вдруг вытащил глухаря, пошарил другой рукой и вытащил второго. Глухари были живые и отбивались огромными крыльями.
– У тебя здесь кладовая?
– Нет, какая тут кладовая, – серьезно ответил парень. – Они тут греются от мороза. Я вижу по ямкам, где они есть. – Он нашарил и вытащил третью птицу, килограммов на восемь, вяло отбивавшуюся.
Василий знал такую охоту на глухарей. Птицы изредка выскакивают из снега, взлетают на деревья, быстро поклюют шишку и с самой вершины лиственницы кидаются вниз, тяжелые крылья сложат, чтобы поглубже уйти в снег.
– На аласе нет сторожа, – сказал ездовой. – Неужели замерз? А то у них сторож. Голову выставит из снега и сторожит.
К жилому дому подошли на восьмой день. Еще нельзя было за деревьями увидеть буровую вышку, а низкий сруб дома, погребенный снегом, наверно, не сразу поймешь – раньше наступишь на него. Но дымный столб мог бы уже показаться – единственный растущий ствол над замороженным лесом. В Черендее известно было, что дом обитаем на урочище Повешенного Зайца, люди не ушли… А может быть?.. Кто знает! Известия с Полной – от охотников, не частые, случайные.
В страстном нетерпении Василий толкался в кошевочке, тесня ездового из стороны в сторону, чтобы обогнуть взглядом досадное дерево на дороге впереди. Казалось, вот за этим, вот уже одно это дерево загораживает… Неужели нет дыма?.. Он готов был выскочить из кошевки, обогнать лошадку – да снег не обгонишь.
Где же этот Повешенный или заколдованный Заяц?.. Непробудимое тайное молчание в завороженной тайге. Только шорох широких полозьев, с которых стерся лед. И лошадка трудно перебирает копытом белое время – за ногою нога гребет сухой снег секунду за секундой до темноты в лошадиных глазах; ничего больше не желает лошадка, потому что не ждет кембрийской нефти.
Не может быть! Сережа Луков не мог уйти. Бакинцы не могли уйти!.. Мамед Мухамедов… Это неважно, что не получали зарплаты полгода…
Но если уволены? Если работы прекращены приказом, запрещены… Если получили приказ ехать на другую работу, где уже их ждут, где уже план составлен на них?.. Вторая пятилетка! Советская рабочая дисциплина… Впрочем, до лета им отсюда не выбраться.
«Э! Э! Да ведь Савва здесь, личный доверенный!.. Бродяга он и никакой рабочий, никакой дисциплины он не восчувствовал, его не проймет ничей приказ».
Впрочем, коллектив с ним справится. Один всех не остановит. Но один может и остаться, если даже все уйдут… И этот последний вывод доставил Зырянову, кроме печали, противоречивое удовлетворение. Потому что над лесом поднимался великолепный белый дымок от кедровых дров, своевременно заготовленных и отлично высушенных за лето.
Вышка буровой была тщательно обтянута брезентом и побелена снегом.
Взволнованным Василий вошел в темный коридор и толкнул первую дверь. За столом у окна сидел Сережа Луков и читал газету. Сережа вскочил и сейчас же сдержал порыв, по подошел и начал помогать Зырянову раздеться.
– Здравствуйте, Василий Игнатьевич!
В комнату вошел буровой мастер, и, оттесняя его, в двери протолкнулся Кулаков. За ним проскользнул чернявый мальчик.
– Владик! Ты в буровой бригаде?
– Я за якутскую нефть! – убежденно сказал Владик.
Вошел еще кто-то. Зырянов не успел полоть ни одной руки – в комнату ворвался морозный вихрь с белой, в инее, бородой, выхватил Зырянова и, выжимая дух из него, поднимая на воздух, троекратно почмокал в обе щеки. Почти бездыханный Зырянов осмотрелся помутившимися глазами и бодро выговорил:
– Бесплатно зимуете, энтузиасты?
Савва умиленно разглядывал друга и вытирал слезинку с мороза.
– Заплатят, – уверенно сказал мастер, – не первый раз. Мы здесь привыкли. А вот и вы приехали. Значит, все в порядке.
– Что же в порядке? Бурение прекратили?
Мастер помялся.
– Кормиться необходимо, Василий Игнатьевич. Промышляем, на это весь день уходит. День темный здесь, не бакинский день… Похож на ночь.
– Так что вы уже промышленники, не бурильщики. Летом тоже кушать надо будет. Шкурку продадите, запас к зиме завезете.
– Понять вас так, что бросила нас Москва?
– При чем Москва! В наркомате опять взяли верх мои противники. Я болел, они уговорили наркома, что нефти нет на Полной.
Бурильщики молчали. Василий и ездовой грелись у печки, Сережа готовил еду.
– Однако есть она? – вкрадчиво, почти робко спросил Кулаков.
– Я за ней приехал. Немножко нефти мне дайте. Хоть пол-литра в день для почина, чтобы я поставил пол-литра на стол паркому. С этикеткой: «Кембрийская нефть, из месторождения у Повешенного Зайца». И летом у вас тут будет черный городок.
Кулаков радостно улыбнулся мечте.
Бурильщики молчали. Они сомневались. Они все-таки не привыкли работать, как старатели-золотоискатели, за свой страх.
– Шлифы есть? – спросил Василий.
– Покушайте сначала!
– Потом.
– Там мороз сейчас… Давно не топили, – сказал Серело.
– Ничего, я выдержу.
В красном уголке были аккуратно уложены в плоских квадратных ящиках, в узких желобках небольшие круглые столбики по четыре-пять сантиметров, вырезанные буровой трубой в породах и поднятые из скважины; взятые с каждого метра проходки образцы от каждого миллиона лет. Василий с нетерпением перебирал их, как бы спускаясь по скважине в глубь кембрийских слоев, безбоязненно удаляясь в устрашающую бездну времен. Сережа Луков и Савва снимали ящик за ящиком – слой за слоем, десятками метров снимали земную кору перед глазами и раскрывали структуру. В глубине структуры лежали известняки – доломитизированные, трещиноватые, битуминозные, дырчатые, красные, с примесью гипса и так далее. На глубине 88-го метра появился в трещинах шлифа полужидкий асфальт. У Зырянова дрожали руки.
Еще несколькими метрами ниже известняк имел запах сероводорода, – это было отмечено в дневниках проходки, а в шлифах газ уже выветрился.
В известняках 100-го метра появилась густая черная нефть.
Василий волновался все более с каждым шлифом и хватал столбики один за другим. Опять сухие и чистые известняки. На 109-м метре в плотном известняке – капельки жидкой нефти.
Бурильщики стояли вокруг в строжайшем молчании.
Не мигая они следили за священнодействием. В дрожащих пальцах Зырянов раздавил драгоценную капельку и осторожно развел пальцы. Его ли глазам не верить! Он смотрел на свет меж пальцев и видел тонкую светло-коричневую нить. Ему ли не верить своим глазам! Василий нервно рассмеялся. Да…
– Так вот как она выглядит, кембрийская нефть, друзья!.. Жидкая, живая, настоящая обыкновенная нефть. Мы первые ее увидели…
Ехать! Немедленно на телеграф. Теперь-то Иван Андреевич даст деньги.
Василий схватил другой шлиф. Третий шлиф, четвертый, пятый, десятый… Но ведь нефти еще нет – вот они прошли после капельки еще одиннадцать метров. Капелька была, да, первая капелька, но нефти нет.
Всего одна капелька, вот в чем дело. Но какая огромная принципиальная победа! Какая радость для академика Ивана Андреевича!
Нет, заместителю наркома Ивану Андреевичу ни к чему эта капелька. Заместитель наркома – не директор института; это уже не тот Иван Андреевич. И не тот, который сидит в Академии, – а тот, который сидит в наркомате. Там он ждет от меня не капли для науки, а большую нефть для социалистической промышленности.
Василий положил шлифы на их место в ящике и взял следующие: известняки слабобитуминозные; известняки с редкими порами; известняки плотные; пройдено 120 метров.
Никаких следов нефти. Конечно, его это не пугает нисколько.
Вот, пожалуйста: в шлифе 121-го метра – ого! – целые каверны, полные жидкой нефти.
Тут в шлифах наберется полстакана нефти – достаточно для победы на коллегии у замнаркома. Василий небрежно отложил этот шлиф и взял следующий. Полстакана жидкой кембрийской нефти – чепуха. Это и не промышленная нефть, и уже не победоносная первая, принципиальная капелька.
На глубине 185,2 метра трещины известняка были заполнены жидкой нефтью. Он быстро пересмотрел остальные шлифы. Теперь ему нужна была струя, непрерывно поступающая струя жидкой нефти.
Глава 10
«ИДЕШЬ ПОД СУД, ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ?» – «ИДУ»
– Откуда у вас тут газеты? – спросил Василий.
– А это… – Сережа переложил лист так, чтобы можно было увидеть название: «За Третье Баку». – Лихо? «Орган Черендеевского сельсовета и парткома». На русском и на якутском языках сразу.
– В Черендее разве есть типография?
– Летом привезли ручной станок. И одного наборщика, он же и печатник.
– Вот это Черендей! Таежная глушь!
В комнате Сережи собиралось все население урочища Повешенного Зайца. Василий читал им лекции о кембрии, о нефти, о структурах на Полной. Через две недели мастер Мамед Мухамедов спросил:
– Как же бурить при таком морозе?
– Мороз к вам не имеет отношения. Он захватил всего полметра с поверхности, а вы прошли за лето сто семьдесят метров в мерзлоте, сквозь вечный мороз.
– Летом ни на минуту нельзя было остановить бурение, – сказал мастер. – Чуть остановили – прихватило и заморозило. Перегретым кипятком отогревали трубы.
Василий спал поздно. Он отсыпался за всю жизнь.
Он проснулся от особенного шума и поспешно оделся.
Бурильщики раздели вышку из брезента, чтобы работать на свету, и разогрели котел. В скважину пошла перегретая вода.
Труба медленно повернулась. С этого момента ее нельзя было остановить ни на секунду. Секунды достаточно было, чтобы мерзлота приковала трубу на протяжении ста семидесяти метров.
Бурильщики стояли под вышкой очень довольные. Мастер громко сказал:
– Василий Игнатьевич, теперь скажи твердо – и пусть все услышат: до каких пор бурить?
– На триста семидесятом метре будет нефть, – сказал Василий с приказательной уверенностью гипнотизера.
– Василий Игнатьевич, зачем так говоришь? – грустно сказал Мамед Мухамедов. – А если на триста семьдесят первом?
– Если не получите на подошве, триста семидесятого метра, имеете право прекратить бурение, вот для чего я говорю. Но до трехсот семидесяти держитесь, вот о чем я прошу.
– Условились, – сказал мастер и, занялся трубой.
Василий выехал в Черендей.
Он приближался к поселку в темноте, вздремнул и вдруг закричал ездовому:
– Придержи коня!.. Куда ты заехал?
– В Черендей, – ответил колхозник.
– Какой тут Черендей! Что ты, не видишь – электричество горит.
На берегу сиял фонарь на высокой мачте и тепло желтели окна в длинном ряду домов.
– Вижу. Черендей и есть, – сказал колхозник и погнал коня, торопясь к свету. – А ты думал?.. Будет и у нас Москва!
Василий отправил телеграмму в наркомат:
«Бурение возобновлено трещинах известняка жидкая нефть прошу подкрепить деньгами 160 тысяч».
Он почти не уходил из почтово-телеграфного отделения. Три дня спустя он послал вторичную телеграмму.
Телеграфист Илья рассказывал ему о новостройках Черендея:
– Вы видели три новых, лучших дома за клубом? Это больница, типография с редакцией и электростанция. Зайдите непременно, посмотрите. Особенно больница внутри красивая: белая, масляная, как на «Якуте» салон!
На почте были клиенты, когда Илья принял ответ Зырянову из Москвы. Илья не подал виду, пока не ушли все. Тогда он, не глядя, протянул Зырянову кусочек ленты.
– Василий Андреевич, – сказал Илья за его спиной, – я еще не пользовался отпуском в нынешнем году. Я могу взять отпуск и поехать на Полную. Кулаков тоже останется с вами, и мы добурим до нефти.
– Мы не умеем, Илья. Это специальность.
– Но ведь люди, они тоже, я думаю, не сдадутся?
– Так-то так, Илья… А все же – люди…
– Тогда, Василий Игнатьевич, не говорите им про телеграмму, – решительно сказал Илья. – Я бы на вашем месте сказал им: деньги обещаны.
– Разве так можно, Илья?.. Обманывать рабочих?
– Пять человек обманете – все же лучше, нежели весь Черендей.
Василий покраснел и побледнел. Молча протянул руку. Илья крепко сжал ее.
На урочище Повешенного Зайца бурильщики небрежно поздоровались с Зыряновым и продолжали свое дело – в этом и выразился их напряженный интерес к новостям из Москвы.
– Сколько метров? – спросил Василий.
– Триста.
Василий побежал в красный уголок.
Вот в ящиках новые шлифы, начиная с 221-го метра: известняки с битуминозным запахом; мергель; с 226-го метра – известняки и жидкая нефть по трещинам.
Снова чистые известняки, доломиты, мергель, слабый битуминозный запах; известняки без малейшего следа нефти; 300-й метр.
Василий вернулся под вышку. Бурильщики поднимали трубы из скважины, подняли инструмент, выбили столбик породы – шлифы с 301-го метра.
Зырянов лихорадочно подхватывал обломки столбика. Мастер, будто бы не взглянув, подал Зырянову последний обломок. Кремнистый известняк, чистый, даже не запачканный нефтью.
– Товарищи, завтра я уезжаю в Москву. Я получил телеграмму. – Снежинка залетела ему в рот. Василий откашлялся и твердо, ясно сказал: – Деньги отпущены. Я должен выехать, чтобы ускорить их получение. Я вас прошу посылать мне телеграммы о ходе бурения. Первую телеграмму отошлите через пятнадцать дней в Томмот. Следующую – через десять дней в Иркутск. Потом в Москву. Сережа, тебя прошу: сделайся курьером на месяц и летай между Повешенным Зайцем и Черендеем.
– Я отвечаю за телеграммы, – сказал Сережа.
– Товарищи!..
Такое волнение послышалось в голосе Зырянова, что все внутренне придвинулись к нему.
– Помните о том, что вы не просто бурите скважину на неизвестную нефть, которая лежит именно здесь… Ни на одну минуту не забывайте главного: что вы разбуриваете большую дорогу в богатейшие и еще не открытые недра всей нашей земли. На этой дороге вы – первопроходцы, и чем труднее вам, тем больше вам препятствуют, хватают за ноги и за горло хватают… Но вы пробиваете путь в будущее советской нефтяной геологии!
Зырянов протянул руку и шагнул, но не успел подойти – бурильщики быстро окружили его и молча, крепко пожали ему руку один за другим.
Через семь дней Василий был в Черендее. Еще через восемь он вошел в почтово-телеграфное отделение в Томмоте и получил телеграмму до востребования. Телеграмма состояла из двух подписей – бурового мастера и Лукова – и одной цифры перед ними: 365.
В Иркутске Василий соскочил с подножки вагона, увидев на углу вокзального здания маленькую вывеску: «Телеграф», и получил вторую телеграмму: «370 Мухамедов Луков». Все.
Последние копейки ли иссякли на урочище Повешенного Зайца, что они не прибавили еще два слова: «Прекратили бурить», или кредит веры у Ильи закрылся, или просто из пренебрежения к Зырянову, – неважно.
Неделю спустя Василий в задумчивости стоял перед горестным памятником в головах Гоголевского бульвара и вслух беседовал с Гоголем, бронзовой тяжестью засевшим в кресле:
– Так-то, Николай Васильевич… Деньги народные истратил, нефти не дал. Рабочих обманул… «Идешь под суд, Василий Игнатьевич?» – «Иду».
Зырянов пошел дальше улицей Фрунзе и через центр – к площади Ногина.