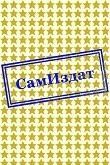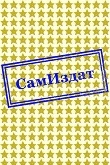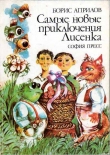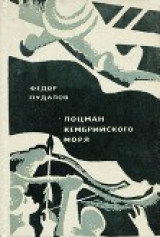
Текст книги "Лоцман кембрийского моря"
Автор книги: Фёдор Пудалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 37 страниц)
Зырянов схватил веточку и дорисовал:
ПРОВОДИ В ЖИЗНЬ…
Он быстро стер.
– Этот узор зарисован в моем мозгу на всю жизнь. Должно быть, муравьиной кислотой втравился… Дальше строки потекли непрерывно, с листочка на листочек. С листочков – углем на березы, по лесу дальше и дальше. Все лето. Бесконечно!.. А смысл этих линий скрывался, как в воду! Как смысл геологических слоев – узора линий в берегах под урезом воды на Выми и на других реках… Я видел береговой узор грамоты, а под урезом таились в книге неизведанные тайны мыслей.
Сеня отвернулся и закусил губу. Он смотрел на шурфы, которые совсем не подвигались к горе. Потом вскочил, и все ребята поднялись за ним. Зырянов, не глядя на них, сказал:
– Я научился отлично писать. Конечно, печатными буквами. Но прошло еще три года, прежде чем удалось узнать смысл этих значков.
– Василий Игнатьевич, – нетерпеливо сказал Сеня, – по вашему плану, когда мы с вами подойдем к горе?
– Вы со мной не подойдете к горе.
– Почему? – спросил Женя.
– Потому что гора не подойдет к вам.
Сеня медленно, сопротивляясь, покраснел. Отвернулся и, чтобы скрыть, пошел к шурфам. Но товарищи заметили. Пошли за ним.
Глава 13
ЖИВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДОСТОСЛАВНЫХ ПРЕДКОВ
Перед вечером подошла из-за мыса лодка Николая Ивановича Меншика.
Пинеженин неслышной своей походкой подошел к костру, а Тихон Егорович следовал за ним, усмехаясь.
Пинеженин молча снял свой древний колпак. Он удерживал в одной руке заступ и преогромнейшее копье, превышавшее его рост почти вдвое. За плечом висел лук, не превосходивший его роста, и колчан стрел сбоку. Василий с детским любопытством не сводил глаз с Николая Ивановича. Он испытывал невольное почтение к живому представителю достославных предков.
Ребята встретили его весело.
– Запоздали ради сих вещей, – Черемных осторожно вынул из карманов обломки пород. – Николай Иванович изрядно поработал.
– Вот спасибо!.. Ну, после ведерка пшенной кашки послушаем твою сказку дальше, Николай Иванович!
– Неужели вам интересны эти сказки? – спросил Сеня нарочито, как всегда.
– Очень интересны, – сказал Зырянов. – Может быть, сказка отражает историческую действительность. Представь только, что русские открыли Северный морской путь в шестнадцатом веке! И устроили сильную колонию на дальнем востоке Азии задолго до Ермака! К тому же мирным путем, если верить товарищу Меншику. Необычайно интересно!
– Мне верь, – успокоительно отозвался Меншик.
– Расскажите подробнее об этом, Николай Иванович.
– Зря вы сунулись к нам, папаша. Жалею я вас, – начал Сеня после ужина.
– Пошто? – спросил пинеженя озабоченно.
– Мы сами думали: курорт. Оказалось – никуда не годное меню. Скоро месяц, как мы не видели драмы.
Пинеженя внимательно слушал, озадаченный странными звуками как будто русской речи.
– Я не говорю также о культурных развлечениях, потому что не знаю, известно ли вам, что это такое: развлечения?
– Такое слово не пойму, – сказал Николай Иванович.
Пинеженя вглядывался в собеседников, и семь человек один за другим опустили глаза перед его прямым взглядом.
– Неславно пришлось вам, как только вы живы, – сказал древнерусский человек, и никто не решился угадать: всерьез или смеялся над ними. – А мы сызмальства привыкли обходиться, нам ничего. Слаще сахару ничего не ведаем.
– Ага, – сказал Тихон Егорович, – сахар все-таки есть у вас.
– В Русском Устье кто достал кусочек за большие деньги, то уж к нему все шли посмотреть и лизнуть. А он не всем давал. Слизнете, скажет, самому посмотреть не останется. Старому-то уж даст: старый лизнет – ему и помереть можно, сахар едал.
Все молчали, Сеня перестал зубоскалить.
– Торговый человек один сказал в Русском Устье: из человеческих и собачьих костей варят сахар.
Все молчали. Тихон Егорович вздохнул.
Пинеженя былинно повествовал:
– В Русском Устье пробовали из одних собачьих. Не сварился сахар. Велика Русь, – сказал он, заметив, что над ним смеются.
– Очень велика. Но вы, Николай Иваныч, не умаляйте себя, – сказал Василий почтительно. – Вы человек старинный – дорогой. В старом золоте меньше олова. Сказывайте вашу сказку.
– Ты верь, – убедительно сказал Николай Иванович, обратившись к Зырянову, – я говорю не мою сказку: от наших прадедов наследство. Прадеды получили верные сказки от до́сельных людей и нам вычитали слово в слово. Сказки наши писаны на берестах, рукою самого Тарутина Первова, а потом сына его Агафангела и правнуков, до Агафангела, отца Семена и прадеда Сени, вот этого. Ты, Агафангелов Семен, вернись в Русское жило́! Надо Сказку починить и продолжать.
– Почему вы называете «Русское жило», а не «Русское Устье»? – спросил Женя.
– Русское жило – это старое название Русского Устья, – сказал Зырянов.
– В Русском Устье начали службы справлять и сами вовсе чтение утратили. Какие были у них сказки, по безнадобности пожгли.
– Пожгли? – закричал Сеня.
– Почитать не умели, а топлива не хватает, – сказал пинеженя.
– Историю России пожгли! – сказал Сеня.
– А вы помните, что было в сказках? Вы их читали? – спросил Василий.
– На берестах писали, вот это старина! Мне бы почитать, – сказал Сеня. Он был смущен и обеспокоен и старался скрыть это. – Вы ведь тоже писали на берестах, Василий Игнатьевич.
– Ты бы ни слова не разобрал, чудак, – сказал Зырянов, – там письмо шестнадцатого века, хитрое.
– Хитрое, – подтвердил Николай Иванович.
– Значит, ты видел?
– Видел.
– В церковных книгах видел?
– Этого нет у нас.
Черемных подошел поближе.
– Церковных книг у вас нет? – сказал он. – Вот так сказка! Без книг все службы правят?.. Изустно, как вот ты сказку сказываешь?
– Не служат, – миролюбиво сказал Николай Иванович.
– Не служат службы? – сурово и строго сказал Черемных. – За что же попу деньги платите?
– Нет попа у нас, – совсем кротко сказал Николай Иванович.
– Зачем же церковь у вас? – гневно спросил Черемных.
– И церкви нет. В Сказке написано, что была когда-то.
Черемных, негодуя, пошел мыть ведро. Он заметил, что ребята «скалят зубы».
– В каких же ты книгах видел старое письмо? – спросил Зырянов.
– В книгах не видел, а только на берестах, – сказал Меншик.
Зырянов удивился:
– В самом деле существуют эти бересты?.. И древним письмом писаны? Да они бы рассыпались за четыреста лет! Труха осталась от берестяной летописи, если такая была…
– А вот сберегли же, – с гордостью сказал Меншик.
– Тебе ученый человек, студент, говорит русским языком, пойми! – сердито заговорил Черемных, укрепив над костром чистое ведро с водой для утренней каши. – Не может существовать твоя летопись: место у вас сырое, бересты почернели.
– Береста воду любит, – с видом согласия и одобрения сказал Николай Иванович.
– «Береста воду любит»! – передразнил Черемных. – А чернила смылись? Ничего нет?..
– Тарутины умели писать без краски, – сказал Меншик.
– Опять сказка! Уж ты скажи, что без пера писали.
Николай Иванович подтвердил и это.
– Хо-хо! – Черемных злорадно смеялся. – И много он написал таким действием? Избу доверху набил чистой берестой? Такая библиотека – на растопку!
Меншик поднял глаза на бригадира с неожиданным вниманием.
– Берестяную Сказку спалить? – спросил он с каким-то устрашающим любопытством. – За это тебя самого бы!
– За это меня бы спалили в Русском жиле? – усмехнулся Черемных.
– Не за это, – сказал Меншик, не отнимая любопытных глаз от бригадира, – на это у тебя зубов не хватит. Да и скажу тебе, что Сказка наша неопалимая. А надо бы тебя скоптить на берестяном пламени за слово твое неслыханное. Потому – замах хуже удара, это и у вас говорят.
На это Черемных не нашелся что возразить и, смущенный, пошел прочь.
Николай Иванович не спеша заговорил:
– Я не читал Берестяную Сказку и пальчиком не коснулся. А только видел своими глазами.
Сеня опять перебил:
– Почему она неопалимая?
– Неопалимая – потому что мокрая береста не горит… Тогда малый я был. Дед и другие старики принесли Сказку в дом, откуда – не видел, спал я. Еще солнце только взошло; оно у нас поздно восходит.
Гневный взгляд Зырянова перенял Сенин вопрос и остановил его.
– Связки сложили на холодной, чистой половине. Много! Стали разбирать с хорошею молитвою и добрым словом поминали добрых вестников, предков Тарутиных, повестивших нам Берестяною Сказкою обо всех делах, что надо знать. Тарутина Первова, москвитина, его детей, внуков, потом и Аникеюшку-мученика из их же рода, и всех предков летописателеи подряд благодарили и детям велели поминать и в старости завещать своим детям память и благодарность за Сказку.
Дед велел мне смотреть бересты. Я еще грамоты не знал. Дед сказал: «Ондрей Тарутин памятью ослаб и глазами остарел. Внука Семена услал в Мир. Сыну Агафангелу велел отпустить Семена. И нас лишил его памяти, у Семена в памяти вся была Сказка. А Сказку читать не все способны: достойных мало родится, и некому Сказку продержать. Грамоти узнаешь – будешь всю Сказку великую сам читать».
А я, малец, глянул: ух, велика Сказка!.. Выше моей головы сложены связки. Дед посмеялся: «И про нашу жизнь будешь писать новую Сказку. А пока неграмотен – будь памятен, я тебе вычитаю все, что было до нас. Очень нужно[5]5
Нужно… – Словарь Даля посвящает три столбца этому слову. Деду вовсе не «надо» помирать – ему принуждение, и тяжко терпеть эту нудь.
[Закрыть], – сказал, – помирать; и сперва вычитаю вам».
– Слушать не стоит, что он говорит. Сказка, – сказал Черемных, – да и нескладная: будто бы Ермак Тимофеевич – не первый завоеватель Сибири! Какие-то пинежане забежали дорогу морем. Как это так?
– Вот и узнаем от Николая Ивановича, как это так.
На этот раз Меншик обиделся на грубость Черемных и сказал:
– Спать вам пора.
Глава 14
ПИСЬМО № 1, ТЕМА № 2 И ВКРАТЦЕ О ТЕМЕ № 1
Москва, Геологический институт, Л. М. Цветаевой.
На берегу Байкала, 17 июля 1932.
Дорогая Ли,
Может быть, Вы уже в Москве?
Если нет, пусть встретит Вас мое письмо из таежной глуши, когда я сам не успею.
Да и лучше: меня самого вы бы не узнали. В краю медведей я стал медведем: оброс необычайно. На весь Байкал нет ни одного парикмахера, которому я бы доверил свою голову.
Тем не менее я рад, что съездил на Байкал. Поездка оказалась нелегкая, но интересная. Я много купался в ледяном Байкале и съел массу замечательной сметаны, более похожей на пушистое сливочное масло: она такая плотная, что ее можно резать ножом и накладывать ломтями на хлеб. Сибирские пельмени в такой сметане – роскошь. Ради этого стоило съездить в Сибирь. Но я желаю отныне иметь сибирские пельмени на моем столе.
И я добьюсь! У меня будет в Москве настоящая сибирская пельменщица.
Но Вы скажете, что она внесет в мой дом вместе с сибирскими пельменями и сибирскую грязь? Нет, это будет соединение сибирских пельменей с немецкой опрятностью!
Представьте, я нашел здесь немецких колонистов – и даю Вам слово, я уговорил их выслать мне в Москву одного из женских членов семьи по первому требованию – как только я женюсь, разумеется.
Уговор такой: зиму Гретхен проводит в Москве у нас, а летом, когда мы с женой в поездке, Гретхен возвращается в свою сибирскую Германию.
Последнее выражение – не в шутку: на Байкале я увидел, что каждый немецкий дом – это Великая Германия, даже в тайге.
Кстати, в этой Германии из трех комнат и огорода с садом, разумеется с коровой и посевами, я познакомился с наиболее классическим сибирским типом. Этот тип побил меня на сто пельменей! Вы, вероятно, не поняли: он один съел на сто пельменей больше меня!
Вы еще не все поняли: ведь я съел пятьдесят пельменей!!
А этот тип съел сто пятьдесят!!!
И запил литром самогона-первача. То есть семидесятиградусным спиртом.
Вот Вы представьте себе Ермака Тимофеевича или его первого друга Ивана Кольцо, с грудью колесом, к сожалению бритого и в современном костюме. Такой может съесть сто пятьдесят пельменей и выпить одни литр спирта. Я счастлив, что мне удалось это видеть собственными глазами. Я описываю это подробно в своих записках.
Сибиряк этот квартировал у немцев, но ходил кушать пельмени и пить самогон у коренных сибиряков. Уезжая, он порекомендовал мне занять его комнату у немцев и порекомендовал меня им.
Он встретил меня и Порожина у профессора Осмина и потащил всех есть пельмени. Съев сто пятьдесят штук и выпив один литр, он начал петь церковные гимны, может быть старообрядческие (кто-то сказал). Но как он пел! Под окнами избы собралась на улице толпа.
По-моему, все-таки он был пьян. Расхвастался, будто бы пожертвовал «большевикам» двадцать пять пудов золота, найденные в таежном тайнике.
Бабы на улице плакали, слушая его божественные гимны. Хозяйка избы раскрыла настежь окна, чтобы дать выход звукам или, лучше сказать, раскатам его голоса и дать облегчение нашим ушам.
Я уверяю Вас – Шаляпин мог бы только подпевать этому голосу. Нет, не мог бы: Шаляпина не было бы слышно.
Когда этот голос вырвался наружу, толпа отшатнулась от окон. Я не выдержал и вышел на улицу. Профессор Осмин тоже вышел – немедленно Сергей Иванович вышел вслед за нами. Мне показалось, что он возбудился своим собственным пением еще больше, чем самогоном, и, выйдя на улицу, он возгремел таким фантастическим гласом, что его должны были услышать на другом берегу Байкала.
И мне захотелось, чтобы Вы тоже услышали его. Я спросил его – позднее, конечно, – где он работает и живет постоянно. Сергей Иванович ответил довольно общо: «В Главзолоте». Профессор Осмин не знал о нем ничего больше.
Но что я наделал?! Я написал Вам письмо № 2! И не осталось времени написать письмо № 1! Как это могло случиться со мной? Коротко обрисую все же тему № 1: она более актуальна. Я хотел рассказать Вам совсем о другом типе. В экспедиции Осмина работает практикантом некий второкурсник из Москвы, по некоторым признакам – земляк Ломоносова и на этом основании или на другом – самонадеянный больше, чем мог быть сам Ломоносов.
Экспедиция профессора Осмина ищет, как Вам известно, то, чего нет: месторождение байкальской нефти… Заурядный случай в геологии нефти, когда всё на поверхности и нет ничего в недрах… Таково мое личное мнение, и так думают некоторые работники самой экспедиции. Называть их не стоит. Их частное мнение не мешает им добросовестно искать несуществующее месторождение по всем правилам науки. Я утверждаю: они добросовестно ищут.
Беретесь ли Вы осудить их за то, что они добросовестно ищут? Или за то, что не верят в успех своих поисков?
Если бы им предоставили искать там, где они верили бы в искомое, их добросовестность не увеличилась бы. Прибавилось бы только желание найти. Это я допускаю. Но вы понимаете, что невозможно устроить столько экспедиций, сколько имеется стремлений у геологов.
Вот об этом я и хотел Вам рассказать подробно и очень жалею, что приходится отложить до следующего письма эту тему, с которой, несомненно, и мы с Вами столкнемся в ближайшие годы. Практикант у Осмина ведет себя так, как если бы он был путеводной звездой экспедиции, да и собственная его карьера целиком зависела бы от удачи этой экспедиции, и вообще он – единственное заинтересованное лицо, и вся проблема байкальской нефти впервые ставится на ноги по его личной инициативе. По-моему, этот студент – знаменательная ласточка.
Мы тут говорили о нем. Я высказал мысль, что его горячность – вовсе не от науки, а от земли. Это – крестьянская жадность и крестьянское страшное трудолюбие (буквально – страшное, если представить себе, к чему оно приложено). По всей вероятности, он воображает, что наука была для него завоевана заодно с землей в гражданской войне и ему, как всем безземельным и безграмотным, отрезали по куску того и другого, а потом национализировали и обобществили то и другое и отдали под его руководство. Признайте, что неплохо я сострил!
Из экспедиции он устраивает страду. За неимением трактора он сам работает, как трактор, и пашет, и перепахивает берега Байкала заступом… Вот такие старательные вырастали в кулаков.
И он надеется, по своим трудам, собрать урожай байкальской нефти сам-сто к пролитому поту – и сразу разбогатеть.
Всегда Ваш рыцарь и вассал – Б… Н…
Глава 15
КАКОЕ-ТО НОВОЕ БАЛОВСТВО
Незадолго до наступления обеденного часа Сеня поднялся наверх с помощью таскальщика. Над соседним шурфом Ваня баловался веревкой. Безработное ведро откатилось в сторону. Сеня подошел.
– Кто там? – закричал Женя из ямы.
– Крепишь, шахтер? Трудно, говоришь?
– Креплю, хозяин! Понимаешь, стенки вываливаются. Но – полтора метра есть. И думаю, до обеда хватит. А у тебя?
Женя выскочил из шурфа.
– У меня тоже… три метра.
Сеня лениво подошел к шурфу номер четыре, Ваниному, посмотрел и ушел.
– Три метра – целый колодец выкопал! – сказал Женя с упреком.
Ваня бросил веревку.
– Три метра с утра, – отозвался Сеня на ходу. – Дошел до воды. Начинаю новый шурф – номер десять. Седьмой, восьмой, девятый номера оставляю вам. Отстаете, работнички!
– Заливаешь.
– Ладно.
Женя догнал его и заглянул с удивлением в похудевшее лицо приятеля:
– В самом деле?.. Зачем жмешь, Сеня?
– Скучно, – сказал Сеня, искусно зевая.
– Не пройти три с креплением, – сказал Ваня.
– Вы правы, уважаемый, первый раз в жизни.
«Он не может сделать столько за целый день, куда ему», – думал Женя.
Сеня остановился у колышка номер десять и выдернул его. Сергей начал копать.
– Что с ним, как ты думаешь? – по-якутски спросил Женя.
Ваня заглянул в шестой шурф, законченный Сеней.
– Ну? – нетерпеливо спросил Женя.
– Без, – ответил Ваня по-русски с удовлетворением.
– Кто бес? – спросил Андрей с интересом.
– Крепления, – кротко ответил Ваня.
– Сеня без крепления работает?.. Ну и завалится, – сказал Женя и сердито добавил, спускаясь в свою ямку: – Все равно Зырянов запретит.
– А Сеня плевал, – неожиданно разговорился Ваня.
Он оглянулся на Зырянова. Начальник в это время поднял голову и опять склонился над тетрадью.
Сеня видел, как оглянулся Зырянов и обратно уткнулся в записную книжку и в костер, вместо того чтобы заорать по-обычному.
Сеня оставил Сергея одного копать десятый шурф, пока можно выбрасывать с лопаты на поверхность, и сам начал четырнадцатый номер, оставляя опять три младших номера для Жени и Вани. Каждый старший номер предстояло копать глубже предыдущего.
Сеня мог бы сейчас взять себе очередные незанятые номера – седьмой и восьмой – и оттеснить отставших товарищей на дальние, более трудные. Это было бы справедливо: раз принято решение двинуть работу до горы, надо работать честно, всерьез и не валять дурака. Начали работать не для начальства – для себя.
Но все равно товарищи были бы разочарованы и слегка обижены и вдруг да и не стали бы тягаться и догонять Сеню, а вовсе заленились бы, что гораздо легче. Сенин авторитет у них тоже не из железа. Черемных правильно, в общем, говорит: «Молодой дружок – вешний ледок: враз подломится».
Сеня копал энергично и с частыми передышками. Отдыхая, он смотрел в сторону лагеря и громогласно разговаривал. Трудно было разглядеть на расстоянии километра, что делала маленькая фигурка в лагере у костра. Однако Сеня обращался именно к ней с речью:
– Вы заперлись в кабинете, Василий Игнатьевич, на строительную площадку ни ногой? Впрочем, я и забыл, что сегодня воскресенье… Приходится за вас обходить шурфы инициативному рабочему, болеющему за производство. Посмотрим, не будет ли больше толку, раз в жизни… – честолюбиво мечтал Сеня. – Вы же не знаете ваши кадры, товарищ Зырянов! Это же золотые самородки.
Начальник не слышал и не смотрел в его сторону.
Черемных ударил в железный лист – к обеду.
Бригадир молча роздал кашу. Бригада быстро поела и после недолгого отдыха в молчании отправилась по шурфам.
Василий наблюдал, не поднимая глаз. Обыкновенно никто не трогался с места, пока не вставал Сеня. Сегодня он валялся у костра, пока все не ушли. Тогда Сеня потянулся лениво, ленивее, чем всегда, и побрел к шурфам. Обошел чужие шурфы – четвертый и пятый, потом пошел к десятому номеру. Невероятно, чтобы он уже закончил свой шестой. И почему к десятому? Почему он пропустил три номера?
Зырянов с жадностью погрузился в изучение собранных образцов и с сожалением оторвался от них, когда цвета минералов стали обманывать в закатном изменяющемся освещении.
– Что такое, Тихон Егорович, разве ты не звонил?
– Звонил, – сказал Черемных с удивлением, – да вот, не идут… организмы.
– Не звони больше. Это какое-то новое баловство.
– Пожалуй, – Тихон Егорович усмехнулся. – Должно было им хватить крепежа до обеда, но – лежит весь… – Он размышлял, разглядывая выросшие отвалы земли у шурфов. – Протчем…
Солнце побагровело и остыло над байкальской холодной водой. Сеня вылез на поверхность. В шурфах стало совсем темно работать.
Василий не взглянул на ребят, но Черемных видел, как они сбросили рубахи и побрели к ручью ленивой развальцей по-настоящему уставших людей.
– Василий Игнатьич, идите чай пить, – позвал Черемных. Василий обострившимся вечерним слухом услышал разговор у ручья.
– До половины августа нельзя успеть, – сказал один из таскалей.
– Трудно, и только, – пренебрежительно сказал Сеня.
– Что ты знаешь об этом, Ваня? Ты уверен, что нынче так будет?
– Бывает, и ста́ет, – сказал Ваня.
– А ста́ет – и зальет шурфы, – сказал Сеня весело.
Василий выпрямился, встревоженный. Ребята заметили его и замолчали. Подошли к костру. Сергей запел, ехидно подзадоривая молчаливого бригадира:
Скушно времечко, пройди поскорей,
Прокатайтеся, все наши часы и минутушки…
– Других берут живыми на небо, а мы недостойны даже геенны огненной, – сказал Сеня. – Николай Иванович, дорогой пинеженя из уважаемых Плеханов! Неужели мы расстанемся, так и не поговоривши больше об Индигирке? Расскажите хоть вкратце, как попали туда ваши предки, по прозвищу Плеханы?
Глава 16
НАЧИНАЕТСЯ БЕРЕСТЯНАЯ СКАЗКА
– Дед читал всю долгую зиму. Все собирались русские жильцы, молодые и старые, слушали. Зима кончилась, дед утомился, но Сказку всю вычитал и тогда только помер.
Николай Иванович помолчал, в уме почтив память славного деда. Никто не нарушил его молчания.
– Как дед вычитывал, так и скажу слово в слово.
Начинается истинная Сказка от Первова Тарутина. Брат мой, Вторай Тарутин, большой силы человек, одурел было в полону, пять лет в Крыме, и помучен от неприятелей, врагов-басурманов, бежал да сволокся к Москве, и там взят на Патриарший двор под начало, и началили его шесть недель с расспросами. Потом отпущен был и, выйдя, стал поносить всякие власти, как хотел; так поносил, что невозможно не только писанию предать, но и словом изречь невозможно. А Первай Тарутин братовы речи в грамотках списывал и те грамотки роздал худородным детям, научая читать, с присловьем таким: «Кто сие письмо возьмет, и он бы его не таил, сказывал бы своей братии христианам».
Списывал: «Мы-су, худые крестьяне, боярская телесность; они на нашем основании породою добреют и свои хоромины созидают, и нами нажитое пропивают на вине процеженном, на романее и на реньском, и на медах сладких, и изнуряют себя, сердешные, во одеждах мягких.
А от царя милости нам истекают, яко от пучины малая капля, и то с оговором.
Краснословцы нас от царя оттесняют своим вымыслом и коварством. Царь краснословия их слушает и искренных другов изгоняет. Сугубо бедные терпят – и от своих, и от чужих!»
Вызнавши эти грамотки, власти, яко козлы, стали пырскать на людей читавших и выспрашивать: «Кто-де писал? А он у кого-де перенял высокоумье великое на себя?» И языки рвали, и пальцы отсекали по самую ладонь.
Еще многие на Руси кричали неудобно[6]6
Неудобно – для властей: невыгодно и наперекор властям.
[Закрыть] и наказаны гораздо. А Второва Тарутина, пришед в его дворишко, ухватили и на лошади умчали в Кремль. К самому царю Грозному Ивану притащили.
Царь Иван Васильевич сказал ему: «Ты нынеча, оставя людей, да меня смиряешь? Нутко, ты посмиряй людей своими словами». От такой царской службы Вторай Тарутин, от ножа язык во рту спасая, бежал на Двину; языком на Москве людей смутил, вишь. И брата своего, Первова Тарутина, увез, от топора спасая его пальцы, умелые к писанию. И многие прибежали с ними вместе: вольные торговые и промышленные люди, а больше людишка, боярская телесность, кнутом сеченная и по-другому порченная ка́том…
Они спрашивали в усть-Пинеге: есть ли морепроходцы, способные вожи? И в странах незнаемых, государевой крепкой державы подальше бывали ли?
Лев Меншик, спрошенный, ответил: «Я хожу кажное лето, которое льды пропустят, да отцы и предки хаживали, а было таких лет и всех наших походов на памяти сотни две. А мимо Мангазеи и государевой крепкой державы подальше – ходу нет.
Как пойдут мимо завороту, прочь от Тазовской губы, и выйдут Обской губой в усть-море – потянет ветер с моря, на них приходит стужа и обмороки великие свету не видят.
А видели, от берегу до сиверу, большого моря всего поперек восстали вечные льды, яко светлые горы, белые стены. На стенах паки воздвиглись высокие стены, а на тех стенах третьи стены, до облак.
И бывает, секутся трещинами три стены сверху донизу и расходятся щелями от облак до самой воды. Через те щели видели, за ледяною троевысокой стеной лежит и покоится синее чистое море. Потом опять горы сходятся и закрываются туманом».
На те слова пинежени отвечали люди сухопутные, льду не видали, моря не хлебали: «Мы-де забежим в те щели, еще горы не сойдутся, и бог даст, проскочим в синее чистое море. А с нами ты не убоишься ли?»
Николай Иванович оглядел слушателей, довольный их вниманием.
– Дед всю зиму читал, а я в одночасье не перескажу про то, как Лев Меншик стражал и пужал беглых людей троевысокими стенами ледяными.
А мужики бесстрашные, страху не видавшие – на Студеном море не бывавшие, – уговаривали пинеженю не бояться с ними и сулили:
«Ты будешь над нами началовож! А как придем в страну незнаемую, возьмешь у каждого после похода, сколько останется всего барахлишка, и хлеба, и живота[7]7
Живот – домашние животные, скотина.
[Закрыть], и денег – половину места возьмешь. И красоту любую, твоей душе ходатайственную, изберешь и возьмешь по церковному обряду…»
Лев Меншик был молодой, жены не имел. Да и рубахи надобно, да и башмачков нет, да и ферезишков нет, да и деньженец нет. Зато есть мать хворая, отец старый, братьев и сестер восемь душ, мал мала меньше, – на все рты доставал пищу Лев один, и не хватало.
Мужики здоровы, бабы не плачут, и малые дети при них. А девки смеются и освещают сумрак, яко многие зори над русские земли, упреждая жаркое солнце…
Посмотрел на их живот и запас, – у каждого большое место. Хлебного зерна взяли года на четыре и больше, еще семена. Овечек пять-шесть взяли, мясцо иссуша. И есть у них копья с железными концами, луки и стрелы, пищали для огненного боя, свинцу и пороху дивно. И шелепуги[8]8
Шелепуга (шелеп + пуга) – пастуший длинный кнут, дающий очень громкий, пугающий, как выстрел, звук.
[Закрыть], и топоры. А соли мало, и сетей не видно у них.
Сказал мужикам: «От Архангельского города поспевают морем в Карскую губу в две недели. Из Карские губы в Мутную реку вверх до волоку ходят пять ден, а волоком идти и кочи таскать версты с полторы. А переволокшися спуститца кочами в Зеленую реку и идти на низ четыре днища… А дальше не знают».
Еще отвечал, что ингод живут пособные ветры, а встречного ветру и льдов не живет – и от Двины ходу с Петрова заговенья, да к устью Мутные реки приходят на Успеньев день и на Семен день.
А коли-де бог не даст пособных ветров и время опоздает, тогда все кочи ворочаются и бегуть в усть-Печору. От устья Печоры-реки до Пустаозера парусным походьем два дни. И в Пустеозери зимуют.
А коли захватит на Мутной или на Зеленой реке позднее время – и на тех реках замерзают, животишка свой и запасы мечут на пусте, сами ходят на лыжах в Березовский уезд, на Оби-реки другую сторону – по-зырянски Обдор.
Лев Меншик спросил мужиков: «Бежать думаете нашей Руси сколь подальше? До вас чтобы государева рука вовек не дотянулась?»
Москвитин Первай Тарутин на те его слова махнул рукой, сказал: «О таком думать не должны. Лет на пятьдесят подальше бы: детей возрастить и до самые смерти своя в тихости дожить бы чают».
Бабы, слушая его, помалкивали, сами думают: на смерть детей не нарожаешься. Бабы спрашивали его: «Резво ли убежим с тобою в земли незнаемые? С тобою детей довезем ли?»
И Второва Тарутина молодка Евдокеюшка возговорила: «По вся дни опасаюся. И мне так тошно, а еще нынешние печали и вконец меня сокрушили…»
Подумавши, сказали ему: «Ну, ты и веди нас».
Послушав, Лев Меншик велел мужикам соли доставать побольше и призывал своих братьев и сестер. Они строили малые кочи и па́возки без железа и плели сети.
– Постойте, – сказал Сеня. – Что такое кочи и что такое павозки? Почему без железа, если это лодки?
– Так сказывается: без железа. Не знаю, – сказал пинеженя.
– Без единого железного гвоздя, – сказал Василий.
– Взял у кого полтрети места хлебного зерна, у кого десятину барахлишка и денег, у каждого по его именью, все отдал матери с отцом, на пять лет питать себя и детей, а там подрастут братья и сестры Левовы. И встал Лев Меншик у стремливых людей началовожем.
Велел Меншик отложить на дорогу из всего места хлебное зерно года на четыре, еще и семена. Овечек пять-шесть каждому взять, мясцо иссуша. И копья с железными концами, луки и стрелки, пищали для огненного боя, свинцу и пороху дивно. И шелепуги и топоры. А все другое ненужное продавать или выменять на соль. Велел соли доставать побольше.
Бабы тогда зашумели, но Меншик, началовож, сказал строго: «Пусти бабу в рай, а она и корову за собой ведет. Возьму одних мужиков, бабы и в раю найдутся…»
Лев Меншик, началовож, повелел кочи делать длиною в сорок шагов. Делать крепко и прочно, чтобы сталось годы не на три, а на шесть. На три годы строили до Мангазеи, туда в доброе лето ходу три месяца.
Лес в них брали добрый, мелкой, и ушивали, и конопатили, и смолили, и скобами конопать убивали крепко, и ковали, чтоб тесом сыспод и сверху не ездило, и во всем делали дельно, чтоб те кочи в морском ходу были надежны. На палубе устроили казенку и стол для трапезы, а повалиться на пол.
На один коч брали десять человек и грузили запасы под палубу по сту четвертей, в четыре пуда четверть, и бочку соли. На палубу четыре лодки и два якоря, – продолжал сказывать Николай Иванович. – Четырьмя кочами спустились в усть-Двину и рыбу промышляли. Стояли в устье реки, потому что были ветры с моря прижимные. Потом побежали парусом в море, ступили на путь стреминный встреч солнца.
Русским людям все чудно: вправе земля, а влеве море, и земли не видят, густой туман. За пасмурью солнца пет, и не красен день, и ночь не пришла. Некрещеной день не кончается! Летом мороз и снежная пурга.
Потом ветром запогоняло текучие горы, на кручах водяных насовало утесы белокаменные, ледяные, смертью грозят. А на них птицы живут и деток своих учат пищу добывать из бури, где вода студеная кипит!
– Работать мы будем завтра? – спросил Тихон Егорович вдруг.
– Да! Надо спать, – сказал Сеня решительно, и с сожалением: – Ах, досада!