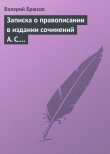Текст книги "Это мы, Господи, пред Тобою…"
Автор книги: Евгения Польская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 40 страниц)
Постепенно он вошел в жизнь советской страны, все меньше по виду отличался от нас всех, что, впрочем, отняло у него часть обаяния. Регулярно читал газеты, смотрел передачи, заметив, что телевидение разрушило и пространственные представления: мы одновременно и здесь и там. Скорбел и радовался вместе со всем народом. Внимателен стал к пульсу новой общественной жизни, но полностью всего вместить, принять просто не мог.
Прежде он недоумевал: если народ его, Пушкина, любит, зачем же его «скрывать»? Теперь он инкогнито свое раскрыть не желал сам. Настойчиво просил освободить его от опеки ученых и мечтал «удрать от науки», утонуть в народном море, раствориться в нем как частное лицо, как безвестный скиталец.
Он и в прошлом себя разлюбил: былые стихи и все творчество казалось ему «малостью» перед тем, чем сделалась русская литература и поэзия почти за 200 лет. И не в утешенье было, что он – всему этому исток. Ржавчиной разъедала сознание мысль: он уже не тот Пушкин, которого знают, и ничего более своему народу не даст. Кто он такой нынче? Едящий, пьющий, разглядывающий жизнь? Кто он в этом мире? Пушкин, на которого можно «глазеть», как в зверинце? Существо, на котором наука доказала свое торжество? И плакал открыто, не таясь. И каждая его слеза камнем падала на мое сердце.
И снова, и снова мы с Бородиным уверяли, что дар вернется, вспыхнет. А коли и не вернулся бы, поэт сумеет проявить себя как ученый, как лектор, наконец. Ведь если опубликовать его устные критические замечания о прочитанном, это будет «книга века». Он печально качал головою: «Я был поэтом и хочу им остаться. А коли не могу – не надо меня!» Бородин убеждал, что даже таков, как он есть сейчас, после опубликования эксперимента и «явления» миру Пушкина, он станет почетнейшим членом многих Академий. Воскрешенный зло хохотал: «В Академии наук заседал князь Дундук…»
Все это становилось уже не его личной трагедией, а источником смятения самого Бородина: объект гениального опыта ускользал из направляющих рук науки.
Он уже появлялся на улицах, в театрах, все в образе «иностранца» и больше всего боялся, что его «рассекретят». Многие примечали его сходство с поэтом, он любезно улыбался: «Польщен!» Не открылся и правнукам своим, был с ними любезен, не более.
Если вначале он принимал каждую кроху нового с доверчивым любопытством, страстной любознательностью, то нынче становился все более равнодушен, без удивления, механически вбирал впечатления. Объяснения непонятного раздражали его.
Все неохотнее отрывался от книг русских и иностранных, ради поездок и зрелищ. Читательские интересы становились шире, и все запоминал крепко, так, что мог в наших спорах аргументировать веско. В вопросах археологии, ее «тайнах», как проблемы Атлантиды, происхождения племен, оказался неожиданно эрудированнее нас с Северцевым, припоминал забытые ныне источники. Неисчерпаемость ума поражала.
В театрах сидел, никем не знаемый, без особого, прежде не покидавшего восторга слушал оперы, смотрел балеты на свои произведения. «Свое» воспринимал как чуждое и досадное.
Новую поэзию он почувствовал, пожалуй, лучше, чем мы. Живопись оставила его холодным. В картинных галереях великие Репин, Суриков, Левитан заинтересовали меньше чем портреты современников. Только «Демон» Врубеля заставил вздрогнуть. Перед своими портретами кисти Кончаловского сказал: «Эк его, как меня угадал!» А потом сквозь зубы по-английски прошептал: «Я или не я? – Вот в чем вопрос!»
Напротив строчки Маяковского с мольбою о воскрешении пометил: «Не советую!»
Заметно старел, становился нелюдим, озлоблен. Почти не шутил по-ребячески. Угасал. Становился, как сам сказал, «несносным желчевиком».
Бородин, настаивающий, что причина болезни – сокрушающая сила самых первых впечатлений, пригласил к «иностранцу» знаменитейших кардиологов мира. Они подтвердили склеротические изменения мозга и сосудистой системы. Болела печень – ее раздраженность перед дуэлью так и закрепилась при регенерации тела. Лечили. Лечили. Штопали материю, разорванную душевными страданиями.
Давно мы заметили его полное равнодушие к женщинам. Это не укладывалось в представление о Пушкине. Бородин приказал мне создавать для него самые рискованные ситуации. Он оставался бестрепетным.
– Красавица? – похохатывал Александр Сергеевич. – Помилуйте: это лошадиное лицо с огромным ртом, эти открытые сытые ляжки! – Женщины, же, соответствующие былым идеалам красоты, вызывали лишь любованье, задевали чувства строго эстетические. Заметил, что обнажение верхней половины торса в его времени вызывало более чувства, чем желания. Сексуальную раскованность нашего времени принял с брезгливостью: только тайна в любви прекрасна! Мне признался что никогда «это» его не тревожит. «Это» покинуло его, как и дарование.
Пригласили сексологов. После расспросов врача об интимном «ради интересов науки» он воскликнул возмущенно: «Какая, однако, бесстыдница эта ваша наука!» Выяснилось, что наш Пушкин неспособен к воспроизведению потомства. Вот почему он, тоскуя по друзьям былым, редко вспоминал жену и детей – это была область пола. Так обнаружилась еще одна крупная «раковина» в сплаве, который мы называли Пушкин.
А он все угасал. Не помогло и старинное средство против сплина: путешествия. В вояжах он тоже ничему не радовался, впечатления не обогащали более. Желанный Кавказ утомил обилием цивилизации. Сибирь – просторами. Заграница, куда он всю первую жизнь мечтал поехать, оживила только на первых порах. Он только считал этажи, а посещая памятные места, грустно повторял: «Могилы… могилы…»
«Шоковая ситуация с положительными эмоциями», которые Бородин наслаивал одна на другую, лишь усугубляли угнетенность. Я предложил свезти Пушкина на праздник в Михайловское. Сидя в публике, он вежливо выслушивал выступления и на концерте прослезился при хоровом исполнении песни «За морем синичка не пышно жила», которую певала ему няня. Когда мы только вдвоем бродили по полям и лесам имения, не он сам, а я читал ему строки: «Минувшее меня объемлет живо…» Он сказал: «Объемлет-то, объемлет, но мертво».
Мы беседовали с колхозниками, потомками его крепостных. Они шептались, как иностранец этот похож на божество их музейного комплекса. Директор Гейченко даже сфотографировал его в толпе. Пушкин особенно долго смотрел на уроженца села, веснушчатого молодого тракториста – видно, он был похож на своего знакомого поэту прапрадеда – и спросил ласково, что тот думает о Пушкине. Парень застенчиво и простодушно сказал: «Пушкин – наше все!» – и обвел руками окрестность, прихватив кусок неба. И хотя он явно повторил услышанное с праздничной эстрады, «иностранец» побледнел и ушел от толпы. Не было, не было ему чем возместить народную любовь!
Я записал тогда все его замечания по реконструкции усадьбы, теперь записи утрачены, и все останется как есть – «приблизительно так».
Все чаще слышал я негативные суждения о нашем времени. Уже снова он говорил не «наше» общество, а «ваше».
Массовую культуру нашего века осудил: само понятие культуры включает глубину воззрений и чувствований, мы же называем культурой не более, чем цивилизацию. С восторгом вначале принявший новое в народном сознании, вдруг затосковал по патриархальности. С глубокой скорбью и разочарованием жалел об утрате обычаев и верований народных, о нивелировании национального. При всей силе ума мироощущение нынешнего человека не мог вместить.
Атеизм нашего века принял без удивления, повторяя, что с юности был афеем и много от этого пострадал. Но странна ему была мысль об атеизме всенародном, и, посещая храмы, кивал на толпы молящихся: как можно утвердить неверие! «Вы говорите, «атавизм сознания», а я уверен – это народ оберегает себя и свои устои через веру. В идею общественного идеального устройства, к которому стремитесь, верить нельзя, ее можно принять или отвергнуть, верят же в непостижимое». Я заметил, что в наши дни непостижимого в мире становится все меньше. Возразил, что я имею в виду непостижимое разумом, а непостижимое воображением – Бог – всегда останется.
– Не находите ли вы, – сказал однажды, – что в нынешней литературе нет сострадния? – Я ответил, что человек несчастный не есть типическая фигура нашего времени. – Брюхо сыто, на брюхе шелк, но ваши люди пьянствуют, как прежде, они своекорыстны, интересы их мелки, больницы переполнены, машины отравили воздух, химия – землю… Сознание народа не едино. Не о том мечтали социалисты. Равенство и свобода относительны.
Все чаще, когда он высказывал такие мысли, я выключал аппараты прослушивания. Зачем было им знать мнение блистательного пришельца о мире, который мы считали безупречным?
Бородин не любил лишних разговоров о Воскрешенном, однако посвященные в тайну сотрудники его группы заговорили, что Пушкин стал нелюдим, резок, старел, а главное не знакомил никого с новыми «перлами поэзии», которых от него ожидали. Все считали, что богатство новых впечатлений должно пробудить в нем особую поэтическую силу.
Тогда наш старик созвал закрытое узкое совещание и на нем сообщил, что многие уже месяцы после воскрешения Пушкин себя как поэт не выявляет. Ученый оптимистически заявил: он уверен, что все это «всплывет» постепенно, доделает сама природа, сам организм. Вначале он ведь и своих стихов не знал, теперь… Опасно лишь одно: субъект осознает неполноценность своей личности, что разрывает его психику, вызывает изменения в организме и ставит на опасную для жизни грань. Следует отыскать пути, как вывести его из этого состояния.
– Увлечение женщиной! – предложил молодой голос. – Сообщили о его крайне вялых сексуальных эмоциях.
Зашумели, задвигались: подтверждалась теория о связи сексуального и творческого начала в человеке.
В чем же причина изъянов? Микробиологи заговорили о генетическом коде, о рибонуклеинах, цепочке аминокислот, которая при воскрешении утратила или не смогла восстановить какое-то неуловимое звено. О самоорганизующихся молекулах, образующих организм. Упоминали имя Апарина. Видимо, ход случайностей привел к неполной удаче эксперимента.
Бородин же возражал, что не в молекулярных процессах дело, а в шоковой ситуации, возникшей из-за неправильной методики нашего собственного поведения после регенерации.
– Мы начали, – говорил старик, – с обратного хода – от сильной шоковой информации переходили к дробной. И, может быть, в этом наша ошибка. Интеллект изумительной мощности не смог покамест – он особо подчеркнул это слово – вместить сразу одновременно два пласта жизни, два чуда, одно из которых – творчество. Гипотетически…
А я думал о живом человеке, который сейчас остался один на нашей даче. Друг мой, светлое диво природы – страдал. Он не мог терпеливо ждать, когда бородинские «самоорганизующиеся молекулы» вернут ему природный дар, всю личность полностью… Я взял слово:
– Я не ученый и не знаю деталей эксперимента, но, безусловно, Пушкин вернулся к нам со всеми качествами своего природного интеллекта, продолжающего развиваться, несмотря на утрату поэтической способности. В нем интенсивно живет и ясный ум, и необычная память, и наблюдательность, и тонкий вкус к изящному. Его интересы по-прежнему разносторонни. Не угашен интерес к вопросам общественного и духовного порядка. Бывший поэт – с какой горечью я называю его так! – полностью осознал свою необыкновенную роль в прошлом и нынешнем мире.
– Именно поэтому утрата важнейшей интеллектуальной «детали» – способности создавать привычное – стала для него источником испепеляющего страдания. Он не ученый, не знает, не верит, что время вернет его уникальное дарование, без которого он ни лично, ни социально существовать не хочет. Он стыдится себя сегодняшнего. В нем вместо привычных ритмов воцаряется хаос. Я, самый близкий Воскрешенному человеку, говорю вам: он в отчаянии, что ему вернули жизнь, лишенную главной для него ценности.
– Мы возродили личность, ущербную и в других отношениях, и несовершенство нашего воссоздания повергло его в жестокие душевные страдания, ведущие к гибели.
– И еще одна ущербность: он одинок в этом расширившемся мире, объем которого при всей гениальности вместить не может, не может стать полноправным участником современности.
– Считая эксперимент в основном удавшимся – человек вновь живет и мыслит, – вы забываете о том, что он страдает. Столь глубоко, сколь глубока его умственная сила.
– Мы показали ему далеко не золотой век человечества. Поглядели бы вы, как потрясают его фильмы о войне, он знает об опасности радиоактивности, об атомной бомбе, о нарушении равновесия в природе. Прежний Пушкин этого не знал, он верил в гармоническое общество, но его в нашей эпохе не нашел. Какова же его разочарованность! – В этом месте меня прервал тот же молодой голос:
– Ну что ж, пускай разделяет с нами все тревоги человечества! Я продолжал:
– Апостол своей эпохи, пророчески глядевший в будущее, в нашем мире – дитя. Вырвав гения из его времени, мы превратили его в объект наблюдения, как букашку на булавке, и он сознает это отлично. Он, хоть и шутя, называет себя «подопытным животным». Он – Пушкин!!! Не позор ли нам, что мы превратили гения в школяра, которому выбирают жизненные пути. Но самое, конечно, главное, что лишает его желания жить в нашем обществе – неполноценность творческая, отсюда вырастают все его конфликты со временем.
– Я говорил, что следовало выбрать ученого, – проворчал один из академиков, – человека с не столь сложной эмоциональной организацией.
– Ученый так же мог утратить что-то и страдал бы не меньше. Потому что мы работали вслепую, гипотетически. Наш эксперимент, как говорят программисты, – решение в расплывчатых условиях. Этот жестокий опыт доказал, что мы не умеем управлять процессами полного формирования мышления где-то в недоступных нашему пониманию глубинах.
– Так что же, разве мы создали урода?
– Нет, страдальца. Из гармонической личности гения, абсолютно здорового душевно, мы вылепили трагическую фигуру «пришельца» – анахронизм. Какая в этом цель? Доказать торжество науки?
– Подобные опыты следует воспретить! Недопустимо и преступно переходить грани времени, отделяющие одно поколение от другого. Личность и ее исторический период неразрывны. Мы нарушили основной закон прогресса – закон преемственности, непосредственно вмешали силы ушедшего в процессы, современные нам. Вынимая людей из прошлого, мы обрекаем их на муки одиночества. Одно это – жестокость. Какая в этом цель, спрашиваю я вас?
И тут все закричали одновременно. Одни утверждали, что такие опыты – бесценная практическая помощь в раскрытии «белых пятен» истории, точной, абсолютной реконструкции прошлого. Другие, присоединяясь ко мне, говорили, что такой исследовательский эмпиризм низводит гениев прошлого до роли наглядного пособия истории. Слово взял Бородин.
– Гуманно ли?.. – Он посмотрел на меня весьма сердито: я разбудил в нем что-то. – Дело, однако, сделано. Пушкин, видите ли, живет! Наша задача сейчас, не философствовать, изыскать пути спасения нашего пациента. Я убежден твердо: сама природа – он подчеркнул это слово, посмотрев на меня искоса – природа постепенно восстановит в мозгу Пушкина недостающие системы. Самореанимация не только возможна, но обязательна. Беда лишь в том, что подопытный может погибнуть раньше в сознании утраты дара своего. Но Вы забываете, Петр Андреевич, что утратив его, Пушкин уже выявляет себя как ученый, аналитик, публицист. И это меня особенно обнадеживает. Ведь перед гибелью эти качества уже явственно в нем обнаруживались, были заложены. Вспомните: стихи появлялись реже, «История Петра», «История Пугачева», его журналистика, письма, критические статьи, полные размышлений литературных, философских, социальных… Наступал второй период его деятельности. Было заложено! Стало быть, цепочка не оборвалась… Он угас, переполненный планами на будущее. Вот где выход.
– Пока он мучим конфликтными ситуациями своего воскрешения, надо направить его сознание именно на новый вид духовного труда на пороге к которому он прочно стоял перед дуэлью. Следует внушить ему, что перед ним нынче не поэтические задачи. И он станет счастлив. А значит, здоров. Он сам говорил, что жизнь – это обновление, а он продолжает жить, только в ситуации экстремальной. Слово даю академику Северцеву.
Северцев начал издалека с положений общих, как нынче принято у выступающих:
– Слово Достоевского о Пушкине как зеркала русской литературы, обращенной в будущее… гм… мы понимали так: в его поэзии наметились и философичность Тютчева, и титанизм Лермонтова, им открыта «диалектика души», присущая творчеству Толстого, трагические коллизии его героев продолжил Достоевский… гм… В «Повести Белкина» – ростки гоголевского и булгаковского гротеска. Мы привыкли ощущать Пушкина современником, он – незримый… гм… арбитр в прошлом и нынешнем литературном многообразии. Но Достоевский еще сказал, что Пушкин унес с собой в могилу некую тайну. Эта тайна раскрывается в новом Пушкине, она – его ученость, его мощный критический и философский потенциал. Нам, действительно, эту «тайну» надо для него самого пошире открыть.
– Я не согласен с коллегами, будто выбор нами личности неудачен. Еще Гоголь изрек: «Пушкин – это русский человек, каким он явится через двести лет». Он явился. Он с нами.
– Но в нем ничего не надо пробуждать, – обратился историк к Бородину. – Процесс в области литературной науки в его мозгу неустанно и интенсивно идет. Разрыв исторической постепенности в мышлении, считаю, обогащает его суждения настолько, что я назвал бы его родоначальником какого-то совершенно нового литературоведения. Ум не скован никакими канонами, как у нас, ни философскими, ни социологическими, ни формалистскими. Эта непредвзятость, независимость от ведущей концепции позволяет ему, при огромной филологической эрудиции, находить такие связи и сопоставления, которые порою ставят меня в тупик. Я уже высказывал ему свое восхищение, но он признался, что всем похвалам предпочел бы поэтическую способность. Мы нарушили, безусловно, нормальный путь одной из самых гармонических в истории натур, но обрели какого-то нового Пушкина. Свои творческие способности он уже раскрывает, но иначе…
Я взял слово:
– Но он не хочет «иначе»! Мы воскресили не юношу, а зрелого мужа со всеми установившимися привычками эмоционального мышления в ритмах. Но вся система этих привычек рухнула, сохранившись в памяти…
– Стереть память, – предложил кто-то.
– Вместе с ней исчезнет личность… Нынешний Пушкин ведь в поэзии не подтверждения своей былой славы ищет. Ритмы нужны самому его организму. Говоря о нем, одно мы забываем: он не наше создание. Он явление самой природы – не кибер. Мы не создали, а только восстановили алгоритмы его мозговой деятельности, но неверно, с просчетами. Мы как бы «навязали» ему нарушенные связи и изъяны интеллекта. Подумайте: подарить жизнь но отнять ее главную ценность! Жестокость! Он должен, он обязан ненавидеть нас и все наше… коли б ненавидеть умел!..
Предлагали пути. Методы переключения «творческого потенциала» – отвлечения от губительных дум, слава Богу, о генетической цепочке да о немыслящих молекулах больше не вспоминали.
Бородин сказал, что он, собственно, собрал всех нас, чтобы коллегиально обдумать и утвердить метод гипнотического или фармакологического, или электронного, наконец, – а это мы умеем! – понуждения Пушкина к новому виду деятельности. До сих пор, сказал Бородин, мы избегали подобного, предоставляя процесс самой природе…
Во мне все клокотало от возмущения. Теперь они станут его физически мучить!.. О моем Пушкине, гениальном, доверчивом поэте, о живом и страдающем Александре Сергеевиче рассуждали, как о не совсем удачно сконструированной машине. Обсуждали ее изъяны, искали их причины в какой-то немыслящей цепи каких-то аминокислот, советовались, как лучше заменить ее части другими для возможного полезного применения. Хотели что-то в нем согнуть, выпрямить насильственными руками науки.
Слушать все это было невыносимо. Будто я присутствовал при операции, которую делали страстно любимой женщине – пластали ножами обожаемое тело как обычное мясо, рвали крюками мускулы, грубыми пальцами трогали трепещущие нежные сосуды…
Я покинул заседание.
В тот же день поздно вечером я подрулил к воротам нашей дачи. Спит ли Он, драгоценное дитя человечества? Или бодрствует над книгами, или потаенно пытается выдавить из себя несколько стихоподобных строк?
В окнах света не было, и вокруг плыла темнота и тишина. Только в окружении задремавшего цветника под окном его кабинета сиял подсвеченный нами снизу мраморный бюст Лермонтова на невысокой колонке. Изображение сына своей поэзии захотел сам Пушкин, нашел ему место, насадил вокруг цветы и придумал подсветку, чтобы ночью из темноты возникало дорогое ему лицо «гениального мальчика».
Я приблизился к крыльцу и увидел: у подножия колонны на измятых цветах лежало неподвижное тело. Он был холоден. Он был мертв. Эксперимент закончился.
На рассвете после тысячи хлопот мы с Бородиным вошли в комнату Пушкина. Под настольной погашенной лампой лежал сборничек, раскрытый на стихотворении Бенедикта Лившица:
Приемлю иго моего креста,
Трех измерений сладкую обиду,
Пусть ведая, что в райские врата,
Во внутрь вещей я никогда не вниду.
Но не гордынею душа полна,
Хотя уводит в сторону от Рима:
На что мне Истина, когда она
С поющим словом несоизмерима?!
Последние две строчки были отчеркнуты и повторены на полях знакомым летящим почерком. Вероятно, он, мучительно сопоставив чужие эти строки с остротою своего трагического положения, задумался, оставил на полях свой последний автограф, экономно выключил свет и вышел перед сном в темноту. Может быть, только подышать в цветничке, может быть, навсегда покинуть дачу… Кто знает?
В его времена верно и живописно называли разрывом сердца то, что обнаружило вскрытие.
Останки дважды рожденного Пушкина тайно, как при первых похоронах, отвезли в прежнюю могилу. Там теперь снова истлевает бесчувственное тело.
Чтобы это не повторилось, я и решился…