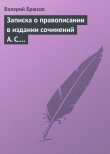Текст книги "Это мы, Господи, пред Тобою…"
Автор книги: Евгения Польская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 40 страниц)
«Шереметевский» театр
«Сохранить себя физически, эстетически да еще и творчески
можно только при удаче – умении жить в данных условиях.
Здесь жить трудно, даже, если физически не тяжело.»
(Из письма Льва Гумилева к Э. Герштейн)
Мы в гастрольной поездке. Орлово-Розово. Отлично оборудованная сцена в клубе, расположенном далеко за зоной. Стою на балконе перед спектаклем, ищущая одиночества («вхожу в образ» Галчихи). В лучах заходящего солнца по извилистой пропыленной дороге, ведущей к клубу, показываются колонны заключенных. На этот раз их «гонят» в театр. Они запаздывают и почти бегут. Я вижу, как спотыкаются плохо одетые люди, знаю, как тяжело они дышат, шагая по уставному порядку «по шесть». По обочинам дороги – много конвойных, потому что в этом лагере большинство – «государственные преступники» (политические), крупные бандиты со статьей 58–14 (побеги, отказ от работы и проч.). Шарканье ног, лай собак, окрики конвоиров уже в клубном скверике. Кое-кого привели под руки товарищи. Представляю отчаяние орловорозовских старушек, больных, которым не дойти до клуба и которых «не взяли».
Их гонят… Нас гонят… Нет, сейчас это, действительно их гонят, а я на вершине лагерной удачи. Неловкость какая-то: ведь я-то, собственно, и есть – они. И как оправдание: но сейчас я и другие будем давать им радость… Для нее они шли, ради того, чтобы пройти этими полями не на каторжный труд или этап, а для удовольствия, без которого невозможно жить, совсем озвереет человек без радости, издохнет.
Колонны по частям подводят ко входу в здание, пересчитывают, записывают количество на дощечку и загоняют между рядами надзирателей в зрительный зал. Надзиратели, опоздав, торопятся, орут, волнуются: ох, уж этот театр, лишняя им докука!
Теперь я наблюдаю зрительный зал в дырочку занавеса. Сражаются за места. Сильнейший спихивает слабого. Слышится и родной мат, но с шипением, не так уж громко: предупредили! В огородках, напоминающих ложи, располагается начальство с супругами и детьми. У обеих дверей зала – часовые. Всем зекам мест не хватило, с шумом располагаются в проходах, на полу.
Часовые и за кулисами. Там, где сцены прямо в зонах, сооруженные хотя бы из столов, такого не бывало: зрители приходили свободно. Бывало, начинался дождь. Публика накрывалась бушлатами, никто не убегал. На несколько часов уйти от идиотизма их деревенского быта, от навоза и бычков, от хрюкающего, мычащего, кудахтающего и матерящегося сотоварищества. Будь я сейчас среди публики – место мне предоставили бы сами урки: «она понимает!»
Гонг. Воцаряется такая тишина, какой не бывает перед поднятием занавеса в обычном театре, где даже после начала спектакля в публике еще живет какое-то «колыханье». Здесь – тишина космическая. Играть перед такой публикой – наслаждение высочайшее.
Но не шорох раздвигаемого занавеса – прекраснейший в звуковом мире шорох, слышим мы. Из зрительного зала – мужской солидный «голос». Видимо, начлага говорит, что в этом году «контингент заключенных» хорошо поработал, и поэтому администрация Сиблага направила сюда для гастролей свой стационарный театр. Сегодня они увидят пьесу «Без вины виноватые» в исполнении артистов, из коих многие уже известны «нашему контингенту» (слава Богу, о том, что почти все артисты – «государственные преступники» не помянул). Аплодировать разрешается, но вызывать артистов по фамилии, если вы их знаете, – нельзя. У некоторых зрителей – цветы, ими «благодарить» артистов можно бросанием на сцену, но не подношением. Если сегодня среди вас не будет «нарушений» и в зоне нарушений не будет, через два дня вас приведут на следующий спектакль.
Мне рассказывали, что вначале в «шереметевских» театрах запрещались аплодисменты, но крепостные артисты очень обиделись, жаловались чуть ли не в Москву, и аплодисменты разрешили.
Старых своих знакомых актеров все-таки вызывали по фамилии, а мне, которую тут еще никто не знал, отрадно было слышать: «Лукерью», или «Галчиху».
В Орлово-Розово своя сильная самодеятельная труппа, руководимая артистом, сидевшим, как говорили, за педерастию. Почему-то в наш театр его не брали, хотя у нас был такой же – режиссер Н. С. X. – один из самых симпатичнейших людей в труппе:
На участках Ивановка, Суслове оказалось множество подлинной интеллигенции с известнейшими именами: Корвин, например, или сидящая за участие в каком-то мистическом обществе (чем-то связанным с Рерихом) – художница (теща Н. Тихонова), поэтесса – подруга Ирины Мейерхольд.
На одном из участков масса немок довольно сытых и в честь нашего приезда нарядных. Одна из них – жена власовского офицера, была дочерью потсдамского ресторатора, в заведении которого мы с мужем часто бывали, живя в Потсдаме. Вспомнив со мной ресторан отца, она заплакала. Другая, русская, из «остовок» – жена австрийца, после окончания войны была похищена обманом из какого-то австрийского городка. О судьбе мужа, который очень ее любил, ничего не знала, как и он, вероятно, о ней.[23]23
Припомнились только эти две судьбы, но их тысячи.
[Закрыть]
В Ивановке колючая проволока отделяла женскую «каторжную зону». Каторжанок мы через проволоку видели, но общаться не пришлось, посещения театра каторжане были лишены. Голоса артистов и музыка доносились к ним, но сцена стояла к их зоне задом. Все же во время спектаклей у проволоки толпились женщины, в большинстве немки. Были мы и на лагучастке «Конный двор», где нам показывали очаровательных лошадок. На этом участке собраны были исключительно репрессированные энкаведешники и работники юстиции. На общих участках их бы убили. Для них мы все без предварительного соглашения играли кое-как, хотя встретили они нас по-королевски, разговаривали же мы лишь по делу с начальником КВЧ. Одну из нас там изнасиловали.
В театре Сиблага мало кто «сожительствовал»: пары, уличенные в «прелюбодеянии» тотчас разлучали, как всюду. Однако, молодые сходились по симпатиям. И только раз потихонечку пожаловалась мне бывшая блатная (о том, чтобы разрешить ей, очень от природы талантливой, работать в театре и учиться там же, блатяки сделали специальное заседание – «толковище» и отпустили ее в мир) балерина Элка, что к ней «пристают» оба ее балетные партнера, бьют, принуждая к сожительству. Николушку X. – педераста шантажировали мальчишки – блатяки, среди которых он тайно искал партнеров. Впервые я поняла, что педерастия – могущественная страсть, когда, наш Николушка, увидев некоего красавца-парикмахера, дрожал и менялся в лице от восторга и желания. На гастролях Николушку однажды чуть не изнасиловали урки, в барак которых он зашел неосторожно.
Нужна была огромная осторожность в поведении: на театр нельзя было набросить тень. Обычно нам давали отдельную комнату, иногда за кулисами, порою даже вместе с нашими мужчинами. Конвой, нас сопровождавший, выделялся из Мариинска на все лето и нам доверял безусловно. Однажды женсостав театра отпустили даже без конвоя на озеро вымыть театральные сукна, и мы целый день барахтались в воде и загорали.
Вообще поездки театра – драмбригады и концертной отдельно – были сами по себе радость. Кроме встреч интересных с себе подобными, сам процесс переезда из лагеря в лагерь на большой пятитонке, где сложен был наш реквизит, сундуки и сукна, а сверху, как воробьи, рассаживались мы, человек 17, а на задних углах располагались конвоиры, сам путь по просторам летней Сибири был праздником: поля, перелески, проплывающие мимо березовые нарядные рощицы – «колки». Останавливались возле магазинчиков в населенных пунктах, даже иногда обедали в попутных столовых, как обыкновенные граждане. Сельский пейзаж деревень в те годы поражал нищетою изб, овражистыми улицами, малолюдством.
С мая по сентябрь. Осенью в стационарный театр в Маргоспитале (госпитальная зона в Мариинске) съезжались концертная и драматическая труппы, и начинался зимний сезон с уже нечастыми наездами в город на спектакли и концерты для «вольных». И с «премьерами», в самой зоне Маргоспиталя, приготовленных в поездке новых спектаклей.
Недавно с одним «однострадальцем» мы припомнили расположение зданий барачного типа в Маргоспитале, где бытовал наш театральный стационар: госпитальные корпуса и рядом жилые домики женщин – госпитальных работников и наш, актрис, отдельный. «Амуры и зефиры» мужского пола жили в рабочей зоне госпиталя (мужской), где были какие-то мастерские. Сообщение между рабочей зоной и госпитальной было для нас свободное. На одной линии с домиком актрис, с садиком, было и крупное здание театра – видимо, бывший гараж или ангар, со зрительным залом человек на 500, хорошо оборудованной сценой и закулисными помещениями: мастерскими, гримировочными, прекрасной, хоть любому театру, костюмерной.
Как возник театр? После голода началось с того, что в зоне на большой поляне, с одной стороны замкнутой громадной слепой стеною-брандмауэром старинной кирпичной мариинской тюрьмы, по праздникам стал играть оркестр. Затем И. А. Райзин собрал вокруг оркестра труппу драматическую. Вначале с ним работал художник Будапештского театра, видимо, эмигрант, Федоров, по его смерти – талантливый Владимир Сергеевич Максимов, живущий ныне в Москве, на пенсии, бывший зав. постановочной частью Большого театра. Бутафоры были блистательные, например, мебель для «Маскарада» белая с лепными рельефами из крохотных белых розочек – рококо была изготовлена из дерева и папье-маше, но выглядела как подлинная. Полагаю, после ликвидации театра ею не побрезговал какой-нибудь начальник, так же как и костюмами для советских пьес – это были прекрасные портновские изделия.
Занавес из алых бархатных квадратиков от подсумков японских военнопленных по фактуре с сочетанием ворса вниз-вверх был очень наряден. На костюмы экзотические шла так называемая «тарная ткань» (как и во многих театрах того времени), мягкая, хорошо драпирующаяся и окрашивающаяся. Грим хорошо знал актер «Нилыч» (фамилию не помню, война застала его в Смоленске). Был театральный парикмахер. Киевская кукольница Хава создала театр кукол. Балетмейстером был Виктор Иванович Терехов, бывший балетмейстер одесского театра. После Райзина, отправленного на этап за хищения и «обнагление», директором театра стал музыкантишко, конечно, «бытовик», то есть вор, из бывших коммунистов. С ним-то я и говорила по телефону.
Меха создавались из обыкновенной овчины. Парча для «Отелло» – из мешковины и из масляной краски. Огромный, во все зеркало сцены кружевной занавес для «Маскарада» был выполнен из марли и наклеенных бумажных черных узоров. Изобретательность поражала.
При мне были два концерта. По моде того времени они были сюжетны. Оформлены были они так, что и в Москве сделали бы славу. Тогда впервые услышала я отрывки из «Василия Теркина». Новогодний – был зимний лес с остановившимся в нем поездом с артистами. Первомайский – терраса с видом на Москву, с чудесными «стеклянными» прозрачными колоннами из вертикально натянутых ниток, создающих полную иллюзию каннелюр. Прежде колонны эти играли в «Маскараде». Чудесна была терраса в «Глубоких корнях» со скульптурами негров, держащих светильники.
Я думаю теперь: что был театр для зеков? Зрелищем только или воспиталищем? При невероятном многообразии лагерного населения одним словом не определишь! Для меньшинства, в том числе и участников, это было наслаждение творчеством, искусством. С заключенными художниками-станковистами судьба меня не столкнула. Музыканты только в крайних случаях имели инструменты. Писать запрещалось. Правда, поэты потихоньку стихи сочиняли, запоминая наизусть, прозаикам было хуже: при первом «шмоне» рукопись могли отобрать. Оставался один материал для творчества: собственное тело – театр. Хотя каторжанам, как упоминала, даже самодеятельность воспрещалась.
Для подавляющего большинства зеков театр был только зрелищем. Но и тех и других театр от скотского существования, из лагерного ада уводил в мир иной, пробуждал эмоции человеческие. А так как не во всех участках были библиотеки, то театр был подлинным «островком гуманности» в океане страдания, как и санчасть. Те зеки, кто познал этот вид искусства, все же получили духовной пищи больше, чем те, кто не соприкоснулся с этим никогда.
Я уже писала, что для многих, как это ни парадоксально, лагери были школой цивилизации и культуры. Сибиряк, спавший дома на овчинах, попадал в иных лагерях с хорошими условиями в такое обществе, о существовании коего не мог и подозревать. Многим лагери открыли глаза на политическое положение в стране и пути к науке и культуре, по крайней мере, уважения к ней.
В массе у нас, в Кемеровской области, в заключение преобладал коренной сибирский народ, вообще мало эмоциональный. И театр – самая общедоступная и демократическая форма искусства – был особенно нужен. Для характеристики тогдашнего быта сибиряков позволяю себе «вставную новеллу».
В Кемерово после расконвоирования из ПФЛ я вместе с некой Дуней, женою казака-офицера, сняла угол у бывшей колхозной семьи фронтовика (их после войны по желанию отпускали из колхозов в города). Самодельная полуземлянка-полумазанка хозяев была дика и хлевообразна. В ней я прожила до ареста. Быт хозяев был примитивен, как у оседлых скифов. Мат был обычен, как «Господи помилуй», так, что сын называл мать на букву «б…», а она его посылала… Дочь, работавшая продавщицей в закрытом распреде, на свои карточки приносила давно невиданные продукты: яичный порошок, баранину, деликатесы. Мать – вчера сельская бабенка, все это сваливала в чугун и варила вместе как похлебку. Это так было смешно, что я однажды сама предложила сварить им плов. Хозяин материл жену: смотри, чурка с глазами, это пища! (Он был несколько просвящен в заграничных военных походах). Спали они на собственных полушубках без простыней.
Однажды ночью мы с Дуней тихонечко припоминали ласковость и заботы наших уже заключенных мужей. В дверях показался силуэт хозяйки, соскочившей с супружеского ложа.
– Бабоньки, – сказала она, полузадохнувшись, – Неуж не брешете? Неуж такие-то мужики бывают? А мой-то… Мой меня ни разу после венца и не поцеловал! Вот и не бьет, жалеет вроде, а не поцеловал ни разочку… – Из соседней комнаты-завалинки послышалось ленивое: – А что целовать-то тебя? Что ты, икона? – Наши казаки молодые плевались: чтоб я да женился на такой сибирячке неумытой?! А те просто «падали» на «наш контингент». И на мой вопрос, что им в наших мужчинах-«власовцах» привлекательно, отвечали: «Ласковые они». Бежит на свидание с нашим поселенцем некая Фиса. Я: «Фиса, да ведь у вас шея грязная!» Беспечно отвечает: «Ага, в бане давно не была!» – «Помойте шею и прочие места в тазу!» – Фиса, оторопев, отвечает с великим удивлением: «А и впрямь!»
Влюбленные в меня старики-сибиряки, у которых после освобождения я стояла на квартире, находили во мне, как у постоялки, только один недостаток: «ж… кипяченой водой моет!». Таков был уровень цивилизации простого сибиряка в 40–50 гг. И вот для таких людей мы играли в нашем театре – школе понимания жизни, страдания, прошлого в исторических пьесах, впечатлений эстетических.
Неискушенные зрители были прекрасны. Никогда я не видела столь сильного эмоционального воздействия. Все принималось за истинное. Это здесь в «Коварстве и любви» в Вурма бросили из зрительного зала кирпичом. Я сама, играя в «Поздней любви» хитрую и подловатую старуху, слышала из зрительного зала злобное шипение: «У-у, с-сука!» Такими же возгласами сопровождалось исполнение мною роли Джен (из «За вторым фронтом»), предавшей советскую летчицу ради целости своих заводов. Муки совести Джен я передавала в немой сцене, стоя к зрителям спиной, но по злорадным восклицаниям из зала понимала, что играю верно. Энтузиасты театра бросали нам букеты, их подхватывали, как водится, «первые сюжеты», но однажды букет попал мне чуть ли не в лицо. Бросившие малолетки прибежали за кулисы с оригинальным «извинением: «Мы вам бросали, а то те с…, все себе хватают, вот мы и бросили прицельно: вам!»
Весна. Драматическая и концертная труппы в сборе. В актерском общежитии для женсостава труппы (бараком этот домик не назовешь!) повсюду разбросаны принадлежности дамского туалета. Пахнет духами. Их, как и наряды, присылают артисткам из дому в посылках… Артисткам это разрешают.
У ворот Маргоспиталя меня встретила очаровательная девушка с поразительным тембром голоса. Тамара Самолетова. Сидела она за то, что была женою американского офицера, аккредитованного в Москве после войны. В один прекрасный день он – исчез, ее «взяли». Без суда.
Режиссер театра приветливо поднялась навстречу: «Простите, руки не подаю: лак на ногтях не высох…» Лак… Где я? Что я?
Вечер. Целый день были репетиции. Сегодня спектакля нет, и мы свободны. Запах кулис. Актерские страшные сны: не знаю роли… Нас уже немного. Иностранные «звезды» уже взяты на этап. Среди них была венгерская знаменитая балерина Долли Текворян, о которой поминает Солженицын, премьерша Таллинской оперетты Герда Мурэ. Остались преимущественно актеры провинциальных театров и наиталантливейшие самодеятельники-бытовики (то есть не политические) с небольшой прослойкой одаренных бывших блатнячек, отпущенных «толковищем» паханов в театр на обучение искусству и работу.
Позднее узнала я, что такие лагери для специалистов называются «шарашками».
Этапированные из этого театра «звезды» пишут из Тайшета, из Экибастуза, работают в пошивочных (в лучшем случае). О Маргоспитале вспоминают, как о Париже. Теперь в этом лагерном «Париже» я. Конечно – это лагерный Париж. Человеческие условия быта. На 90 процентов среда интеллигентная – актеры, врачи Маргоспиталя. Разговоры об искусстве, новинках литературы. Газеты. Прекрасная библиотека, в которой узнаю, что иные книги «сидят» со своими авторами, хотя списки изъятого присылают, и во главе библиотеки – бывшие крупные коммунисты с руководящих постов (им не давали «пропасть»: кто знает, что дальше будет).
Единственное страдание мое – всегда поющее радио. Его не замечает даже профессиональная пианистка Магда Мацулевич, ученица Глазунова и Николаева, наш концертмейстер. (До сего дня с нею в переписке и даже навещала ее в Коктебеле, где у нее теперь дача.[24]24
Умерла в начале 80 г. г, в г. Кузнецке, где было ее основное жилье.
[Закрыть]) Сейчас, к ночи, она возвращается из своих расконвойных занятий, с музыкальных уроков, которые дает для «господских детей» г. Мариинска в музыкальном училище. Ее уверили, что за эти уроки ей платят переводами на ее текущий счет, так что по освобождении она сможет купить себе пианино. Конечно наврали: на счету оказалось только ее лагерное жалование (нам уже немножко платили). Магда – немолода, но с мороза приходит с хохотом и принимается кормить свою кошку. Кошка – значит – голода уже нет. Иногда мы едим мясо. И в гастрольных поездках, в Боиме (туберкулезный лагерь), в буфете я, – обычно равнодушная – проела месячное жалование (80 руб.) на пирожках с мясом, хотя год моего освобождения – следующий, и мне надо копить «на освобождение».
Вот погасили радио, я, ликуя, хочу заснуть, но вдруг пожилая актриса Морская издает во сне звук. Опять?
Бывшая блатная Тоська из подмосковных мещаночек – наша певица орет, что «эту старуху» надо выселить из нашей комнаты. Гневно звенит хрусталями голоса Тамара – «первый сюжет». Наш «Рай» обращается в обычный лагерный ад. И тут я поднимаю голос в защиту «старухи». Я уже обрела симпатии всех, ибо никому не завидую, не охаиваю, не поучаю, а главное образованнее всех этих профессиональных и самодеятельных деятелей сцены (кроме Магды и Альфредовой). Мой «хороший характер» безоговорочно признан всей труппой. В ее женском составе безусловно интеллигентны немногие: среди них режиссер Розенель Альфредова, с манерами светской дамы и гнусавинкой «под Савину», – режиссер, дружно ненавидима всеми за нрав злой и завистливый как и подобает актрисе провинции. Столичных – Морскую и прибывшую к нам бывшую актрису Мейерхольда, не выносит и ролей не дает. Даже меня в пример им ставит, хотя на первых же порах сказывается моя «профессиональная непригодность» – я, как и в киселевском театре, забываю отдельные слова ролей. Где моя «клинописная», как говорили обо мне прежде, память? Мне Альфредову жаль, и я ее всегда защищаю: кроме театра она ничего не умеет, не любит и даже здесь, где театр – спасение жизни, профессионально выживает хороших актрис. Когда я после многих неудач по-настоящему заиграла в Галчихе, так, что товарищи толпились за кулисами смотреть меня, Саша – актер сказал мне: «Ну, – вы заиграли, теперь она Вас съест». Однако она тайно во многом помогала мне, как впоследствии оказалось, вероятно, потому, что из дилетантов я все-таки была самой просвещенной, и наши оккупационные судьбы были схожи.
Актрису «концертных номеров» Морскую она оставила лишь чтицей концертной труппы. Та была типичной элитной актрисой, столичной и весьма просоветской барыней, работала чтицей в концертах с Максаковой. Здесь держалась от всех обособленно. Еврейка, она считала нас с Альфредовой, да и всех «настоящими» преступниками, себя – попавшей «по недоразумению», по особому совещанию (без суда) ни за что. Мозг актерский – куриный. Когда ее по проискам Альфредовой первую этапируют из совсем закрывающегося театра (за полгода до моего освобождения) Морская недоуменно спрашивает: «А как же народ без меня?» (то есть без ее искусства). Она вообще ничего не понимала, что с нами делают. Верила всем «парашам» об освобождении. Однажды зашел к нам в комнату генерал НКВД. «Послушайте, генерал, – сказала Морская с интонацией гранкокетт, – Я хочу домой!» – И это у нее прозвучало как: «Послушайте, милейший!» – Генерал посмотрел обалдело на истинную даму, женственно-очаровательную старушку и мягко сказал:
– Домой? Ну, скоро вы поедете домой!
После этого Морская захлебывалась: «Сам же генерал сказал!» Когда я скептически отозвалась, обернулась ко мне гневно: «Вам, конечно… у вас – преступление, а я поеду домой!»
Но все более частые замечания генералов о свободе свидетельствовали, что какие-то перемены, видимо, готовились еще до смерти Сталина.
Морскую посадили, возможно, ради того, чтобы завладеть ее имуществом. Подобная история случилась с близкой театру (не актрисой) Ксенией Павловной Сабининой, еще в Ленинграде вращавшейся в кругу крупнейших певцов и артистов. Я потом встречалась и дружила с нею в Пятигорске, куда она приезжала лечиться. После смерти ее мужа-профессора, очень крупного, она жила на большую персональную пенсию в квартире из 5 комнат. Все это понравилось некоему ее знакомому прокурору НКВД. Ей дали 5 лет ОСО[25]25
Особое совещание, т. е. без суда.
[Закрыть] с конфискацией имущества. По амнистировании и реабилитации 1953 г. имущество полагалось вернуть, но так как оно было уже «реализовано», возвращали в деньгах. Оказывается, в актах изъятия эраровский рояль был оценен в… 50 руб. (старых!), алмазные кольца в 20 руб. и т. д. (чтобы энкаведешникам было легче приобретать все это себе). Однако, имущества в старой профессорской квартире было столько, что получив компенсацию, Ксеня безбедно прожила до смерти (в 60 гг.). Были снова у нее и песцы, и чернобурки, в старой же квартире поселился тот прокурор, а ей по реабилитации дали «площадь» в коммунальной. Подобные конфискации часто и были причиной осуждения невинных людей «по ОСО», без суда, вроде бы как «изоляция потенциально инакомыслящих».
Забавная история произошла и у Магды Мацулевич. Ее посадили с сыном. Ее – с конфискацией, его – без оной. На нее записали все ценное в доме, ему оставили старые, траченые молью дедовские фраки. Но удалось приписать ему два фамильных дорогих кубка. Парных. По освобождении Рюрик пошел получать свое «взятое на сохранность» имущество. Один бокал отдают, другого – нету! Пошел жаловаться на дом к прокурору. Доложили. Ждет в передней. И в горке с хрусталем видит свой второй кубок. Он его сам вынул, и не дождавшись приема, ушел. Прокурор его не искал: наступили и для них неприятные хрущевские времена, растерялись они временно. Так же в этот период через «Прокуратуру по надзору за действиями НКВД» (в Москве) мне удалось вернуть буквально отнятые у меня при поездке на свидание с мужем в Воркуту антикварные книги, предназначенные для продажи в Москве, чтобы окупить поездку. Это было почти полное собрание сборников Гумилева, прижизненные Ахматова, Кузьмин, Мандельштам, Ходасевич. Прокурор в Москве на мою жалобу, засмеявшись, сказал даже: «Ну, эти парни просто хотели пополнить собственную библиотеку таких изданий».
Вернусь ко временам «театральной шарашки». Вдохнув по приезде запах лака, я под предводительством администратора Володи, чудного природного актера-эксцентрика, иду получать одежду. Новые по ноге(!) ботинки, теплое для гастрольных поездок белье – Все новенькое! И в тот же день получаю две роли. Старух. Одна – знакомая – тетка из «Женитьбы», другая – Лукерья – из «Свадьбы с приданым», пьесы, которую не знаю, следовательно, роль учить трудно. Это режиссер Альфредова испытывает меня на «профессионализм» учить роль механически, чего я вовсе не умею.
Лукерья не дается. Воспитанная на экспрессионистском театре, я не умею двигаться по-старушечьи. «На дворе зима, у вас замерзли руки», – говорит мне режиссер этой пьесы Храпко. Я тру пальцы. «Но вы же старая, пальцы у вас не гнутся…» Черт их знает, как гнутся пальцы у старух! После многого сраму я обращаю Лукерью в разбитную воровитую и лукавую пожилую бабенку. Нечто получается. И Галчиха мне удалась, потому что я играла не старость, а безумие. Три мои роли с гаданьем, с картами. Я не умею тасовать. Днями хожу и тасую картоночки. После первых же спектаклей Храпулечка приносит мне подарок блатных зрителей: почти целая колода новеньких карт. Я не умею давать фальшивый подзатыльник. Дормидонт жалуется режиссеру, что я его хлопаю «по-настоящему». В общем, такая «техничная» у Райзина, здесь я «мелочь пузатая». Но меня в труппе любят и помогают. Прекрасный артист Нилыч, сотрудник Альфредовой по смоленскому театру, где они попали в оккупацию (вина их была в том лишь, что для немцев играли и Альфредова забирала себе «молодые роли»), учит нас гриму, чего я совсем никогда не умела. Альфредова много дает мне как старая профессиональная актриса, хотя и глубоко провинциальная.
Но у Райзина я играла «от себя», выпадая порою из ансамбля, в этом профессиональном театре при его весьма реалистической манере, я не чувствую себя ловко. Я не вижу себя старухой! Я не вижу себя Любовью Яровой, которую Альфредова дала мне лишь потому, что просто некому было дать – оставалось все меньше актеров! А мне бы Дуньку, Горностаеву, бабу, ищущую сына! Я же не «героиня»! Так в этом театре я и не обрела свае «амплуа», хотя по мере распада театра получала и «хорошие» роли. Но если у Райзина было горение искусством, поиски образа, муки, здесь театр и работа в нем – только спасение жизни!
И все-таки это была радость, воссоздавая чужие жизни, уходить от своей, истлевшей дотла. И муки своего несовершенства в образе (хотя зрители меня полюбили), своего неумения, которому не помогали ни эрудиция, ни «система» – тоже было счастье творчества, такое немыслимо редкостное в лагерях!
Когда за несколько месяцев до моего освобождения театр совсем ликвидировали, Альфредова помогла мне остаться в Маргоспитале сестрою, хотя медперсонал называл меня «артисткой».
Все же я осталась в более-менее интеллигентной среде.
После освобождения, два года не находя работы в Пятигорске (нас, бывших узников по 58-й статье на работу боялись брать), я обратилась в Маргоспиталь за справкой, что у них работала. Мне написали: «…в заключении использовалась в качестве медицинской сестры». С такою «рекомендацией», естественно закрыты были все пути. В паспорте в графе «соц. положение» было написано: «рабочая».