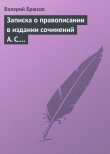Текст книги "Это мы, Господи, пред Тобою…"
Автор книги: Евгения Польская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 40 страниц)
Наш переезд «на квартиру» был первым выходом Воскрешенного из лабораторных стен в живой мир. Сначала предполагалось даже, что Пушкина перевезут во сне, но все участники реанимационной группы восстали: не Людмила же он из поэмы, неужели не понятно, как огорчится сам поэт. Все хотели сделать ему приятное, доставить радость. Один Бородин ворчал: «Эта поездка – шок!» – и оттягивал выезд всемерно. Только нараставшее раздражение пациента своим пленением заставило его согласиться наконец с психологами, считавшими, что столь сильная положительная эмоция будет спасительнее промедления.
Ехать решили через всю Москву. Я принес новый ее план и старый, его времени. Он искал знакомые места, но вполне принял неизбежные потери реконструкции, заметив, что они были во всей человеческой истории. В пути Бородин разрешил только две короткие остановки: на площадях Красной и имени Пушкина с памятником.
Перед рассветом безоблачного утра, когда улицы столицы немноголюдны, мы отправились. Я – шофером, рядом со мной Пушкин, сзади Бородин и институтский врач с аппаратурой для скорой помощи. Перед посадкой в электрокар наш старик, для которого вся жизнь души была конгломератом атомов, молекул, клеток, потихоньку перекрестился по старому обычаю, о котором и узнал-то от Пушкина, поэт же, называвший себя афеем, перекрестился радостно и широко, произнес: «Ну, с Богом!» и потребовал: всем троим обязательно присесть.
Мы медленно кружили из улицы в улицу в самом сердце древней столицы. Гасли огни реклам. На зеленеющем небе розовели верхушки высотных зданий. Шуршали машины, убирающие улицы. Пушкин сразу узнал возникший из предутренней мглы Пашков дом, порадовался, что нынче в нем библиотека. Называл знакомые башни Кремля.
У Спасских ворот Кремля – Пушкину уже рассказали, что это музей – стояли группы людей, с ночи занявших очередь на вход. Он с трепетом вглядывался: первые «обыкновенные люди», которых он увидел в массе. До сих пор общался лишь с белыми халатами и смотрел фотографии да фильмы, Увидев одежды по нынешней моде из тканей разного цвета, спросил наивно: «Они паясы?» Отметил в толпе множество не русских лиц. И совсем умолк, удивившись количеству «простого народа», желающего проникнуть в «музеум». Я рассказывал: многие уголки страны памятны, мемориальны. Его Михайловское, Болдино, Тарханы, Ясная Поляна…
Пушкин всегда был озабочен судьбою художника в обществе и сейчас смеялся, довольный: Выше царей нас поставил просвещенный народ, наконец!» Я сказал, что теперь и он сам может очень помочь восстановлению подлинности мемориальных мест, которые мы обязательно посетим.
– Не сразу, не так скоро! – поспешно прервал меня Бородин. А Пушкин вдруг высказал мысль, что теперь, после опыта с ним, не попробовать ли ученым воскрешать целые группы из одного исторического времени и населять ими заповедники. Тогда в народе соединятся не только люди разных сословий, но и поколений. Правда, это совершенно разрушит и математическое, и житейское представление о времени прошедшем и настоящем. Но хорошо было бы… Он бы хотел до этого дожить… – Бородин очень внимательно прислушивался.
– Это был бы говорящий и мыслящий музеум для вас всех, – Пушкин как-то иронически хохотнул, запрокинув кудрявую голову, и я ощутил всей кожей, как одиноко, как жутко и больно ему на просыпающихся улицах столицы, которые он мысленно населял призраками своего времени.
И догадал меня черт, не спросясь Бородина, остановить машину перед особняком Шевырева со старым памятником Гоголю. Пушкин сразу же обрадовано узнал дом.
– А это кто, узнаете?
Выпуклые глаза скользнули по склоненной бронзовой фигуре и вспыхнули. Он оторвал от руля мою руку, стиснул ее, вскочил и задохнулся: «Гоголь!» И заметался, не умея открыть дверцу машины. Бежать! К Гоголю! Он хотел обнять, хотел ощутить хоть бронзовую плоть современника, рвал и толкал непослушные рычаги. Куда девалась присущая ему светская выдержка! Врач с заднего сиденья сказал недовольно: «Ну, если так волноваться, – мы повернем обратно!» – И впервые гневно закричал Пушкин: «Я не школяр, милостивый государь! Смеете ли запретить мне, живому, настоящему, как пытаетесь меня уверить, волнение при виде друга… Его при жизни мне больше не…»
– Голубчик, Александр Сергеевич! – завопил Бородин, злобно покосившись на бестактного доктора. – Он же не как наставник, а как врач… Я не узнаю Вас, милый. Я ведь предупредил, что понадобится мужество! Вам предстоят еще более сильные впечатления! – и, вырвав флакончик из рук врача, дал Пушкину понюхать содержимое. На деле Бородин был рад: мы знали, Пушкин был вспыльчив. Еще одна черточка прорезалась. Я запомнил, как затрепетали крылья носа, побелели губы, кровью налились потемневшие глаза, как гордо вскинулась голова. На желтоватой коже проступил чугунно-фиолетовый оттенок, подобно тому, как из-под лиссировки в живописи проступает подмалевок.
– Бесчувствие не есть мужество, Николай Степанович, – успокаивался Пушкин. – Однако слушаю и повинуюсь. Прошу извинить, – сухо поклонился в сторону врача. – Так хотелось подойти…
– Да Вы успеете это сто раз потом. Я, напротив, с радостью наблюдаю в вас проявление истинного чувства. Но только нам надо спешить. Москва просыпается, на улицах толчея будет, и Вы толком ничего не увидите.
Приподняв шляпу, Пушкин протяжным взглядом простился с Гоголем.
– А теперь Вы увидите… себя, – предупредил я.
Свидание с собой, которого Бородин особенно боялся, прошло ровно. Он спросил и записал фамилию ваятеля, я коротко рассказал о торжествах открытия, прочитал во взятой с собой книге отрывки из речи Достоевского. Поэта особенно тронули слова, и он нашел их верными, об его, Пушкина, уповании, что «только в одном народе обретем мы всецело русский гений». Он, как откровение, слушал без всякого жеманства слова другого великого писателя о себе, о «мировом значении» своего гения. «Пушкин – наше все!» – читал я, а он только прошептал: «Господи! Неужели?.. О, как я обязан…»
Я понял его мысли: здесь, сегодня, Пушкин-человек, снова вступивший в жизнь, ощутил бремя страшной нынешней ответственности своей перед народом. Таким, каким приняли его потомки, он обязан остаться и теперь. Справится ли он с таким великим грузом, какой возложила на него родная история? Под силу ли ему, нынешнему, такая ноша?!
Мы думали, свидание с бронзовым двойником – ему радость, а это был первый надлом.
Обошли памятник кругом, спугивая голубей: «Голуби – это прекрасно: от времен библейских – символ порядка и мира.» Он бросал горстью взятое для этого случая зерно и стоял среди птиц, шевелившихся, гулявших у его ног. «Поминайте, поминайте Пушкина!»
Спросили его, понятна ли ему сама идея, мысль скульптуры. Он на миг задумался:
– Среди шумных улиц, среди кликов молитвенных и пиршественных бродит поэт, погруженный в думы о бренности жизни и вечном ее обновлении. Не так ли?
– Вы сами выразили эту мысль, – вступил в диалог Бородин. – Брожу ли я вдоль улиц шумных…
– Ах, да! – сказал поэт рассеянно.
И переглянувшись со мною, Бородин стал озабочен: все чаще подтверждалось, что Пушкин все еще не помнил, не знал собственных стихов, хотя, как мы заметили, чувства и раздумья которыми они были вызваны помнил и осознавал. И память такая сохранилась не в подсознании, а еще ближе. Он и сам, конечно, уже догадывался об этой своей ущербности, потому что, садясь в машину, как-то горько усмехнулся: «Сегодня я пережил собственный триумф. Но стоило ли вновь родиться только для этого? Не кажется ли вам, что этот бронзовый господин более настоящий, чем я?»
Потом я неделями наблюдал, как, оставшись один, поэт листает свои томики и шепчет что-то, закрыв глаза, время от времени заглядывая в книгу. Это он учил наизусть собственные стихи, как учат урок, чтобы запомнить их и избежать возникавших в разговорах неловкостей…
Москва совсем пробудилась, и Александр Сергеевич уже холодно смотрел, как проплывают мимо ускорившей ход машины неведомые ему люди, покамест чужие и непонятные – его народ.
Равновесие ему вернули только природные пейзажи Подмосковья, памятные отчасти.
Пушкинисты отдали бы жизнь за малую часть того, что я от него узнал о нем самом и его времени. Историки взяли бы меня в осаду, чтобы раскрыть «белые пятна» эпохи. Для меня одного все, что было гипотезами, стало фактами. Крупное – утаю, но, к примеру, я точно узнал, что до смерти он имел эпистолярную связь с декабристами, таинственные щепочки в его шкатулке были остатками от виселицы пятерых казненных, он, действительно, виделся на Кавказе с Бестужевым, и царь, действительно, вычеркнул из «Путешествия в Арзрум» отрывок об этой встрече. От кавказоведов, столь любящих Пушкина, не скрою: он знал Шору Ногмова. Этим и ограничусь. Тайна – так тайна!
Загородный дом наш был обставлен совсем по-современному и оборудован всеми чудесами нынешнего домоводства, так что житейская сторона не брала времени. Собственно, дом – это была библиотека с кинозалом, экранами, пультами, удобными кабинетами. У него был свой, особый, личный, в котором он мог запираться и быть один, если хотелось.
– Едите вы невкусно и невдохновенно. Я не был ни обжорой, ни особым гурманом, но нельзя ли заказать… – Я заказывал блюдо, прилагая иногда и рецепт приготовления. Знай повар, для какого «иностранца» он готовит, на него, быть может, и снизошло бы «вдохновение», но он пускал в ход свою кухонную машинерию, брал строго установленное количество калорийных продуктов, полученных тоже способами индустриальными, угасившими их первозданный аромат и вкус. Александр Сергеевич, отведав, говорил: «Не дышит!»
Бородин, конечно, тревожился, но пациент уверял, что «съедобная сторона жизни» ему – ништо, что к нашей «механической пище» он привыкнет, а наш цветущий вид ему порука, что с голоду не умрет. Зато восхищался вкусом и размером фруктов-гибридов: «Смотришь – антоновка, на языке – груша и цитроны, а виноград жалко подносить ко рту, так красив».
– А что это за цветочек? – спросил о дикой ромашке. Оказывается, в его время полевых ромашек в России не было, я узнал потом, их завезли позднее, кажется, из Америки.
Бородин обещал ему поездку на Кавказ, о котором он скоро затосковал и мечтал: там мы обычным ножом освежуем барашка и на обычных углях приготовим сами шашлык и запивать его будем «нардзаном»! Он не знал только, что и вкус кавказских барашков – не тот, и пенный нарзан – не более, чем «святая водица».
Теперь я постоянно видел его совсем близко. Он быстро утрачивал архаизмы и галлицизмы, придававшие вначале особое очарование его речи. К удивлению, его раздражало обилие слов с корнями латинскими. Противник шишковистов предпочитал словообразования русские, типа «самолет». Ошибаясь, называл паровоз пароходом, как говорили в его дни. К нашей радости, все чаще говорил не «у вас», а «у нас». Первоначальное детское, некритическое восприятие нового сменялось бурей собственных понятий и суждений.
Его современники, воспитанные на образцах красоты античной, рисуют Пушкина некрасивым. И сам он писал: «Я собою весьма неблагообразен». Он же оказался прекрасным. Это были черты красоты всечеловеческой, соединившей облик двух рас. На одухотворенном постоянной мыслью лице – среди наших поэтов подобного не могу назвать – ярко выделялись живые выпуклые глаза, похожие на виноградины, меняющие тона от светлого в задумчивости до темного, если сердился. Ни один его портрет не похож, – то есть не передает пластику его лица и тела с движениями быстрыми и решительными, но не суетливыми, – то, что прежде называли грацией – ничего лишнего. В этом, пожалуй, было главное очарование облика, проникнутого врожденным аристократизмом, выделявшим «иностранца» даже в толпе.
Сотрудники Бородина все стали «пушкинистами», знали наизусть его письма, воспоминания о нем, и сравнивали живое с напечатанным. Характер впечатлительный, импульсивный, сосредоточенный и вместе детски-непосредственный полностью совпадал с образом, оставленным историей. Характер подлинного поэта. Однако все его непосредственные движения были закованы в панцирь воспитания светского, что особенно отличало его от нас.
Присущая ему, вернее, исходившая из него, учтивость порою переходила в колкость. Однако воспитанное высокое чувство такта, что в прежние времена называли «светскостью», не позволяло сделать колкость обидной.
Ни тени мещанской спесивости, высокомерия в общении!
Даже после того, как осознал свою историческую значимость. Прелесть его натуры составляла еще и простота, даже простонародность, но я бы назвал ее аристократической, по сознанию достоинства своего и собеседника. Облик излучал обаяние ума, таланта, доброжелательности. «Светлый человек», – сказал о нем Бородин. Со мною он был удивительно ласков и, если обидит, не находил себе места.
«Состояние сословий» в нынешнем государстве особенно долго его занимало, и привычные градации долго мешали правильному общению. Бородин от своего босоного детства сохранил деревенские манеры и лексику, был небрежен в одежде, и Пушкин однажды назвал его «лекарь», хотя уже признал гениальность, научное «себяотвержение», сравнивал с Ломоносовым, порою кидался подать старику пальто или поднять оброненную вещь. Садовника-аспиранта Института – «иностранец» не раз называл «на ты» и спросил как-то: «Ты жид?»
– Как я понимаю, образованные и ученые люди составляют нынче аристократию нашего народа? Не так ли? – Особенно радовался обилию интеллигенции у прежде отсталых народов: – «Я знал, что так будет!»
Само слово «интеллигенция» его пленяло. Оно и прежде было знакомо, но то, что так называют «целое сильное сословие критически мыслящих личностей», было для него внове. «Какое слово точное! Я всегда гордился своим высоким дворянством, оказывается, я был интеллигентен, как простолюдин Ломоносов, дворянин Радищев, офицеры-декабристы, Кольцов, вышедший из мещан…»
Однако сознание себя аристократом долго держалось. Он знакомился с событиями октябрьской революции, и я припоминаю диалог:
– Тогда у Вас, как у французов провозгласили: «Аристократов – на фонарь!» Но как же сохранился ваш княжеский род?
Я рассказал, что отец мой, офицер, принял участие в революции на стороне большевиков, княжество свое не обнаружил… Мало ли Вяземских… Немногие знали… И назвал имена других родовитых дворян, тоже оказавшихся с большевиками.
– Скрывать свой род, вместо того, чтобы им гордиться! – Пушкин возмущенно вздернул плечи. – Я предпочел бы фонарь!
Вся его жизнь теперь была труд, в который он погрузился со страстью и наслаждением. День был расписан, как в пансионе. Еда, сон, медицинское обследование – все «обязательное» – мешали неустанному движению сознания, перерабатывающего новое, непривычное, чуждое и переоценивавшего все, что знал прежде. Ни малейшей небрежности не позволив себе в ритуале гигиены и обследований, он тотчас спешил к книгам, экранам, беседам со мною, лекциям Северцева. Очень быстро, так что мы дивились, вырастал умственно. В мир новейшей техники, приняв ее как данность, он не пытался проникнуть глубоко, довольствуясь скупой информацией, шутил над нею, припоминал «логическую машину», которую Гулливер увидал в Лилипутии. Его интересовало внутреннее состояние общества. Он уже не скрывал от меня, что «долбит» свои былые стихи наизусть.
Беседовать с ним было нелегко: даже европейски образованного академика Северцева он подавлял эрудицией, свободно цитировал классиков, Платона, Монтеня, Гассенди и многих, кого мы знали только по именам да общему значению. В спорах быстро увядал, не умственно, а психологически: «Мне следует принимать все, как оно есть. Задумываться и сравнивать нельзя. Сравнивать можно лишь близко стоящие вещи и понятия. Я в ваших глазах выгляжу, вероятно, как в моих выглядел бы летописец Нестор». Если ставил своими неисчерпаемыми знаниями Северцева в тупик, говорил мягко, что столько старых понятий и представлений утонуло в бездне времени, их в деталях помнить трудно, что и он ведь сам невежда в том, что знает Северцев.
Все ждали от него новых стихов. Проходили месяцы. Он не обнаруживал при все расцветающем блеске ума никаких признаков творчества поэтического. Свои старые стихи он уже знал и не терялся, как прежде.
Я прочел, наконец, ему свой роман о нем. Он почти не поправлял меня, только как-то особенно прислушивался, когда я касался непосредственно творческих мгновений, будто мучительно припоминал что-то знакомое, но позабытое. «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит», – повторил фразу, сказанную им некогда его портретисту Кипринскому. – Я был, оказывается, ленив и беспечен, даже в года зрелые, но, знаете, я был талантлив. Сейчас не то. Я работаю с удовольствием, как вол, но не нахожу в себе состояния, которое влекло к созданию стихов. Я его жду – не приходит…
Так он признался мне одному, интимно, что давно сам заметил свою самую большую ущербность.
– Я тогда точно выразил это:
Душа стесняется лирическим волнением,
Минута – и стихи свободно потекут…
– И вот не могу более вызвать это состояние, как раньше. Неужели муза меня покинула навсегда!? – Глаза его наполнились ужасом, он зарыдал глухо, без слез, будто застонал, протянул ко мне с мольбою затрепетавшие руки, обнял меня, приник: помоги! Защити!
Я стискивал мелко дрожавшие плечи и, собрав всю силу любви к нему уверял, что вернется, что покамест он подавлен лавиной узнаваний, она отодвинула органически ему присущее. Это неудивительно. Так должно. Все, все придет, вернется…
Я утешал, обнадеживал, но кому как не мне было уже совершенно ясно, что в личности Пушкина есть и другие изъяны – «раковины» в воссозданном сплаве мышления. Например, он не подозревал о существовании таблицы умножения, хотя практически пользовался ею постоянно. Не знал названия отдельных безусловно ему известных предметов, как салфетка, стакан. Бурно тоскуя по друзьям своей первой жизни, почти не вспоминал Натали, детей, хотя, как мы видели, понятие рода своего в нем сохранилось.
Об этих изъянах я рассказывал Бородину. Более всего нас беспокоило главное: не писал стихов, старые приходилось ему напоминать, и это все всерьез начинало тревожить его самого. Повергало в ужас.
Видимо, где-то на атомном уровне что-то было утрачено при регенерации. Наука Бородина, стоявшая на уровне химии, физики, электроники, не справилась с загадочным миром живой души.
Но, сознавая опасность, ученый повторял: ждать!
А Пушкин был нетерпелив.
Гораздо быстрее, чем в мире социальном, Александр Сергеевич разобрался в мире художественном. К поэзии было отношение особенное. Страсть к ней не утрачена.
Еще в лабораторной комнате он попросил портреты друзей-поэтов, расспросил о судьбе его переживших и попросил оставить его одного «хоть на час». Наблюдающие аппараты показали, как он ласково гладил картоны и скульптуры, долго глядел безмолвно – прощался.
Знакомство с послепушкинской литературой мы начали с поэтов его школы.
Трепетали наслаждением веки, когда он плавно, слегка подвывая в манере своего времени, читал, смакуя каждое слово: «…И взором медленным пронзая ночи тень…» Ни одного неточного лишнего слова у этого мальчика! Никакой суеты, ни в мыслях, ни в картинах». Я указал ему на скопление звука «м» в сочетании «взором медленным»: не плохо ли? Он подумал мгновение: «Сам звук медленный, удвоение еще усиливает…»
В стихах своих последователей он профессионально отмечал «нарушения правил» – дисгармонию ритмическую, усечение и смещение стоп, разномерность строк. Размыслив, говорил, что такие «нарушения» усиливают музыку стиха, мощь и верность чувства, а «правила оставим классицизму!» Читал, наслаждался и все повторял: «Я бы так не сумел!»
Я смел с ним спорить. Привычный к лаконизму нашей литературы, начал было отстаивать ведущую роль существительного, назывных предложений. Он бурно запротестовал: это не художественно, не образно, как теперь говорят. Только прилагательное дает одушевление существительному. Если в «Пророке» он написал бы: «Серафим явился» – тупо. Не видно ангела! Это то, что нынче зовут информацией. А вот коли «шестикрылый» – это чувственно: и ангел слетает, и слышен грозный шум многих крыльев. Я вынужден был согласиться, а он тоскливо сказал: «Умел же прежде старик!»
Но особенно поражены мы были с Северцевым, когда дали ему стихи поэтов-новаторов. Мы думали, он захохочет, возмутится, назовет «вовсе не поэзией». А он вскоре, потрясая томиком Маяковского, кричал: «Алла керим! Этот лирик соборности находит совершенно окровавленные слова!» Не сразу, конечно, но звукозапись Хлебникова, ритмику Цветаевой, метафоричность Пастернака и раскованный упругий стих Леонида Мартынова принял, как должное. Поэт угадывал поэта, во все времена ищущего, как полнее выразить «неподвластно выражению». Не все в новой поэзии ему нравилось. «Ну, это – рукотворное!» – говорил тогда и откладывал книжку. Грустил, что стихи современных поэтов утратили «русское начало», что «русская песнь» нечасто прослушивается в новой поэзии. Все национальное русское его глубоко трогало. Мы дали ему Есенина, «Скифы» Блока, «Двенадцать». И поэт, пришедший из глуби истории, самостоятельно отметил, как в поэме Блока угрюмость, хаос бунта народного осияны образом ведущего Добра, так он сразу же разгадал неясный и для нас самих образ Христа. Это – русское! «Грубая» лексика не смущала: поэзии не к лицу жеманство. Хлебникова особо выделил, как поэта народных начал и в языке и в системе образов. Надо было видеть, как, вкусно причмокивая губами, читал ликующе: «Боролись тяжелые веки с глазами усталой Снегурочки…»
– Ясность смысла? Так ведь и Байрон не мог разъяснить некоторые свои стихи…
Доказывал Северцеву, как неправильно мы выделяем поэтические школы. Символизм? Почему особое направление? Смысл всякой поэзии в ее символизме: всякая вещь в художественном произведении всегда – идея или мысль. В этом и отличие поэтических представлений!
Все, понравившееся чужое, запоминал с первого чтения и цитировал постоянно. Всех, кроме себя. Любимым его стихотворением стало «Шестое чувство» Гумилева. Он все сравнивал его с «Невыразимым» Жуковского. Он снова повторял, что не сумел бы так выразить подсознательное рождение поэзии и трагизм бессилия поэтического: «Кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства…» Усаживаясь за еду, читал:
Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится…
* * *
Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо.
Утратив «орган для шестого чувства» – творчества, Пушкин все более и более мучился поэтическим бесплодием, уже никак не скрывая этого. Все чаще говорил: если «оно» и вернулось бы, он все равно не сумеет писать так, как научились теперь поэты, не смог бы столь точно выразить «тайну мысли». Гений, который всему в нашей литературе был началом, понимал, что он нынче – «анахронизм на ножках» (шутить он еще не разучился).
Со временем я заметил, что он тайно пишет ночами что-то свое. Ящики его бюро теперь всегда были заперты. Я сделал ему больно: спросил, не посещает ли его вдохновение? Он буркнул сердито: «Не посещает!» И прибавил с обидой: «Вы будто вынуждаете меня сочинять… Видите, я не бездельничаю, тружусь, сколько могу, но все покамест для собственной утробы, не то, что прежде. Я вас поэзией, видно, не смогу отблагодарить ни за воскрешение, ни за хлеб…»
Хлеб для Пушкина! Не отдала ли бы страна многие свои сокровища, чтобы он только был счастлив, он – «наше все»! Но Пушкин страдал! Зрачки его стали расширены, как бывает при постоянном ужасе, затаившемся глубоко внутри.
К этому времени мы были с ним, как одно. Я восхищался его умом, природным артистизмом, целовал ему руки виновато, если сердил чем-либо. Он бросался целовать мои. Ласкался как женщина, как ребенок. Так бывало у него с Дельвигом. Старался обрадовать меня, чем умел – новым правильным суждением, хотя бы. Он так доверял мне, называл единственным другом в непонятном мире, где без меня погиб бы от одиночества. О нас двоих говорил «мы», ученые попечители были – «они». Каждая его боль становилась моею.
Я уже предавал интересы Науки, когда выключал аппараты-шпионы, если он был доверителен. Но на этот раз… О, подлость! Я рассказал о замеченном новом виде тайного труда Бородину, и он приказал любою ценою увидеть писанье Пушкина. Ценою стало предательство – подглядеть то, что утаивала даже от меня эта искренняя душа.
Я обманул его, сказал, что уеду на весь день, и, пока он подвергался ежедневному обследованию – я подло предусмотрел, чтобы он не вошел внезапно, – как мерзкий вор, прокрался в его комнату с заранее приготовленными вторыми ключами. Подлая рука, которую он дружески целовал, открыла его бюро.
Там беспорядочно были разбросаны тетради и листочки, исписанные знакомым летящим почерком, покрытые набросками рисунков, среди которых мелькало и мое лицо. В тетрадях были переписаны его собственные старые стихи.
Зачем? Пушкин постигал себя прежнего? Пытался войти в привычные ритмы? Или переписывал, чтобы легче их «выдолбить»?.. На листочках были отдельные невразумительные строчки, слова, столбики рифм… а чаще мелькало: «проба пера… А. Пушкин… проба пера…» Вот и все.
Я снова запер ящики и едва удержался, чтобы не пустить себе пулю в висок. Великий Пушкин становился жалок…
Но он совсем не выглядел жалким, когда сидел за книгами. Его суждения о прочитанном, узнанном были неисчерпаемы. Прозу он начал изучать с «натуральной школы», которой оказался родоначальником, о чем узнал от меня, и удивился: он позабыл о «Повестях Белкина». Многие проблемы прозаического творчества были им уже поставлены в прежних критических статьях и высказываниях, он их и нынче отстаивал.
– Зачем такую манеру зовут «потоком сознания»? Вряд ли кто думает с придаточными предложениями. И почему так длинно? Тут в каждой фразе торчат уши автора. Хвала ему, что умеет передать мысли и волнения героя, мы так не умели.
Не мирился с нашей классификацией жанров и направлений, впрочем соглашаясь, что это нужно для нужд педагогических.
Не берусь передать блеск его суждений, часто развивающих его прежние собственные критические и облеченные в поэтическую форму мысли. Но ввести его в границы наших представлений и толкований было почти невозможно. Только о границах документальности и вымысла, особенно в жанре историческом, мы с ним спорили, как современники.
Северский первый заметил, что Пушкин все больше теоретизирует, проявляя все большую ученость. Он стал предпочитать критические статьи: они лучше раскрывали ему «степень высоты всей литературы». Вначале его обрадовало, что критика перестала быть «частным суждением», стала оружием идеологического воспитания, но затем он стал утверждать, что такая «государственная», как он говорил, критика с «заданными» мнениями стирает подлинное лицо художника и мешает читателю. Творчеством же управлять нельзя.
Суждения его все чаще становились негативными. Так, он однажды спросил меня: так ли в нашей жизни все безоблачно? Неужто нет и теней! – Я дал ему несколько современных романов, сохранивших следы реализма критического, но он сказал, что у нас много осталось от его времени. И «прямо учуял», где «старая его приятельница – цензура» «когтями вырывала» куски, и многое у писателя осталось недосказанным.
Фундаментом его самостоятельных суждений была его огромная, непостижимая даже Северцеву эрудиция и прошлый опыт в формировании его собственных мнений, часто непоколебимых. Все-таки, вмещая новое, он оставался мыслителем своего времени, наше не вмещалось в ум.