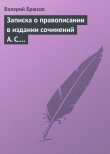Текст книги "Это мы, Господи, пред Тобою…"
Автор книги: Евгения Польская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 40 страниц)
Польская Евгения Борисовна
Это мы, Господи, пред Тобою…
Предисловие «в стол»
Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли…
О. Мандельштам
«Там много такого, что человек не
должен видеть, а, если видел, то лучше ему умереть».
В. Шаламов
В художественном училище на экзамене по анатомии экзаменатор указал художнику-студенту на глазные отверстия черепа: «Что это?». Глаза», не замедлив, ответил художник. (Книга «Коровин рассказывает»).
Художник ли я, чтобы в уцелевшем костяке своих житейских воспоминаний увидеть и воскресить живую плоть ушедшего, вернуть ему колорит, цвета и запахи? Сумею ли, литературный мануфактурщик, рассказать о школе ненависти, в которую попала неволей? Может и писать не стоит? Не «ту райт», как писал Л. Успенский? Но он же заметил, что рядовые документы эпохи важнее, к примеру, записок Наполеона. И хотя надежды опубликовать это я не вижу – пишу «в стол», все-таки решаю «ту райт».
Долг, руководящий мною во второй половине жизни, требует от меня, не воплотившей свое бытие ни в чем, даже в детях, умножить статистически среднее число «несгорающих» рукописей, из которых кристаллизуется подлинная истинная история времени, а не политически конъюнктурная ложь, охватившая мир, как огромная политическая реклама.
Бездарно, стихийно прожитая жизнь требует от меня именно вот такого воплощения. Копошенье комара во время перелома эпох, миллионная доля атома – эти мои записки, в центре которых одна судьба, един угол зрения, где герой – я сама, И не встречи со знаменитостями – таких воспоминаний множество, – а мой народ, с которым сблизилась я – осколок кичливой русской интеллигенции. Именно та его часть, которая «попала под колесо истории». Такой формулой было принято в мои студенческие времена называть тех, кого изгоняли из вузов за «социальное происхождение», кого сажали в роковые тридцатые и сороковые, и пятидесятые, ломая хребет, волю и дух. И те, кто это колесо вращали, подобно рабам древнего мира, мои герои.
Жизнь моя столь богата контрастами, что и сейчас, в глубокой старости, мне кажется, я вместила несколько различных жизней. Здесь же причина, почему я осталась дилетантом во всех с детства облюбованных областях.
Но самое тесное слияние с народом – в сфере вращения пресловутого «колеса» – годы вкупе с отбросами общества, которых в моей стране совсем недавно называли «социально близкими», и коих дало мне в подруги мое государство. Правда, в этой школе ненависти я научилась и любви, и жертвенности в пору самоотверженной моей работы для людей.
Как раздражала иногда «Сибирюга»! Особенно названия населенных мест, какие-то особо «грубые» – Тырган, Юрга, Пестерево… И я противопоставляла им наши прилагательные, редко произносимые, пока была «москвичкой»: Белореченская, Отрадная, Недреманная, Прохладная… Однажды вольная врачиха Зинаида Павловна сказала мне: «Сделайте это внимательно, хорошочко». Я ее за это «хорошочко» чуть не поцеловала: так в наших южных краях говорят крестьянки (она и оказалась уроженкой Ростовской области). Так в Сибири возникло во мне чувство моей южно-российской «малой родины», утраченное было в период столичной и крымской жизни; Чувство, воскрешенное казачьими связями в период войны и владеющее мною целиком ныне, в старости.
Что это будет по жанру? Мемуары? Но здесь не будет хронологической плавности. Роман? Может быть! Судьба послала мне «сюжетную» жизнь. Тогда бы в завязку следовало положить приезд из блокированного Ленинграда моего будущего мужа в предоккупационный Ставрополь, когда отец принял его за нищего. Это могло быть завязкой романа о том, как люди переходили в категорию «второго сорта».
Однако миллионы переходили в этот сорт без причинных связей, как мы, послевоенные.
Завязка моего сюжета в грохоте танков немецкой армии в ночь на 2 августа 1942 года. В ночь, когда я осознала, что по бесчеловечным законам правительства, которое я вроде бы до этого безоговорочно принимала, перехожу во второй сорт.
Доминанта записок? – Судьба человека, брошенного на «социальное дно». О том, как несколько миллионов жили «в скобках» – лагерях, изолированные от интересов Родины, оккупированной потомками Нечаева.
Были ли у меня там, «в скобках», радости? Конечно. О них я также пишу. Главная – оказаться в обществе «себе подобных», в спасительной самоотверженности труда, и – как мне повезло – даже творческого. Не многие там получали такие радости, но мне они выпали и спасли психику и мою духовность. О них надо писать, иначе исчезнет течение времени, останется обнаженный ужас первых впечатлений. А ведь была жизнь!
Жалею ли я теперь эти утраченные, отнятые, самые продуктивные в гражданской жизни человека годы? Пожалуй, нет. Никакое доцентство, профессорство, сиявшее мне в довоенные годы, никакой социальный успех не насытили бы так моей биографии и моего гражданского сознания, как это случилось внутри «скобок» со мною. Это подтверждают многие, и сам факт появления Солженицына с его признанием, что только заключение в «скобки» (где ему, как и мне, не было так уж невыносимо плохо: не били, не умирал с голоду) подарило ему прозрение для борьбы с Голиафом самого полицейского в мире государства. Однажды и Илюша Качаев сказал мне: «Не жалею ни о чем. Мы увидели, узнали и поняли, сколько черви слепые не узнают». Я согласилась с ним, но мысленно добавила: «…и слава Богу, не сошли с ума».
По освобождении я как-то проездом шла по Москве, в начале 50-х годов еще мало изменившейся. Случайно встреченный на улице старый знакомый, вежливо сняв шляпу, на ходу поклонился и прошел мимо, будто не было этих 12 лет. Знакомые дома… переулки… этот вежливый поклон не позабывшего меня человека… А вдруг ничего не было?! Я так же иду по любимой Москве и так же встречные обтекают меня, только одета плохо. Но ведь и прежде случалось идти по улице не при всем параде… Так было или не было? Движение жизни как бы вернулось вспять. (Поэтому я включила в эти записки новеллу «Талон на порубку»).
Но все было! По улицам Москвы шла не только плохо одетая и уже не молодая женщина, но совсем другой человек – «второго сорта». И об этой все напоминало. Значит, ту райт! Значит, писать!
В первые годы по освобождении, не имея никакой возможности получить работу «на идеологическом фронте», я в Пятигорске продавала газеты. Подошел к киоску проживавший тогда в этом городе профессор Максимович, запомнивший меня по институту как заметную студентку. «А Вы что тут делаете?!» – удивился ужасно. Профессор был глух, и я написала цифру 58 (знакомый тогда номер политической статьи) и на пальцах показала решетку. Больше не подходил, и не из такта, а скорее из страха – нас, «пятьдесят восьмых», долго еще боялись и чурались. Первые годы мы с мужем вращались только в обществе «себе подобных».
«Никандр, устрой Женьку в какой-нибудь подмосковный театр», – попросила подруга-москвичка влиятельного в Комитете по делам искусств мужа. Он только посмотрел на нее молча и свирепо. «Остракизм» мы с мужем, вырвавшиеся все-таки на «идеологический фронт», ощущаем очень больно и до сего дня, несмотря на более чем тридцатилетнюю журналистскую деятельность.
Так что – все было!
5 мая 1984 года. С позабытым интересом читаю уже слабеющими глазами «Нюрнбергский процесс» Полторака. Судили одну половину фашистской системы, отвергнувшей все «предрассудки» мировой культуры, духовной и политической. И среди гневных филиппик Полторака все время рождаются мысли: а что, если б судить советскую половину этой же – принципиально – системы? Не пришлось!
Я читаю, как в Нюрнберге обмирал зал суда и даже сами подсудимые при демонстрации кино – и фотодокументов зверского режима, думаю: насколько предусмотрительнее самонадеянных, не стеснявшихся публичности немецких фашистов, оказались иудаистски осторожные советские «фюреры». Ведь никто не фотографировал ни массовых могил сотен расстрелянных и заморенных в лагерях, ни тайных пыток в НКВД, ни групповых изнасилований (например, Долли Текварян – той «знаменитой венгерской балерины», о которой вскользь упомянул Солженицын и которую я знала по театру), ни тех госпитальных палат с обреченными голодом на смерть – их были тысячи, – ни смерти крупнейших талантов (Мандельштам), ни того, как убивали побоями хлипких Бабеля, Михаила Кольцова, Мейерхольда. Я знала имена самых крупных, но их были сотни тысяч, имена же их – «Господи, ты веси». В воображении представляю, как убивали кулаками и сапогами здоровенного комсомольца – поэта Борю Корнилова: он, конечно, кидался на них первый. Так же убили бы и Маяковского, да он сам от них ушел! Где, где документы, неопровержимые, гибели тысяч и тысяч (на моих глазах – Томусинский лагерь). Все это осталось лишь в устных преданиях очевидцев, в которых вправе усомниться историк. Да и молодые плохо верят, что такое было возможно. Рассказы об этом Солженицына в «Архипелаге» его первая жена Наташа в мемуарах бесстыдно назвала «лагерным фольклором». Не иудаистское ли коварство советского фашизма, оставшегося абсолютно безнаказанным и только в наши дни открыто, но не без осторожности осужденного?! Ни протоколов, ни письменных «бефелей» не оставлено в их закрытых для историков архивах. Только карандашная записка за день до убийства Кирова о том, чтобы Сталину приготовили его вагон или состав для поездки первого декабря в Ленинград осталась документом его причастности к убийству.
Остались – но уже гаснут – лишь одинокие обвинительные выкрики пострадавших, да запоздалые заверения «в верхах», что «этого не должно быть». Вот эти записки Наименее Пострадавшей останутся этим одиноким выкриком, глухим, «в стол, с зыбкой надеждой, что «рукописи не сгорают».
Евгения Польская.
Пятигорск 1963 г. и 1984 г.
Часть первая
ДЕТИ ЗАПОМНИЛИ ЭТО
«Эх, вы! Вон сколько вас было – день и ночь везут вас эшелонами из-за границы.
Мы здесь за вас молебны служили… а вы про… Россию».
Из разговора со мною группы сибирских мужиков в 1945 году после репатриации.
Солнечный луч упал на шершавый пол землянки, на щербатые ее стены, где следы раздавленных клопов были тщательно забелены нами в ожидании Комиссии из НКВД. Луч озарил нашу убогую чистоту, какую возможно достигнуть в убогой землянке, обшитой неструганными досками и тесом. Это был детсад советского проверочно-фильтрационного лагеря (ПФЛ) для послевоенных репатриированных. Нас привезли сюда из Австрии через всю Европу и всю Россию, в самое сердце Сибири, в закрытых эшелонах в августе 1945 года.
Я держала нашу любимицу, грудную Наденьку над горшочком – просто самодельным ящичком с песком. Такие ставят котятам: никакого ясельного инвентаря в ПФЛ не было. А детей была масса, и почти все жили в яслях: с первых дней прибытия родителей «погнали» (с той поры для меня это почти профессиональное слово – «гонят», прежде так говорили о солдатах, теперь «гнали» пол-России) на работы – в запущенные шахты, на какие-то «земляные работы», словом, «искупать трудом вину перед Родиной».
В яслях были собраны дети разных возрастов.
Они вошли. Мои руки были заняты кряхтящим ребенком, я едва повернула к ним лицо, избоку увидела весь их форс и блеск. Но и что мне были эти генералы, вознесенные войною простейшие дядьки, «пущаи», как я про себя их называла, ибо уже заметила; все почти советские офицеры в Сибири на 30-м году советской власти говорили вместо «пускай» или «пусть» – «пущай».
– Уж извините, мы никаких комиссий принимать еще не умеем, – засмеялась я в толпу голубых околышей, петлиц и золоченных погонов. И, обтерев розовый задик, подкинула Наденьку в солнечном луче и показала комиссии. Крохотные кулачки потянулись к влажному ротику, и девочка бесстрашно воззрилась на группу ответственных товарищей в ненавистных нам, взрослым, мундирах.
И суровые грозные дядьки – каждый, я видела это – охнули внутренне, уронив привычные вельможные окрики, настороженность, все, с чем шли сюда глядеть на детей «изменников родины», «фашистских детей», и особенно вооруженные против их странной воспитательницы, как им сказали, «какой-то важной преступницы», писавшей в «фашистских» газетах, которая как им сказали мои непосредственные начальники, у детей не ворует и вообще почему-то «хорошая женщина».
Дети, столпившиеся за моею спиною, угрюмо взирали на «дядей», которые «мучат» их матерей и отцов.
– Поздоровайтесь с комиссией, дети! – сказала я старшим.
– Дластуйте! – снисходительно ответила басиком одна их всех, трехлетняя пузатенькая Женька Лихомирова, тупо уставившая в пол босенькие ножки. Комиссия засмеялась, а взгляды исподлобья, молчание остальных детей вроде бы не заметила. Потеплели лица советских особистов, чувство мира овеяло лица даже этих «псов государевых»: перед ними была Чистота человечества – дети, И я уверена, никто из них в тот миг не подумал: грудная Наденька «от немца» ли, «от власовца», полицая – в солнечном луче в убогих пеленочках я держала в руках мир и рай.
Для них – победителей. Нам же предстояло еще пройти уничтожение способами разнообразными и продуманными.
Дети – «над схваткой»? Я видела мальчика, сына советского, уже убитого офицера. Встретив первого немецкого солдата – сапоги, шинель, запах – ребенок с криком «папа» обнял колени врага. В условиях советской действительности детские косточки тоже похрустывали в схватке.
Я начала свой страшный рассказ сценами с детьми потому, что в труднейший период жизни моей только связанность с детьми, с их простодушными делишками, спасла мою психику и жизнь.
Дети репатриированных были ужасны. С родителями от Кавказа, от Украины они через Белоруссию, Берлин, Лемберг (Львов), Австрию попали в Италию. Их русские отцы либо сражались с партизанами на стороне немцев на Балканах, либо жили в Италии на территории, отведенной немецкими оккупантами для русских беженцев-казаков, отступивших от «большевиков» с немецкой армией или «угнанных» немцами с насиженных гнезд. Эти семьи пережили и ужас оккупации, и ужас отступления «перед нашими», и кошмар бомбежек с полной потерей имущества, и особенный ужас нашей кровавой и предательской репатриации из Австрии.
А как все началось?
В первый месяц войны чистый и светлый патриотизм охватил широчайшие российские массы. Я знаю очень антисоветски настроенных людей (например моя мать), которые готовы были пожертвовать для войны последнее столовое серебро, останавливала только моя мысль, что дар утонет в атласных начальственных карманах.
Первые недели позорного поражения всколыхнули чувства иные и показали, как непрочна популярность строя, называвшего себя советским. Целую четверть века строй служил своеобразной «фабрикой своих собственных врагов», культивируя в народе недоверие через пресловутую классовую ненависть.
Как ни маскировались репрессии, ни один из «приспособившихся», включая верхушку, четко выкристаллизовавшуюся ко времени войны и полностью уже оправдывавшую пословицу «От всех по способностям, нам по потребностям», не был уверен в том, что его «ни за что» не уберут в недра страны. Среди крестьянства почти не было семей, где не было бы репрессированных. Страна жила в «многобедственном страхе». Все это рассказано уже не раз и впервые, точно и правдиво, Солженицыным. В массы начала проникать мысль: «не может ли поражение СССР (не России!) изменить необратимую антинародную политическую ситуацию в стране?» По-настоящему боялись оккупации лишь партийная элита и евреи. Остальные не так чтоб немцев ждали, но, когда это свершилось, врагу внешнему доверились, в надежде при его содействии сбросить внутреннего врага. Сталин предавал не только свой народ, отрекаясь от пленных и оккупированных, он предал евреев, предопределив их на гибель. Они-то и должны были стать теми «советскими людьми», которых массово уничтожали оккупанты. Арестовывали тех, кто утверждал, что Гитлер поголовно уничтожает только евреев. Тысячи погибших от немецкого фашизма евреев послужили материалом для патриотической советской пропаганды:
Конечно, оккупация привлекла и «пену» – проходимцев, негодяев, садистов, авантюристов, но я говорю о массах. И в то же время оккупация пробудила настоящий патриотизм, давно выжженный лозунгами и официозным «советским»… Но это удлиняет рассказ о событиях, что ставлю главной своей целью.
Эвакуированная контуженной на обороне Москвы в южный городок, я была ошеломлена: обыватели немцев определенно ждали как разрушителей советского строя.
Ждали с разных позиций, даже оказались такие, кто помурлыкивал «Боже, царя храни». Тому, что твердила советская пропаганда об ужасах германского фашизма (оказавшимися справедливыми) не верил почти никто: ко лжи привыкли и уже не верили правде.
Особенно следует сказать о казачестве и близких к нему социальных слоях. Донское, Терское, Кубанское особенно враждебно было строю, сломавшему и поругавшему его вековые устои. Раскулачивание, голод, при котором вымирали станицы (у казаков отбирали все съедобное, даже семечки и жмыхи). Это были наиболее стойкие и бескомпромиссные противники той системы, которую с легкой руки Запада обобщенно именуют «большевизмом». Я и буду пользоваться этим обобщающим словом.
Зная о настроениях северокавказского населения – русской Вандеи – включая и горцев, немцы пришли сюда «миротворцами»: я сама читала приказ немецким солдатам, расклеенный (конечно, и для пропаганды) на улицах. Солдатам в приказе разъясняли, что здесь они на «дружественной территории», что здесь они должны соблюдать вежливость, уважать обычаи горских народов (я это особенно четко запомнила) с их особым отношением к женщине и старикам. И немцы более или менее это соблюдали, хотя пограбливали изрядно (жертвой оказалась и я сама с мамой, лишившись меховой шубки). Поэтому с Северного Кавказа с отступившими немцами ушли тысячи и тысячи советских подданных. Уходили и те, кто действовал, и те, кто понимал, что само их пребывание на оккупированной территории уже чревато Сибирью в будущем.
В числе таких оказалась и я сама. Мы уходили не от своей страны, а от правительства, основной системой которого были репрессии. Казаки же уходили массой. Перед войной, перед лицом военной опасности, большевики лукаво воскресили тени Кутузова и Суворова, гальванизируя уже не «советский», но общенародный патриотизм. Вспомнив казачью славу России, казачеству разрешили его форму, горцам – холодное оружие, в войну сформировали казачьи части Доватора. Но обида была уже необратима. И пока сын был у Доватора, отец, зачастую уже побывавший как раскулаченный в Сибири, погружал семью в бричку и катил на запад за отступавшими немцами, в хвосте которых все более накапливались силы для новой гражданской войны. Оставшиеся на освобожденной земле тоже представляли хороший горючий материал для борьбы со сталинским режимом. Следует заметить, что и сын – комсомолец-доваторец, узнав о формировании антисоветских казачьих частей, при первой возможности (часто это был плен) ускользал от защиты социалистического отечества и искал на Западе, нет ли там его батьки или братана.
Подобным же образом формировалась и Русская Освободительная Армия (РОА) Власова и инородческие легионы. Это был резерв гражданской войны с большевизмом-сталинизмом, но не с самой Родиной. Огромное количество «изменников родины», собравшихся на Западе, могло бы стать наглядным, вопиющим позором советской системы, но в каком-то роковом ослеплении и расчете, уничтожая одну – германскую – форму фашизма, Европа и Америка поддержали другую его форму, назвавшую себя советской властью и укрывшуюся за коммунистическими лозунгами. Как автор этих воспоминаний, коснусь схематично и собственной позиции в этой трагедии.
Если не считать отроческих годов с романтизацией нового небывалого в мире государственного строя, я, пожалуй, была аполитичной, начиная с периода своей многолетней болезни, развившей некую созерцательность. «Хруст костей в колесе» не давил сознания, захваченного вопросами истории, эстетики, оформленных, впрочем, марксистско-ленинским стереотипом. Вопросы личного устройства в жизни тоже не слишком волновали.[1]1
Поэтому в комсомол и партию, открывавшим путь к «карьере» – не вступала.
[Закрыть] Не заставила сделать выводы и гибель близких и дорогих людей – это ощущалось как недоразумение, как частность. Кстати. Не погибла я сама в те времена лишь по счастливому стечению обстоятельств – жила в Крыму, когда всех близких друзей в Москве «замели» прямо с новогодней встречи.
Гнева у меня не было. Наивность, доверчивость системе доходили до святости. Году в 38-м попросила мачеха из Ленинграда отнести денег ее брату, посаженному в Москве. Прихожу на Пушечную. В приемной – родственники с передачами, тихие, с расширенными от ужаса зрачками. (Сколько таких зрачков я видела потом!). Громко излагаю в окошечко цель прихода. Дежурный офицер, объяснив важно, что передачи принимаются только от близких родственников, спрашивает, кто я Петру. «Мачеха моя…» и торопливо объясняю, что я знаю Петра хорошо, еще с комсомольских времен, что он не может быть виноват, что его арест – недоразумение… И вдруг военный в окошке, вперив в меня удивленный взор, тихо говорит: «Барышня, уходите отсюда». И среди сидящих с передачами тоже шелест: «Барышня, уходите скорее…». Я ушла и даже не подумала проследить, нет ли за мной «хвоста». Отец, уже изгнанный из партии за «эсеровское прошлое», в ужас пришел, узнав, где я была. Пожалуй, тогда это было бесстрашие доверия: Петька-то не виноват! И вы разберетесь, конечно. Я верила в государственную справедливость так крепко, что безбоязненно общалась с «запачканными» через своих мужей подругами: я-то сама чиста! И только в ретроспекции понимаю, почему меня по возвращении с Донбасса не взяли обратно в Третьяковку: я там в свое время не скрыла, что отец исключен из партии (он умер «вовремя», не успели посадить!).
Итак, мышлением моим владел советский стереотип. И когда в далекой от Москвы провинции стереотип вдруг разрушился, все предстало в ином свете. Рухнувшая государственная система при оккупации быстро перестроила сознание, показав свою изнаночную сторону. Стало возможно осудить все, о чем говорить было не принято, узнать неведомое (трупы политических, залитых известью во дворе тюрьмы). И, сбросив стереотип, не восторгаясь оккупантами, я внезапно ощутила истинную живую любовь к моей несчастной России, к ее замордованному народу, любовь, которая прежде была только умозрительной и эстетской. Я позже старалась в статьях своих писать и о величии России и об ее поруганности (немецкие фашисты уже дозволяли в русской прессе мотивы такого патриотизма).
Берлин, Потсдам. А потом Северная Италия – «казачьи станицы», во Фриули собравшие, кроме казаков, к концу войны огромное количество русской интеллигенции, и советской, и староэмигрантской. Мы оказались вместе с теми, кто жаждал дальнейшей борьбы за Россию, и с теми, кто просто мародерствовал, боролся за новый личный престиж; с теми, кто бежал из СССР от кары «ни за что» и от кары за кровавые полицейские дела; кто попал за рубеж насильственно и присоединился к казакам, так как здесь давали пайки, не было конвоя и маячил призрак самостийной «Казачьей земли». Ее обещал «новому казачеству» стоявший во главе станиц престарелый белый генерал П. Н. Краснов. Все боеспособные мужчины использовались немцами на Балканах и в Италии в борьбе с партизанами. В Италии жили главным образом семейные.
Кубань и Ставрополье – «русская Вандея» – уходили за немцами добровольно. Десятки сотен бричек заскрипели по степям в направлении Украины, Белоруссии и по указанию немцев спустились в Италию. Это был великий и последний в истории казачества «Отступ».
С немцами ушли и верующие: православные и сектанты. Сколько раз слышала я признания: «Немцы, конечно, гады, вроде сталинцов, но мы за них стоим по одному тому, что воны церквы пооткрывалы!».
Уехав, посмотрев Европу и ее уклад, даже лояльные, даже просоветские начали понимать: нужна другая Россия, без полицейщины и стереотипа в мышлении.
Теперь нас всех называют власовцами, но тогда внутри массива русских, оказавшихся в Европе, различались разные группировки, находившиеся в раздорах и несогласии. Власов, однако, был надеждой всех группировок, он говорил о единой России и стоял, собственно, на позициях советской власти, без элементов, обративших ее в фашистское государство. Краснов и эмигрантское его окружение всячески отгораживали «вандейцев» от «советских» войск Власова, солдат которых Краснов называл даже «красноармейцами» (восхищаясь, впрочем, их дисциплиной и выправкой, чего нельзя было сказать о казачьей стихии).
Фашисты германские расчетливо использовали «советских» людей для собственных военных нужд, и видя, как увеличивается военный потенциал сопротивляющихся коммунистическому строю, не очень доверяли своим ландскнехтам. Это порождало и усиливало ненависть к самим немцам. А возврата не было: даже «народные мстители» – советские партизаны, попавшие в плен, уже не могли на Родине рассчитывать на снисхождение. И они пополняли ряды власовцев или казачьих частей.
По старому обычаю, всех желающих принимали в казаки. Сюда устремлялись и люди, не мечтавшие о борьбе. Наш типографский рабочий сознательно остался в Крыму ждать «своих». Был мобилизован в советскую армию. Столкнувшись снова с советскими, прежде незамечаемыми, обычаями, все понял, вновь попал в плен к немцам и сразу же попросился в ту пропагандную часть, в коей работал в оккупации. Он рассказал среди многих других сведений, что «опороченных» оккупацией людьми уже не считают, что штрафников «тратят» на разминирование полей, на заведомо гибельные операции. «Мы у них уже не люди, – уныло повторял он. Куда было деваться, как ни примыкать к питавшейся иллюзиями своей победы власовской или казачьей массе? Надежда была: остаться в эмиграции, на худой конец.
Будь дальновиднее немцы, война империалистическая могла бы в России обратиться в войну гражданскую. Не будь Германия в плену своего античеловечного национал-социалистического учения, используй она вовремя идеологическую шаткость советского тыла, не оскорби национального чувства русских, не примени она бессмысленной жестокости к целым народам (дегуманизация, впрочем, общая черта и их и нашей фашистских систем), она вошла бы в тело России, как нож в масло, и само население СССР помогло бы союзникам добить обе фашистские системы. Но этого не случилось.
Казаки-оккупанты, занявшие итальянские селения вокруг северо-итальянских альпийских городков Толмеццо и Удино, где располагался штаб атамана Доманова – советского подданного, назвали эти чужие селения «станицами». Идеологическое влияние было вручено эмигрантам, во главе с белогвардейским очень дряхлым генералом П. Н. Красновым. Селенья северной Италии были европейского типа, с каменными двухэтажными домами. Казаки перестраивали их по-своему, будь избыток навоза, построили бы себе и саманные хаты. Убогие участочки земли, которую итальянцы гористого этого края вручную наносили с долин, подобно нашим горцам, были присвоены. Итальянцы ненавидели казаков-грабителей больше, чем немцев-«тедесков».
Новые хозяева оккупированной местности жили казачьим побытом, чуть подправив его опытом своих европейских впечатлений. Для молодежи в селении Вилла Сантина было открыто юнкерское училище. Проектировался «Институт благородных девиц», куда и меня по прибытии в Италию приглашали преподавателем. Был введен войсковой казачий порядок царской армии – воинские казачьи звания, погоны, лычки (при немецкой форме). Вечерами и утрами по ущельям со станичных площадей доносилось: «Спаси, Господи, люди твоя…».
Играли свадьбы в отнятых у итальянцев храмах. Устраивали в «Кубанской станице» базары, на которых можно было купить и картошку, и сало – местного уже производства. Вся эта «опереточная жизнь» принималась всерьез как образчик будущего устройства, либо снова на Родине, либо, в случае поражения, «где-нибудь», «куда победители нас направят». Отношения с итальянцами не были мирными не только в силу грабежа целой местности, но и потому, что «станицы» были для немцев плацдармом для борьбы с местными партизанами, скрывшимися в горах.
У казаков была своя пресса. На Балканах, в дивизии фон Паннвица, (позднее схваченного и казненного в СССР вместе с группой генерала П. Н. Краснова) выходила газета под редакцией А. Бескровного, бывшего преподавателя Краснодарского пединститута. Во время репатриации он покончил с собою.
А в Германии, с редакцией в Потсдаме (где мы с мужем жили), выходила крупноформатная четырехполосная газета «Казачья лава». Пока мы находились на территории СССР, она называлась «Казачий клинок». Редактором ее был мой муж, Леонид Николаевич Польский – ленинградский журналист, приехавший в 1942 году к родным в Ставрополь из блокадного Ленинграда.
Одно время в ней сотрудничали профессиональные ставропольские журналисты Михаил Бойко и Евтихий Коваленко (из пленных) – бывшие сотрудники краевой молодежной газеты «Молодой ленинец». Евтихий ушел в РОА, дальнейшую его судьбу не знаем. А Миша с матерью остался в Италии и потом оказался в Америке. Ставрополец Б. Н. Ширяев писал для нашей газеты, А. Е. Капралов, живший потом в Вашингтоне, делал международные обзоры и сочинял хлесткие фельетоны под псевдонимом «Аспид». Казак станицы Николаевской Михаил Земцов был ее постоянным сотрудником, одним из организаторов казачьей прессы еще в ставропольский период антибольшевистской печати. Писали для этой всеми любимой газеты и Н. Давиденков, и Ю. Гаркуша. Я была ее литературным секретарем. Немцы-прибалты, ее наблюдавшие, говорили по-русски и не мешали патриотическому направлению газеты.
Как выяснилось для меня недавно, в Северной Италии, в местности Фриули тоже выходила, до моего приезда туда, местная газета, более похожая на листовку.
Итальянцы строго отличали казаков в форме от «русских» – так они называли массу интеллигентов и штатских, откатывавшихся в Италию к концу войны. Мы – «русские» – не грабили, не обижали, знали культуру народа, мы «бежали от Сталина». Казаки же – «прислужники тедесков» – охотились за партизанами. Мы сами тоже не отождествляли себя с такими казаками (хотя я, например, – казачка), возмущаясь их традиционным поведением в войнах.
Это все еще в большей степени, чем в оккупированном немцами родном Ставрополе, выглядело пребыванием на другой планете. А ведь многие еще живы и помнят это беспримерное в истории существование! И дети все это запомнили. Но едва ли, оказавшись на Родине, уцелевшие рассказывают своим детям о таком своем былом преображении. Разве только ночью, на ухо жене…[2]2
Сын моей кузины, тоже бывшей в Италии, например, уже взрослым, только от меня узнал, как его мать оказалась в Сибири.
[Закрыть]