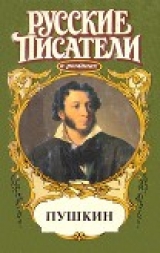
Текст книги "«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
V
Поэт в это утро проснулся так же рано, как царь. Но разрешил себе то, чего царь никогда не разрешал: долго валяться в постели. Правда, он при этом грыз и без того обглоданное перо, и разъезжающаяся стопка листков росла возле кровати. Однако Сергею Львовичу это не казалось занятием хоть сколько-нибудь серьёзным. Несмотря на благословение Державина, Александр представлялся юнцом, тратящим время зря и совершенно пренебрегающим карьерой.
То, что Сашка живёт неправильно, становилось особенно ясно при взгляде на Модиньку Корфа, тоже лицейского[48]48
…при взгляде на Модиньку Корфа, тоже лицейского... – Корф Модест Андреевич (1800—1876) – барон; лицейский товарищ Пушкина. Служил в Министерстве юстиции, потом в Комиссии по составлению законов под начальством М. М. Сперанского. С 1831 г. – управляющий делами комитета Совета министров. Позже сделал блестящую карьеру, став доверенным лицом императора Николая I, членом Государственного совета, графом. В Лицее и в последующие годы отношения Пушкина и Корфа были холодными.
[Закрыть], родители которого снимали квартиру в первом этаже. У Модиньки были собранные, точные движения; розовое миловидное лицо – уже озабочено.
Встречаясь с Сергеем Львовичем у подъезда, он здоровался светлым голосом, в глазах его, однако, сквозило сочувствие: не часто родителям достаётся крест, подобный Сашке. Сергей Львович сочувствия принимать ни в коем случае не желал – щурился. И так, прищурясь, долго смотрел вслед узкой спине. Модинька степенно-торопливо удалялся по улице, раздрызганной внезапной оттепелью.
– Твёрдость. Да, твёрдость в правилах прежде всего. Немец почерком берёт, аккуратностью – где Сашке за ним поспеть! Впрочем – марать листы – это тоже фамильное. Это я передал ему, это я...
Говорить с самим собой почти громко он стал в самое последнее время. Тревожили нервы жены, зыбкое здоровье вновь рождённого младенца, отсутствие денег. А пуще – слухи о Сашкиных вовсе не безобидных и не безопасных стихах.
Доходило до того, что Сергей Львович в тоске и нерешительности топтался у дверей, за которыми вместе с многочисленными обрывками бумаги и обглоданными перьями будто в трудах обретался Александр. Ему, отцу семейства, совершенно ясно было, как Сашка должен расчислить свою жизнь, чтоб Фортуна повернула к нему прелестное, но несколько заспанное лицо. Сергей Львович был великий мастер давать советы, тем более какие ещё занятия ожидали его дома?
...С отцом Александру удалось удачно разминуться, из дому он вышел в настроении, вовсе не дурном, возможно, как раз по этому поводу. Были деньги на извозчика, были свежие перчатки, вечером можно было отправиться всё к той же Голицыной или в дом, где он встретится с Софьей Потоцкой[49]49
...в дом, где он встретится с Софьей Потоцкой... – Потоцкая Софья Станиславовна (в замужестве Киселёва; 1801—1875) – дочь известной красавицы гречанки Софьи Константиновны Клавоне-Потоцкой; с 1821 г. жена П. Д. Киселёва. Была знакома с Пушкиным до его ссылки на юг. Согласно одной из версий, с нею связан замысел «Бахчисарайского фонтана» и так называемая «утаённая любовь» Пушкина.
[Закрыть], а то ещё с кем-нибудь из победительно-прелестных особ, которых потом изустно или в научных трудах станут величать утаённой любовью поэта.
А сейчас его ждала всепоглощающая толчея Невского.
Но до Невского было далеко.
Собаки лаяли по всей Коломне; длинный полуповаленный забор, неизвестно к чему огораживающий пустырь, нагонял тоску; с неба сыпалось: не то изморось, не то редкий дождь; извозчик тащился мимо, поглядывая по сторонам, ища франта. И он почувствовал вдруг себя таким франтом. Молоденьким, ничего не значащим франтиком, которого каждый может щёлкнуть. И раньше на него находило чувство уязвимости, но это было не то...
Он, например, отнекивался, никого не приглашал в гости, даже из самых близких. Невозможным представлялось обнажить перед кем бы то ни было ни безобразия полуобдёрганных, когда-то дорогих кресел, ни самого пошлого сора неметёных комнат. Дельвиг вздумал однажды посмеяться стихами над несуразицей этого дома:
Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла, яйц гнилых?
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.
Он надулся на Дельвига, однако Дельвиг был свой брат. У него у самого вечно в сапогах хлюпало, и жаркое он уминал за обе щеки, не справляясь, на каком масле его жарили.
Другие приставали, просили адрес вполне безобидно, но он отделывался шутками, пожатием плеч, молчанием.
Но самая большая неловкость заключалась в том, что этажом ниже куда как благопристойно жили Корфы. Модинька, едкий и всё примечающий, сводил лопатки, когда он смотрел ему вслед. Шаг Модиньки становился особенно текучим, будто Корф боялся споткнуться. Он знал, Корф, как бы сострадая, где только не рассказывает: Пушкины опять занимали у них в семействе столовое серебро, к приходу гостей не хватало трёх приборов!
Да лих с ним, с серебром. Корф однажды вздумал изобразить величайшее изумление, увидев Надежду Осиповну[50]50
...увидев Надежду Осиповну... – Пушкина Надежда Осиповна (урожд. Ганнибал; 1775—1836) – мать А. С. Пушкина. В детстве к своему старшему сыну относилась довольно холодно. Позже их отношения улучшились. С одобрения Жуковского и Карамзина она принимала участие в судьбе сына, когда тот находился в ссылке: обращалась к государю (без ведома Пушкина) с просьбой разрешить ему переехать в Ригу или ещё какой-нибудь город, чтобы поправить здоровье.
[Закрыть], втискивающую в узкие двери кареты не в меру отяжелевший стан. Шаль не могла скрыть изменившихся форм, мать должна была вот-вот родить. Взгляд Корфа, слегка откинутая, как бы в замешательстве, фигура его были ужасны.
Мать старела неудержимо, роды изматывали её. Отец же был просто стар. Вообще молодым он отца не помнил. Помнил кудрявого, белокурого, но уже обрюзгшего господина, благоговейно держащего новую французскую книжку, читающего с таким искренним подвыванием, будто сам сочинил или, вернее, сам излил из себя все эти изящные строки. Был ещё и другой образ отца – франт с подпрыгивающей лёгкой походкой, с рукой, бережно оправляющей кок над высоким лбом. Франту не терпелось на улицу, точно так же, как крепостному дядьке Никите.
В Москве, в его детстве, отец был франт.
И он, стоя у ворот в нерешительности, как бы в оцепенении, почувствовал себя тоже всего-навсего франтом. У которого за спиной могут – и станут непременно! – перешёптываться, хотя стихи его хороши – нет спору!
Он о многих своих стихах знал, что они хороши. Сам знал, без похвал Жуковского и Вяземского[51]51
Вяземский Пётр Андреевич (1792—1878) – князь; поэт, журналист, литературный критик. Один из главных участников литературного общества «Арзамас». В разные годы – чиновник канцелярии Н. Н. Новосильцева в Варшаве, вице-директор департамента внешней торговли, товарищ министра народного просвещения, камергер. Один из близких друзей Пушкина, которого знал ещё ребёнком. Один из первых оценил его талант. К нему обращены многие стихотворения Пушкина. Личное общение и переписка продолжались в течение всей жизни. Как близкий человек, был в курсе событий личной жизни поэта. После дуэли неотлучно пребывал в квартире Пушкина. Принимал участие в посмертном издании «Современника» и Сочинений поэта.
[Закрыть]. Без снисходительного одобрения Карамзина. Но он числился чиновником десятого класса, и перчатки его казались не так свежи...
Однако всё вздор: хандра напала на него не из-за перчаток и крика отца по поводу разбитого стакана. С недавних пор он ловил на себе какие-то странные взгляды. Были и разговоры, обрывавшиеся при его появлении. Наконец суть происходящего открылась. Его оклеветали! Клевета оказалась ужасной и ни с чем не сообразной. Оклеветанным так нельзя было жить. А тем более появляться на Невском. Решительно повернувшись, он сделал шаг к парадному, но вдруг расхохотался и крикнул извозчика.
Он взял себе за правило идти навстречу опасности и не мог от этого правила отступить. День выдался пёстрый. Даже само небо разнообразно менялось, то заплывая тучами, то сияя высоким уже солнцем. Но во весь день ему не удалось избавиться от того чувства, с которым вышел из дому. Не удалось избавиться, не удалось напасть на след обидчика, не удалось перехватить столь явственно намекающий взгляд, чтоб иметь предлог потребовать удовлетворения...
Только в конце дня в кондитерской, куда по-детски заглянул за сладким, он услышал:
– Падение нравов приметно. Партер стал клоб, а то и площадь, заметьте, милостивый государь мой. – Тут следовал смешок, не весёлый, скорее горький. – А посреди площади кто? Вития с листком своим, ядом пропитанным. И, смею заметить, чем выше лицо, в кое метят, тем яд гуще...
Он напрягся, поднимая плечи: не о нём ли говорили? Однако эпиграммы в Петербурге и без него умели сочинять, к тому же с особым удовольствием многие чужие ему приписывали.
– Не вынесши из дома строгих правил, что почерпнут они хотя бы у лучших учителей? Но лучшие учителя – где?
– Лоза – лучший учитель, милостивый государь мой.
Он оглянулся на них – бешено: собеседники были стары, так же округло, как у отца, у одного и у другого брюхо выпирало из сюртука, тот же был цвет лица, в глазах – мокренький туманец.
– В партерах сходки, а граф Милорадович оглушён музыкой театральной, между тем гремит иная музыка. – Говоривший приложил руку ковшиком к уху, как бы прислушиваясь.
– Гремит, – сокрушённо подтвердил второй и кивнул в сторону, где, по их представлениям, очевидно, находилась Европа, не успокоенная окончательно хотя бы и силами самого Священного Союза...
Зубы Пушкина продолжали сверкать вызывающе. Действительно, уморительны были эти старики. Где? В кондитерской, облизывая осторожно сладкую от воздушного крема ложку, пытались они отвести душу от зависти, от сожаления по невозвратному, не желая перемен, в какие уже не могли вместиться.
Пушкина они не интересовали. Его интересовал ход вещей. А ход вещей был таков. Кинжалом немецкого студента Карла Занда был убит реакционер Коцебу, поддержавший чиновника русской иностранной Коллегии Стурдзу в его доносах на вольномыслие немецких университетов. Сам Стурдза еле убежал в Варшаву, потом в Россию.
Пушкин тут же написал эпиграмму. Вскоре после истории с Зандом последовало убийство герцога Беррийского, наследника французского престола. Убивший его рабочий Лувель заявил: «Я хотел освободить Францию от злейших врагов её». Пушкин дразнил: в театре, в креслах, показывал портрет Лувеля с надписью? «Урок царям». И смеялся. В смехе же его не было молодого простительного зубоскальства. Смех носил явный оттенок вызова.
Но громче всего прозвучало известие о революции в Испании, Пушкин и это обсуждал с позиций отнюдь не верноподданнических.
...Многие считают: причиной взвинченного состояния поэта и того, что он, как говорится, лез на рожон, была всё-таки сплетня, пущенная Фёдором Толстым по прозвищу Американец[52]52
...сплетня, пущенная Фёдором Толстым по прозвищу Американец. – Толстой Фёдор Иванович (1782—1846) – граф; участник Отечественной войны 1812 г., отставной гвардейский офицер, авантюрист, карточный игрок. Друг П. А. Вяземского, Д. В. Давыдова, К. Н. Батюшкова. Он путешествовал с И. Ф. Крузенштерном и был высажен на Алеутских островах, за что получил прозвище Американец. Л. Н. Толстой, его двоюродный племянник, называл его «необыкновенным, преступным и привлекательным человеком». Пушкин познакомился с Ф. Толстым в 1819 г. В Кишинёве Пушкин узнал, что Толстой участвовал в распространении порочащих его слухов, и ответил на клевету эпиграммой «В жизни мрачной и презренной...». Он даже готовился к дуэли с Толстым и по возвращении из ссылки в Москву в сентябре 1826 г. поручил С. А. Соболевскому (см. коммент. № 141) передать ему вызов. Противников удалось примирить. Позже Толстой был посредником в сватовстве Пушкина, и через него поэт получил ответ Н. Н. Гончаровой на своё предложение.
[Закрыть].
О том, кто его оклеветал, Пушкин узнал только на юге, в Кишинёве. Ненависть клокотала в нём, когда он ворвался в комнату нового друга своего Алексеева[53]53
...он ворвался в комнату нового друга своего Алексеева. – Алексеев Николай Степанович (1788—1854) – чиновник особых поручений при генерале И. Н. Инзове. Участник Отечественной войны 1812 г., отставной майор, член кишинёвской масонской ложи «Овидий». Пушкин не прерывал с ним отношений и после отъезда из Кишинёва. К Алексееву обращены стихотворения Пушкина «Приятелю», «Мой милый, как несправедливы...» (1821) и др.
[Закрыть]. Губы вспухли, глаза налились кровью. И в этот момент точно угадывалось его африканское происхождение...
Пистолет был уже с ним и, захлёбываясь, он рассказывал Николаю Степановичу о только что названном обидчике. Руки его дрожали от нетерпения, будто Толстой ждал за порогом. Он и дверь мазанки открыл ногой в том же нетерпении. Пистолет, однако, нёс бережно, лицо закаменело.
Прямо с порога грянул выстрел, Пушкин стоял, прислонясь к притолоке, пот выступил у него на лбу, он вытер его тыльной стороной ладони, перевёл дыхание. Алексеев глянул во двор: там, как и следовало ожидать, никого не оказалось, только куры забились в пыльные кусты. Петух, распустив хвост, с клёкотом отгребая землю, делал вид, что сможет в случае чего защитить свой гарем. Кроме кур да их повелителя, свидетелем выстрела оказались ещё два молдаванина, остановившиеся напротив ворот.
Они медлительно рассматривали двор, акацию, с которой осыпались мелкие веточки, пса, выглянувшего из будки и уже совершенно собравшегося залаять.
Потом двинулись по улице, всё с теми же важноравнодушными лицами. За ними следовало медленно оседающее облако пыли...
Всё в богоспасаемом городе Кишинёве было таким привычным, устоявшимся до одури, что Алексеев чуть не рассмеялся. Однако Пушкин опять целился, непонятно во что, губы были сжаты.
И тут Алексеев заметил: на акации в углу двора пуля отбила кусок старой коры, и смугло выглянула изначальная кожа дерева, будто живая. Будто часть лица, а ещё отбить, так и всё появится.
Алексеев хотел и не смог тронуть друга за плечо, остановить. Теперь в том было одно: холодное удовольствие от своей меткости.
– Лоб истинно медный, – приговаривал Пушкин, опять целясь. – Он у меня запоёт так, что чертям тошно станет. Языком стучать – это тебе не под дулом стоять.
– Позволь, – остановил его Алексеев. – Он, ты сам рассказывал, дуэлянт бесстрашный и жестокий. Скольких к праотцам отправил!
– А я не дамся. Меня так скоро не свалишь.
Наконец несколько успокоившись, он сел на старый ствол порушенного тополя, заменявший в этом убогом дворе скамейку.
– Нет, каков подлец!
Больше он ничего не сказал, сидел вольно, прислонившись спиной к беленой стенке, свесив руку с пистолетом между колен.
Возле старой колоды, из которой поили скот, вились и жужжали оводы. Земля была истолкана копытами, вся в зелёных лужах. Тяжёлый жук без разбору, как загулявший, тяжело промчался над головой. В ушах стояли слова, осколки фраз, какие могли раздаваться у него за спиной. А он разгуливал по Петербургу, не подозревая обидчика!
...Жужжанье клеветы, жужжанье клеветы – это ещё ре было строчкой, но клевета для него отныне и навсегда осталась именно – жужжащей.
Он жаждал отмщения. Однако для того, чтоб дуэль состоялась, надо было умудриться попасть в Москву. Несбыточно! Хотя первое время он и предполагал скорее своё возвращение из ссылки или надеялся на отпуск по семейным обстоятельствам. А пока он тренировал руку, да и нервы тоже. В предвидении того, главного поединка стрелялся часто, иногда при жестоких условиях, но всё, к счастью, кончалось бескровно.
Кроме того, как всегда, пользовался он главным своим оружием. Во втором послании {из Кишинёва) к Чаадаеву есть строки:
Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,
Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина н стал картёжный вор?
Стихи были напечатаны в журнале «Сын отечества» за 1821 год, намёк приведённых строк был более чем прозрачен. Друзья даже пытались попенять поэту: зачем так жестоко?
Как они не понимали – такое оскорбление не этими строчками, только кровью можно было смыть! Но дуэль не состоялась, хотя в 1826 году привезённый в Москву по приказу нового императора Пушкин прежде всего послал вызов Толстому. Однако к этому времени и пушкинский пыл поунялся, и Американец был уже совсем не тот. Судьба жестоко рассчиталась с ним. Все дети его были не жильцы. И умерло их ровно столько, сколько (одиннадцать!) жизней загубил их весьма просто относившийся к чужой смерти отец.
Но – вернёмся в Петербург.
...Топнув ногой так, что брызги попали на панталоны, он вошёл в дом, который худо-бедно, но существовал: другого у него не было. И Муза приходила к нему в этот дом по грязным мостовым Коломны, не пятная своих ослепительных одежд.
Он хмыкнул, взбегая по лестнице, хмыкнул оттого, что представил Музу этакой охтенкой, по утрам разносящей молоко в высоких кувшинах.
Впрочем, молоко разносили прежде, чем он просыпался.
Никита вошёл в комнату, стоял у двери, повернув русую, с проседью, голову к плечу, переминаясь с ноги на ногу, будто готовясь поделиться стыдным. Наконец сказал:
– Только отобедали, тут по вашу душу один и заявляется. Бумаги просил прочесть. Любитель... Нетерпение его, скажи, под микитки тащит: что ещё не напечатано, просил дать на один всего день.
– Бумаги? Прочесть? – Пушкин быстро повернулся в кресле. – А как выглядел?
– Господин не господин, крючок эдакий, но при цилиндре. И полны руки ассигнаций. Не на день, мол, так хоть на два часа подай ему бумаги. Пятьдесят рублей обещал.
– А ты что?
– Мы чужим торговать не приучены, говорю ему. А сам стою дурак дураком: и своего дела не разумею, а барское – куда!
...И тут в нашу повесть вступает новое действующее лицо.
Граф Милорадович был человек особый[54]54
Граф Милорадович был человек особый. – Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825) – участник Отечественной войны 1812 г., генерал от инфантерии. В 1818 – 1825 гг. петербургский военный генерал-губернатор. Убит 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади П. Г. Каховским. По свидетельству Ф. Н. Глинки (см ниже) допрашивал Пушкина о его антиправительственных стихах, и когда тот написал ему собственноручно целую тетрадь того, что сочинил, по собственной инициативе объявил ему от имени Александра I прощение. Милорадович способствовал замене предполагаемой ссылки поэта на Соловки или в Сибирь отправкой его на юг, в распоряжение И. Н. Инзова. В 1820 г. в письме к Жуковскому Пушкин писал: «Что касается генерала Милорадовича, то я не знаю, увидя его, брошусь ли я к его ногам или в его объятия».
[Закрыть]. Не так давно, во время Отечественной войны, он и ко многому привыкших поражал своей несравненной храбростью. О нём говорили: будто знает, что имеет ещё одну жизнь в запасе. В отчаянной смелости не только полководца, но и солдата Милорадович состязался и с Багратионом, и с Мюратом. Никакой надобности не было, но вот уселся же он завтракать на самом обстреливаемом пригорке Бородинского поля. Не мог отказать себе в том, чтоб и белую салфетку заправить, оберегая мундир от крошек...
Вокруг была жухлая трава, вырванная клочьями; дёрн, стёсанный осколками орудийных гранат; свист пуль и сотни глаз. Он поворачивал короткую шею спокойно, оглядывал заволочённое дымом пространство, он показывал пример. Он любил ярость в одежде, в характере, в поступках... Он был театрал.
За границей, во время похода 1805 года, в маленьких, чистеньких, замерших перед невиданным городках он скупал для солдат целые рынки: «Налетай, ребята, товар теперь наш, к чему мелочиться? Как ты, Гаврилов, говоришь: однова живём?» «Так точно, ваше превосходительство, все под Богом ходим!»
Сотни глаз опять смотрели на него, и он чувствовал, что не может быть иным, а может только таким. Некое простодушие вместе с тем жило в нём. Спешившись, он подходил к какой-нибудь торговке, застывшей в изумлении, выбирал самое крупное яблоко и, удерживая от глубокого книксена, целовал в обе щеки, совершенно такие же прохладные и гладкие, как яблоко.
Вокруг был острый свет солнца, укропный, пряный запах торговли и улыбки, радостно, неудержимо раздирающие тёмные солдатские лица... То давнее простодушие и давняя храбрость генерала отлично сочетались с нынешним эпикурейством и, возможно, самоуверенной беззаботностью, когда касалось должностных дел. А нынче был Милорадович генерал-губернатор петербургский и отвечал за всяческий порядок в столице.
Между тем стихи Пушкина, сея вольнодумство, порядок явно нарушали. Пушкина генерал знал по стихам и театральным залам. Но первый шаг Милорадовича был таков: послать в дом у Калинкина моста, где квартировали Пушкины, шпиона. Шаг, с нашей точки зрения, безусловно, постыдный для боевого генерала, но, безусловно, в духе времени. А время было двулично.
Пушкин, разумеется, понимал: полиция проникает в дома и безо всякого разрешения хозяев, не то что слуг. Бумаги, то есть дерзкие, вольнолюбивые стихи, надлежало сжечь. Потом поди докажи, что они вообще существовали и были писаны им...
Пушкину не раз в последующие годы приходилось сжигать свои строки и чужие к нему письма. Погрустим же и мы вместе с ним, застав поэта за этим занятием.
Сжигалось ведь не то, что не удалось. Сжигалось, быть может, лучшее.
Пушкин сидел на полу перед высокой изразцовой печью. Была глубокая ночь, все спали. На каждый скрип, на мышиный шелест за дальними дверями он не то чтобы оглядывался, но как-то стесненно поводил плечами. Меньше всего ему хотелось, чтоб за этим занятием застал его кто-нибудь из домашних. Только Никита был в комнате, стоял, почти слившись с коричневой портьерой, руки тяжело брошены вдоль тела.
Стопка бумаг побольше лежала справа, слева – несколько листков. Перед тем как бросить листок на бездымно, весело горевшие лучинки, Пушкин перечитывал его. Прощался. Он ещё мало написал, но знал о себе, что напишет много; всё равно прощанье получалось тяжёлое.
Поэт сжигал улики. Его вынудили пойти на хитрость, на ложь. Ведь завтра, случись что, он будет отрицать своё авторство, надеяться на заступничество Карамзина и Жуковского. А может статься, ещё кого-нибудь, кого царь вынужден будет выслушать, внимательно наклонив к плечу круглую плешивую голову.
Пушкин передвинулся на полу, с живостью выпростав из-под себя ноги, вскочил. В руке у него была кочерга, он взмахнул ею, как оружием. К чёрту! Пусть приходят, пусть берут его бумаги, пусть читают...
Никита приблизился неслышно, аккуратно, шалашиком, стал укладывать новые лучинки, они должны были ещё загореться, хотя угли все подёрнулись серым...
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман...
Далеко не обязательно Пушкин задерживался именно на этих строчках послания к Чаадаеву, но какие-то обрывки стихов, наиболее любимые, должны же были ему вспомниться. Отчего же и нам их не повторить, не подержать перед глазами?
...Вот в высокую кафельную печь на слабо потрескивающие лучинки полетел листок голубоватой тонкой бумаги. Он вспыхнул с одного края, свернулся трубочкой, и уже нельзя было прочесть, но можно было отгадать: «И на обломках самовластья // Напишут наши имена!»
Пушкин закрыл лицо руками.
Он делал не то, что должен был делать. Он поступал благоразумно, почти благонамеренно, сжигая бумаги. Он сохранял себя для будущего, как говорил Жуковский... Будущее могло оказаться продолжением настоящего, а могло обернуться Соловками или Сибирью, как пугали старые друзья.
Наутро к Пушкину прислали с повелением явиться в канцелярию генерал-губернатора города Петербурга графа Милорадовича. Пушкин чувствовал: самодержавие не просто защищает от его нападок свой порядок. Царь ненавидит его лично. Такая ненависть пугала, но он от неё не отказывался. «Кочующий деспот», «венчанный солдат», «и прусский и австрийский я сшил себе мундир» – это хоть кого выведет из себя. Но отречься от этого нельзя.
Может быть, лучше было не писать? Сочинять только то, что заставляло ярче блестеть глаза прекрасных женщин?
Пушкин оделся с особой тщательностью и отправился к человеку, у которого безо всякой опасности для себя, а возможно, и с пользой можно было испросить совета, как поступить.
Полковник Фёдор Глинка был человек романтический[55]55
Полковник Фёдор Глинка был человек романтический... – Глинка Фёдор Николаевич (1786—1880) – участник Отечественной войны 1812 г., гвардейский полковник, чиновник по особым поручениям при петербургском военном генерал-губернаторе М А. Милорадовиче. Член общества «Зелёная лампа», «Союза спасения» и «Союза благоденствия». Относился к умеренному крылу декабристов. Он был, ко всему прочему, поэт и публицист, вице-председатель и председатель Общества любителей российской словесности. Пушкин познакомился с ним после окончания Лицея. Они встречались на собраниях «Зелёной лампы», у П. А. Плетнёва, В. К. Кюхельбекера, у братьев Тургеневых. Когда Пушкину грозила ссылка, ходатайствовал за него перед Милорадовичем. Пушкин ценил гражданскую позицию Глинки. Однажды через брата просил передать, что он «почтеннейший человек здешнего мира». К поэзии Глинки Пушкин относился двойственно, иронизируя над его экзальтированностью и стилистическими погрешностями, и в то же время отмечал самобытность некоторых его произведений. В 1866 г. Ф. Глинка написал «Удаление А. С. Пушкина из Петербурга в 1820 г.».
[Закрыть], то есть прежде всего верящий в рыцарские чувства таких людей, как его непосредственное начальство граф Милорадович. И царю Фёдор Глинка, наверное, в тех же чувствах не отказывал.
Фёдор Глинка служил при Милорадовиче чиновником для особых поручений, но был одновременно председателем «Вольного общества любителей российской словесности». Он отрекомендовал Пушкину Милорадовича человеком чести и широкой души. Вернее было бы, учитывая вчерашний афронт, сказать: Милорадович был человек не мелочный, способный на широкий жест, снисходительный к некоторым шалостям, но и к себе в первую очередь. Поэзию Пушкина, его эпиграммы, оглушавшие меткостью, он скорее всего не считал опасными для самодержавия. Вовсе нет, так, издержки молодого недовольства, молодого темперамента. К тому же прежде он вспомнил не строчки стихов, которые ходили по рукам (и некоторые генерал-губернатору столицы были известны), прежде всего он вспомнил самого автора. В ложе Колосовых, между маменькой и дочкой[56]56
В ложе Колосовых, между маменькой и дочкой... – Колосова Евгения Ивановна (урожд. Неёлова; 1782—1869) – танцовщица петербургского театра; и её дочь Колосова Александра Михайловна (1802—1880) – петербургская драматическая актриса. Пушкин часто посещал их дом и встречался с ними в петербургских театральных кругах. А. М. Колосовой посвящены некоторые стихи Пушкина, в том числе «О, ты, надежда нашей сцены!..» (1818), эпиграмма «Всё пленяет нас в Эсфири...» (1819) и др.
[Закрыть], сидит, выставив наголо обритую после болезни голову, и обмахивается париком от действительно невыносимой жары. И знал, когда стащить с головы чужие кудри: в самом том месте, где у публики должна пролиться слеза... Проказлив до того, что, на его строгий взгляд, сначала украдкой, правда, мелкомелко зачесался, обезьяну изображая, что ли? а потом провалился меж кресел. Можно вообразить; конец оперы дослушивал, сидя на полу, довольный – весь театр взбудоражил. А сердиться нельзя. Милорадович и сейчас, в столь неподходящий момент, усмехнулся, не без удовольствия вспоминая: как театр шелестел, поднимая лорнеты, как немногие важные головы отворачивались неодобрительно (пряча улыбку). Как смеялись, кто откровенно, кто слегка заслоняясь веером – проказник! И все, так же как он сейчас, недоумевали: ужели одно лицо? Вертлявый юноша, почти мальчик, и автор строчек, которые, как ни прискорбно, дерзостны непозволительно. И вот дошли до государя, вызвав распоряжение: взять Пушкина и бумаги, ему принадлежащие...
Впрочем, Фёдор Глинка дал поэту наилучшую аттестацию, объяснив совершенно, откуда в молодом человеке такая едкость, такое недовольство: в семье был чужим, а в Лицее наставники проглядели характер, рано отгадав одарённость поистине гениальную...
Пушкин явился к Милорадовичу, был принят им весьма благосклонно. Генерал рассказал о приказе «взять» Пушкина, забрать все его бумаги для следствия. Но он, как бы ослушавшись, пригласил поэта к себе, как честный человек честного человека.
День был ясный, и солнце проникало в широкие окна, только отчасти затенённые светло-зелёными драпри. Пушкин стоял посреди странного кабинета, где, наряду с предметами обстановки вполне официальной, прямо под окнами на всём виду стоял непомерно обширный, обитый зелёной кожей диван. А на нём небрежно брошенные валялись турецкие шали.
Поклонившись генералу, Пушкин стоял посредине большой комнаты, как бы остановленный в беге, и поглядывал на Милорадовича скорее вопросительно, чем стесненно. И генералу выражение его лица понравилось.
Генерал обладал счастливым свойством любить молодёжь. А поэт был на взгляд не ребёнок, но юноша, ещё не сложивший движений в медлительный манер людей, уставших от света.
– Я посылал к вам, не скрою. И позавчера – также, – сказал генерал.
– И я не скрою: там ничего нет. Но тут... – Пушкин засмеялся, прикладывая руку к курчавой, будто не высохшей после купания голове. – Угодно будет дать мне бумагу?..
Милорадович кивнул, засопев.
Затем он оставил поэта наедине с его стихами.
Исписанные листки были вручены генерал-губернатору примерно через час. Пушкин был доволен собой: так-то лучше, чем в огонь. В жизни за всё приходится платить, ну что ж, он готов...








