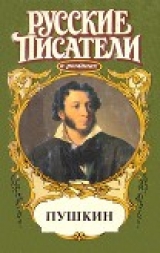
Текст книги "«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
«КРУПНОЙ СОЛЬЮ СВЕТСКОЙ ЗЛОСТИ»
Пол-Москвы видело встречу Пушкина с барышней на выданье, с красавицей, которую сам государь отметил как существо прелестнейшее, многообещающее в будущем, когда бутон сей развернётся, ослепляя.
Первейшим событием недели было присутствие государя на концерте в Благородном собрании, не говоря уж о самом его приезде в Москву. Нумером вторым шёл Пушкин, тоже приехавший; ну и, разумеется, эта встреча, всем бросившаяся в глаза. Занимательный роман продолжался. У публики блестели глаза. Будто один большой, наблюдающий глаз блестел, далеко не всегда дружелюбно.
Азартные спорщики, ставившие на что угодно: на исход осады Карса, на выздоровление или смерть Юсупова[125]125
Азартные спорщики, спорившие на что угодно: на исход осады Карса, на выздоровление Юсупова... – Юсупов Николай Борисович (1750—1831) – князь; дипломат, близкий к Екатерине II, член Государственного сонета, коллекционер и меценат. К нему обращено стихотворение Пушкина «К вельможе» (1830), где дан обобщённый портрет просвещённого вельможи и использованы реальные факты биографии Юсупова.
[Закрыть], на возможность интрижки неутомимого государя с фрейлиной такой-то или с ученицей балетной школы такой-то, азартные спорщики и тут спешили заключить пари. Да что там – спорщики! Всю Москву волновало: состоится ли в конце концов брак этот, не совсем понятный, по расчётам Гончаровых? Или, как не единожды уже бывало, Пушкин останется с носом...
Многим хотелось, чтоб остался.
...Всласть судачили в фешенебельных салонах Петербурга. И во многих домах Москвы барышни, умостившись в розовой гостиной, всплёскивали розовыми же ладошками, как бы в ужасе: маменька Гончарова, старуха характера вовсе не ангельского, дозналась – существует список. Пушкиным самим же написанный[126]126
...существует список. Пушкиным самим же написанный... – См.: П. К. Губер. Дон-Жуанский список Пушкина. Главы из биографии с 9-го портретами. Изд-во «Петроград», 1923.
[Закрыть], и в нём – и вообразить страшно! – поимённо сто женщин, которых он любил!
«Нет, я бы ни за какие блага, хоть он на коленях стой, не согласилась бы, – торопились друг перед другом барышни. – Как надеяться на господина, столь низко павшего? Как?»
«А как – сто? – пытались ещё уточнить барышни, те, что побойчее. – Что ж, он их просто обожал? Или...»
Тут они хихикали и отворачивались друг от друга. Потому что «или» представить было просто невозможно. Они ни о чём таком не имели и не могли иметь понятия. Ни те, у которых братья в отсутствие родителей мяли девок по закоулкам петербургских дорогих квартир; ни те, которые прошлым летом где-нибудь в подмосковной могли наблюдать у дальнего забора странные движения кузена, шевелящуюся траву и раскинутые юбки собственной горничной.
Но всё равно они ничего не знали и не могли знать об этом отвратительном «или». А потому, округлив ротики, делились друг с другом негодованием:
«Он арап и сладострастник. Я, душа моя, право, точно тебе говорю. Вчера Николай Михайлович маменьке газетку приносил, «Северную пчелу». Там напечатано, что сердце у него холодное, точно устрица». – «А как Не пой, красавица, хорошо, однако, сочинил. Может, и неправда, что холодное?» – «Как же неправда, если напечатано: бесчувственный и безнравственный сладострастник. Нет, я бы никогда на месте Гончаровой!»
Один Бог знает, как им хотелось оказаться на месте Гончаровой, на совершенно недоступной высоте. Хотя бы для того, чтоб иметь счастье отказать поэту, которого так ловко поддела «Северная пчела»... И тем самым появиться у всех на виду, всех за пояс заткнуть – самых гордых и прельстительных.
Так болтали те, кто попроще. К кому новости приходили из десятых рук. В это же время в Петербурге, в другой гостиной, гораздо более высокого пошиба, шёл свой разговор на эту же тему.
– Но это чудесные, чудесные слова! – почти кричала молодая хозяйка дома, зажимая себе уши и отталкивая собеседника взглядом.
– Слова чудесные, кто ж оспаривает? Но возможно ли двум особам сразу, теми же словами, хоть и чудесными, делать признания в любви? – Молодой человек, возражавший хозяйке дома, впрочем, вполне покорно наклонял голову.
– Ах, он поэт, оставьте! – говорила дама, уже несколько успокаиваясь. – Нам дело до строк, а там хоть трава не расти...
– При том, прошу заметить, – опять шёл в наступление молодой человек, – он сам утверждает: Гончарова – его сто тринадцатая любовь.
– Но, Боже мой, вы не о том ли списке говорите, что в альбоме Ушаковых? Там ведь и те, на кого он вовсе издали глядел: Наталья Кочубей, Бакунина Екатерина[127]127
...на кого он вовсе издали глядел: Наталья Кочубей, Бакунина Екатерина. – Кочубей Наталья Викторовна (1800—1854), дочь петербургского знакомого Пушкина В. П. Кочубея (1768—1834), министра внутренних дел, с 1827 г. председателя Государственного совета и Комитета министров, государственного канцлера по делам внутреннего гражданского управления. Знакомство с семьёй Кочубеев относят к 1813—1815 гг., когда будущий поэт общался с Натальей Кочубей, проводившей лето с родителями в Царском Селе. По свидетельству М. А. Корфа, Кочубей была первым предметом любви Пушкина. В 1820 г. она вышла замуж за графа А. Г. Строганова (1795– 1891), впоследствии члена правления Царства Польского, генерала. Последующие встречи Пушкина с нею происходили в высшем петербургском обществе. С Натальей Кочубей связывают стихотворение Пушкина «Измены» (1815).
Бакунина Екатерина Павловна (1795—1869) – сестра лицейского товарища Пушкина А. П. Бакунина (1799– 1862). Предмет юношеской любви поэта в Лицее. Это чувство отразилось в более чем 20 стихотворениях Пушкина 1815—1819 гг., в том числе «Моё завещание. Друзьям», «Итак, я счастлив был...», «Слеза», «К ней». «К живописцу», «Окно», «Желание», «Осеннее утро» и др. Встречались они и позже, в доме Олениных. В 1834 г. Бакунина вышла замуж за А. А. Полторацкого (двоюродного брата А. П. Керн). Пушкин, по-видимому, присутствовал на её свадьбе.
[Закрыть]. Он и Мари Раевскую, уж вовсе как облако промелькнувшую, там вспомнил, – нашлась что ответить хозяйка.
– Он – поэт. Поэту увлечения нужны как воздух, – решилась развести спор гостья, до сих пор молча сидевшая у окна. И кажется, вся ушедшая в наблюдение мартовских голубых луж.
– И как воздух же чисто и невещественно было его увлечение Раевской. – Это прозвучало уже не веселобойко, как всё, что до сих пор говорилось в гостиной.
И разом несколько дам помоложе закричали, переполненные энтузиазмом:
– Но прочтите, прочтите, Михаил Николаевич! Прочтите, что он писал к Мари. Или о Мари. Прочтите, чтобы мы стали судьи.
И Михаил Николаевич прочёл. Послушаем же и мы то, что звучало в гостиной.
Всё тихо – на Кавказ идёт ночная мгла,
Восходят звёзды надо мною.
Мне грустно и легко – печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою —
Тобой, одной тобой – унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит оттого,
Что не любить оно не может.
Прошли за днями дни. Сокрылось много лет,
Где вы, бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире нет,
Со мной одни воспоминанья.
Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.
(Однако чтоб иметь более объективное мнение в этом споре, надо помнить и второй, окончательный вариант стихотворения, действительно относящийся уже не к Марии Раевской, а к Наталье Николаевне Гончаровой:
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может).
В большой гостиной стало тихо и словно прохладно. Во всяком случае, многим показалось: этакий сквознячок пробежался, холодя, по спинам.
– Любая за подобные строки отдала бы полжизни, – сказала наконец хозяйка и вздохнула.
– Зачем? Чтоб стать сказкой города?
– Империи, душа моя. Империи. Да, кстати, откуда у вас список, Михаил Николаевич?
– Пушкин, я полагаю, не делает тайн из своих сердечных влечений. Что не распечатывает, то по рукам пускает. – Любезному, но неугомонному Михаилу Николаевичу никак нельзя было обойтись, чтоб не бросить ещё один, хоть маленький камешек в сторону поэта.
– Ах, не скажите – делает. Имя Мари Раевской нигде не упомянуто. Имя Гончаровой – тоже. Это наша воля косточки перемывать. – Хозяйка окинула всех взглядом холодноватых глаз, желая укротить лёгкий полёт реплик.
Однако всё ещё порхали слова удивления, неодобрения, восторга в гостиной, начисто придуманной мною ради разговора о двух вариантах и двух адресатах стихотворения. Или, вернее, ради того, чтоб показать, хоть в малой степени, каковы были пересуды...
И тут, в эту не существовавшую в натуре, но в общих чертах и не отличавшуюся от существовавших гостиную я введу лицо вполне историческое.
С видом завсегдатая, поклонившись хозяйке почти по-семейному небрежно, появился в ней высокий широкогрудый человек в очках. Он окунулся в спор сразу, тем более что тормошили чуть не за рукава.
– Имеет ли смысл искать идеал, воспламенивший поэта? – спросил он слегка хмуро. – Барышни одинаковы – какая разница? Важно, кого они вдохновляют.
– Женщины одинаковы? Какой, однако, яд, князь, – удивилась хозяйка и отодвинула край юбки жестом почти невежливым.
– Я сказал: барышни. Женщины имеют свою судьбу.
– Но, Вяземский, вы не сказали: кто? Действительно сперва Раевская, потом Гончарова?
– Милостивые государыни. – Князь выставил обе ладони, защищаясь. – Скромность – превыше всего.
Плоды её водянисты, но помогают при горячке любопытства.
– Однако рассудите: посвятить двум сразу? Правда, гений многое может себе позволить.
– Нынче патент на гениальность даёт и отбирает «Северная пчела». Читали?
Они читали, конечно. И даже спорили, как повернутся дела со сватовством после пасквиля? Не возьмёт ли своенравная и расчётливая мамаша Гончарова своего слова назад? Не означает ли пасквиль, напечатанный в почти официальной «Северной пчеле», что сам государь окончательно отвернулся от поэта? Но разве есть какие-нибудь новые признаки недовольства? Кроме головомойки за поездку в Арзрум? А как же! Поэт весь прошлый год рвался в Полтаву, к Раевским, – отказ...
– Само имя Раевских государь слышать не любит...
– Уметь жертвовать собой – высшая добродетель женщины, говорит государь, но тут упрямство одно он видел. Оставить ребёнка, старика отца в слезах, бросить тень на братьев, на сестёр. И ради чего, князь? Я так полагаю: не любовь гнала Мари, а одно желание показать натуру. – И такой злой голосок отыскался в гостиной.
– Не будем судить осуждённых. – Вяземский опять выставил ладони, рисуясь и как бы шутя. Но глаза его смотрели холодно. – Не будем жалить тех, кто самой судьбой ужален. Это для других – пчёл, более на ос походящих.
«БЕДА, ЧТО ТЫ ВИДОК ФИГЛЯРИН»
А ещё он любил бывать на гребне, взмывать на чистейшем чувстве восторга – ах, матка боска! – упиваться, сладко захлёбываясь словами, булькая голосом, может, на какой взгляд и грубо, но зато – от всей широкой души... Собственно говоря, если рассудить, не так уж важно, по какому поводу слова булькали, чем упивался... Были времена, была дружба, Рылеев, Грибоедов, тот же Виля, опасные разговоры – без оглядки. На самой высокой ноте голос срывался от предчувствия скорых, совершенно фантастических перемен. Потом всё поломалось, само себя перечеркнуло неудачей четырнадцатого декабря. А потом «Пчела» набрала сил, жужжала сыто и порой устрашая. Но подступали года, всё больше хотелось удивить мир не мелочью какой-нибудь, чем-то единственным, чтоб все, глядючи на него, вынуждены были задирать голову.
С Пушкиным, однако, не удалось.
С Пушкиным он перестрадал.
Правда, тут нашлось утешение, главное утешение в последние годы: всему он стал предпочитать деньги. В молодости, когда денег иной раз не было до медного вкуса во рту, до взгляда завистливого в чужую тарелку с игрой жирных блесток – он тоже, разумеется, любил деньги. Он их желал больше, чем женщину, какую бы то ни было, возможно, больше, чем славу (ту самую волну с весело поднимающим тебя гребнем). Но то были другие деньги...
Молодые: золото в кругляшах, к которым, как к женскому телу, пальцы прикасались со сладкой истомой; хруст сотенной, ещё не обмятой; или наоборот – сафьяновая, тёплая податливость тёртых, из рук в руки переходивших ассигнаций. Это были молодые деньги: пустить пыль в глаза, купить новый сюртук, дорогое сукно с искрой; наконец, развешать бобры чуть не на всю грудь, цилиндр из парижской лавки. И сразу изменяется выражение лица – глаза слегка подернуты плёнкой невнимания.
То были молодые деньги, а теперь он имел капитал, нечто вовсе отличное от денег, протекающих сквозь пальцы. Он имел земли, мызы, доходные дома, постоянную, верную дань от виноторговцев, кабатчиков, предпринимателей разного толка – за рекламу. Имел благословенное Карлово и газету...
Пушкин не имел ничего – что утешало.
Но у Пушкина был читатель, который Булгарина не читал. И его брезгливую улыбку Фаддей Венедиктович видел в своём воображении чуть не ежедневно.
Слегка, мизинцем правой ручки прикасаясь к переплету, как бы нехотя разворачивая книгу, дама, воображаемая Булгариным, даже не отодвигала её от себя – сама отодвигалась:
– Что это вы вздумали, Михаил Николаевич? Я, разумеется, жадна к новинкам, но эта...
– Единственно ради шутки, единственно. Но хоть несколько страниц прочесть извольте, чтоб иметь представление, как Фаддей над публикой куражится.
– Я гнилого товара в руки не беру и вам не советую.
Слова о гнилом товаре и о том, что он, Фаддей, куражится над публикой, какая брезгливостью не отличается, были доподлинны. Он их сам слышал, вернее, подслушал, абсолютно, впрочем, безвинно. Стал, как говорится, невольным свидетелем разговора в многолюдной гостиной с мраморными подслеповатыми антиками. За спины, вернее, за головы древних мудрецов он и спрятался, ни слова не пропуская. Наливаясь ненавистью к говорящим, а заодно и к хозяевам, которые нечаянно пригласили его на вечер.
У него в Карлове да и в Петербурге выставлялись антики позавиднее, но вот беда: всё, что ни приобретал он с лёгкой сердечной радостью, всё выглядело обновой с чужого плеча. Фаддей Венедиктович сам понять не мог почему? И задумывался, скребя ногтем дорогую бронзу или стоя перед шкафчиком, перехваченным – из каких рук! В стёклах на фоне собственных книг отражалось лицо, не склонное к долгим, невесёлым раздумьям. Он улыбался себе и шёл работать.
Трудиться надо, господа, трудиться. Исключительно трудам своим он обязан... Тут вспоминалось: во всех случайно услышанных или перенесённых разговорах его называли Фаддей, а Пушкин был Пушкин, что составляло разницу... Теперь будут кликать Видок, это он знал: аристократы презрительные! А он – народен. Его в народе читают, и, если четырнадцатый том идёт нарасхват – это что-нибудь да значит.
Утешение утешало.
По всей стране его читали. Полуграмотные помещики, не привыкшие к усилиям ума, если дело не шло о четвертях ржи, недоимках, закладных и прочем; разбогатевшие, любопытные к чужим удачам подрядчики; офицеры, никак не метившие в умники, хорошо усвоившие в двадцать пятом, куда ум ведёт; чиновники, у которых оставалось время от карт, вина, погони за «хорошенькими»; полицейские чины, чутьём понимавшие, что нравственность, проповедуемая в этих бойких книжицах, теснейшим образом переплетается именно с той, которую они стерегут от обидчиков, посягателей и подстрекателей.
Читатель оказывался разных возрастов, состояний, сословий, но один – не любящий, чтобы его оскорбляли превосходством ума и затрудняли неизвестно зачем, например, романом в стихах. Почему бы не написать просто? Про Таню и её приключения, которые, кстати говоря, очень и очень можно было бы разнообразить и протянуть подольше. В самом деле, уже в люди, можно сказать, вывел свою барышню Пушкин, уже героиня в высшем свете, куда не дотянуться, в скважинку не подглядеть, муж – генерал: тут бы и начать нанизывать. Ан нет, как раз в самом интересном месте, обидно для самолюбия, не считаясь со вкусами и требованиями, – прерывает...
Так думал читатель и «Онегина» откладывал с сожалением; мудрствует Пушкин, а к чему? Уж не к тому ли, чтоб ему, читателю, насолить?
Это был читатель, преданный Фаддею Венедиктовичу.
...Пушкин кичился, выставляя себя аристократом, ах, скажите – наваринский Ганнибал! А тот, который служил у Петра денщиком? И по ведомостям платёжным проходил рядом с шутом? Булгарин тем же осторожным движением, что царапал бронзу, почесал в начинавших редеть волосах. Денщик денщиком, но смущало: когда крестили чёрного, по случаю приобретённого мальчишку, восприемниками были сам царь да польская королева. Что так? К чему бы?
А кроме Ганнибалов, Пушкиных древней фамилией на каждом углу хвастался поэт: шесть родственников подписали грамоту, избравшую на царствование Романовых...
Кстати, что он этим хотел сказать?
По привычке своей Фаддей Венедиктович заёрзал, завозился в кресле, продавливая ямку, рука потянулась к перу.
Перо стукнуло о самое дно чернильницы – руку не удержал. Он знал за собой слабость: распаляясь, хватать через край, поэтому стоило отдышаться, посидеть некоторое время в раздумье. Но и отдышавшись, писал пасквиль, не что иное. Фамилий не упоминалось, так было построено, что всё сходилось на Пушкине, выведенном в фельетоне под видом «природного француза, служащего усерднее Бахусу и Плутусу, нежели музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины; у которого сердце холодное и немое существо, как устрица, а голова – род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно исступлённым в басне Пильпая, бросающим камнями во всё священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан; который марает белые листы на продажу, чтоб спустить деньги на краплёных листах, и у которых одно господствующее чувство – суетность».
Всё это, положим, могло бы быть и смешно, когда бы не было так грустно.
Начнём с ошибки Фаддея Венедиктовича. До ярости, столь необузданной, довёл его анонимный отзыв о «Дмитрии Самозванце», напечатанный в «Литературной газете» от седьмого марта 1830 года. Между тем автором отзыва был не Пушкин – Дельвиг...
Но сделанное сделано. И вот, прочитав фельетон, около 18 марта того же 30-го года из Москвы в Петербург Пушкин пишет Вяземскому: «Булгарин изумил меня своею выходкою, сердиться нельзя, но побить его можно и, думаю, должно – но распутица, лень и Гончарова не выпускают меня из Москвы, а дубины в 800 вёрст длины в России нет...»
Длиннее любой дубины, однако, слово. Пушкин в 20-м номере «Литературной газеты» напечатал статью, названную: «О записках Видока».
Эта статья – один из тех литературных материалов, коими рассчитался он с Булгариным. Оставил от него мокрое место и не более того.
Видок был лицо действительное – французский полицейский сыщик[128]128
Видок был лицо действительное – французский политический сыщик. — Франсуа-Эжен Видок (1775—?), прежде чем стать начальником парижской тайной полиции, был преступником, каторжником, а потом уже знаменитым сыщиком. Оставил мемуары, носящие черты авантюрно-приключенческого романа, в своё время имевшие чрезвычайный успех.
[Закрыть]. Но счастливое совпадение для русского уха: Видок – подглядывающий. Речь (так же как в пасквиле Булгарина) идёт о французе, о далёком, чужом человеке, но в каждой строчке узнается иной адресат.
«Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного, и потом вообразите себе, если можете, что должны быть нравственные сочинения такого человека.
Видок в своих записках именует себя патриотом, коренным французом <...>, как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество! <...>. Он нагло хвастается дружбою умерших известных людей, находившихся в сношении с ним (кто молод не бывал? а Видок человек услужливый, деловой). Он с удивительной важностью толкует о хорошем обществе, как будто вход в оное может ему быть дозволен, и строго рассуждает об известных писателях...»
Дальше шли действительно французские фамилии, но как легко было заменить их русскими, а всё сказанное о Видоке сопоставить с плутнями Булгарина...
Продолжаем чтение:
«...Кто бы мог поверить? Видок честолюбив! Он приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слове (слог г-на Видока!). Он при сем случае пишет на своих врагов доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве и толкует (не в шутку) о благородстве чувств и независимости мнений...»
В этой статье Пушкин первейшей целью, конечно, имеет: прихлопнуть Булгарина, хорошо бы вместе с его сукой «Северной пчелой». Но кроме того, статья всерьёз ставит вопрос, нравственен ли интерес публики к запискам сыщика, палача (Самсона) и вообще к литературе подобного рода? «Нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия...»
Статьи, пожалуй что, и недостаточно. По рукам пущена эпиграмма:
Не то беда, что ты поляк;
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, —
И тут не вижу я стыда;
Будь жид – и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.
Чего ж, кажется, лучше – прямо в лоб, без обиняков? Давно понятно литературной и окололитературной публике прозвище Булгарина – Фиглярин, в котором слышится и второе – Флюгарин. Флюгарин – значит, куда ветер дует, туда и он клонит, меняет взгляды, мельтешит. Но согласитесь, это далеко не одно и то же, что прямой шпион. Теперь же после сопоставления е парижским сыщиком понятно – ещё и сотрудник III отделения, доносчик, клеветник.
Дело сделано, однако эпиграмму постигает неожиданная и много раз уже в литературе описанная судьба, lie печатает сам Булгарин, изменяя всего лишь два последних слова. Заключительная строка теперь читается: «Беда, что ты Фаддей Булгарин. Вся острота, вся законченность характеристики снимается.
Их просто нет, как не бывало...
Можно себе представить, что испытал Пушкин, раскрыв семнадцатый номер «Сына Отечества» и увидев свой и в то же время абсолютно не свой текст. Двумя ладонями ударив о стол, он стал медленно подниматься. Лицо наливалось тёмной, нехорошей краской, и не было никакого желания посмеяться выходке. Хотя выходка, что тут спорить, была не без находчивости. Ах ты, Тадеушек, бессмысленный и залихватский – здорово вывернулся!
Пушкин постоял так некоторое время, нагнувшись над столом, каменея плечами, руками, лицом. Гнев застилал глаза, ничего перед собой он не видел, кроме мягкого красного тумана. Туман этот была рожа Булгарина. Уже как бы почти совсем побитая, но ускользнувшая. Булгарин ухмылялся.
Пушкин рухнул в кресло; смех, который наконец прорвался, был необычен, так зол, что похож на лай. Не часто он так смеялся. И всё-таки надо было посмеяться ловкой строчке, зачеркнувшей эпиграмму, и тому, что небось там, в Петербурге, Фаддей торжествует.
А как же! И бокалы пенятся: За находчивость ума! О, у Фаддея ум есть, кто, господа, откажет? Вся Россия знает этот ум! Выйти сухим из воды, а? Кто ещё так сумеет одним взмахом пера перечеркнуть самого Пушкина?
Отсюда, из Москвы, было видно, как Булгарин потирает свои руки, вечно зябнущие, с красноватой, непрочной кожей. Отсюда было слышно, как смеётся Булгарин.
Ха-ха-ха-ха! – долетало из Петербурга влажное, самодовольное прихлюпывание, какое вырывается из широких глоток, много пьющих и много едящих, со вкусом проживающих единственную и потому столь драгоценную жизнь.
Смех Пушкина и смех Булгарина, сшибаясь, летели над Россией.








