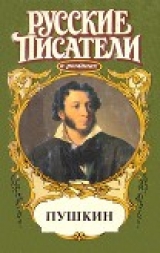
Текст книги "«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
V
К Вере Фёдоровне Вяземской Пушкин пришёл на следующий день[76]76
К Вере Фёдоровне Вяземской Пушкин пришёл на следующий день... – Вяземская Вера Фёдоровна (урожд. княжна Гагарина; 1790—1886) – княгиня. С 1811 г. жена П. А. Вяземского. Знакомство с нею Пушкина началось в Одессе и продолжалось в Москве, Остафьеве, Петербурге – до последних часов жизни поэта. В. Ф. Вяземская входила в число ближайших друзей Пушкина, была посвящена во все подробности его столкновения с М. С. Воронцовым, позже – сватовства и свадьбы Пушкина и его преддуэльной истории. После поединка Вяземская безотлучно находилась у постели поэта.
[Закрыть], прямо с утра. Стояла сухая, даже грозно сухая половина июня. Облака собирались над жаждущей землёй, донца их темно и тяжело наливались влагой, на раскалённую землю падало несколько капель, заворачиваясь в пыль, они тут же высыхали. А облака, так и не сгустившись в тучи, плыли над морем к берегу, и он смотрел им вслед с совершенно непонятной надеждой. Возможно, ему представлялось: какое-нибудь внезапно превратится в паруса возвращающегося неизвестно по какому случаю корабля. Но «Успех» не мог возвратиться, земли были куплены, предстояла закладка огромного дворца, достойного четы Воронцовых...
В комнаты, которые занимала княгиня с детьми и прислугой, Пушкин вошёл тихим и мрачным. Лицо его явно носило следы той нелёгкой мысли, с какою он не мог расстаться добрых полночи, а первые слова были такие:
– Меня тошнит с досады. Право, княгиня, на что ни взгляну, кругом такая гадость, такая подлость, глаза бы закрыть и бежать, хоть за море. Вот только тросточку с собою взять – ив Константинополь на прогулку.
– Неужели нет ничего достойного расположения на этом берегу? – Вера Фёдоровна посмотрела на него, взгляд её был лукав.
Ему было не до её лукавства. Ответил серьёзно, даже мрачно:
– Как не быть, душа великодушная. Как не быть? Вот на вас смотрю – радуюсь. Морали, почти что родственник мой по крови своей африканской[77]77
Морали, почти что родственник мой по крови своей африканской... – Морали – (Maure All), мавр Али – родился в Египте, нажил пиратством большое состояние, был шкипером коммерческого судна. Пушкин любил его, дружил с ним в Одессе, называл его корсаром.
[Закрыть], третьего дня отбыл, что печально. Этот корсар всегда представлялся мне честным человеком, уж не знаю почему. Правда, телом чёрен, да не о теле ведь речь?
Он уселся в кресло не обычным своим лёгким, сохранившим почти детскую живость движением. Казалось, за два последние дня он постарел на десять лет.
– Что-то затевается, княгиня. А я за собой греха не знаю.
– Вы заблуждаетесь, Александр Сергеевич. Граф обладает чертами, решительно ставящими его в разряд самых широких натур. Он неспособен к мелочному недоброжелательству.
Смешно, но и ему в первые месяцы пребывания в Одессе граф представлялся натурой в первую очередь широкой. Возможно, в тот вечер, когда обсуждали поездку в Крым, где только что были куплены земли, генерал-губернатор и в самом деле был широк?
Это было счастливое время, прежде всего для него, графа Воронцова. Только что он получил высокое назначение, что свидетельствовало: наконец признаны его недюжинные способности администратора и экономиста. А до того он был некоторым образом в опале, без употребления, в положении, когда собственная энергия томит, разъедает душу. И вдруг – отпустило. Он был ещё не стар, в расцвете своих возможностей, получил в руки долгожданную, почти не контролируемую (хотя бы за дальностью расстояния) власть и хотел употребить её во благо себе и вверенному краю. То, что сделает он этой властью, должно было обеспечить ему славу и при жизни, и потом...
Пушкин рассматривался им как молодой человек, которому можно, даже следует покровительствовать. Это напомнит обществу: сам граф не только пользуется славой либерала, но и есть либерал. Такой взгляд обеспечивал ему симпатии определённых кругов.
Как быстро всё изменилось! И вот Пушкин мрачный сидел перед Верой Фёдоровной Вяземской и продолжал:
– Надобно идти в отставку, а там – хоть трава не расти! То-то заживу барином в Одессе на своих хлебах. – Тут они оба усмехнулись, представляя скудность этих хлебов. – Независимость! Слово обыкновенное, а многого стоит. Всего стоит, княгиня.
– Может быть, ещё образуется, Александр Сергеевич?
– Во владениях лорда Мидаса ничего хорошего для меня не может образоваться. Я карабкаюсь, а меня пытаются утопить завистью, доносом, хуже – клеветой...
А ведь говоря это, Пушкин не подозревал, повторяю, о письмах Воронцова к услужливому Карлу Васильевичу Нессельроде, в свою очередь не без выгоды пользовавшемуся услугами графа. Имел в виду только доносящих Воронцову...
Они помолчали некоторое время, прислушиваясь к шуму с улицы и топоту детских ног в соседней комнате. Жёлтый свет цедился сквозь густые листья акаций, всё было мирно, даже слегка сонно в предчувствии издали надвигавшейся грозы.
– Но может быть, всё-таки. – Женщине хотелось и себя убедить...
– Нет и нет, княгиня, душа великодушная. У него – сила, которая дубы ломит. Тростник, правда, иногда умудряется устоять. Но как скучно гнуться...
Княгиня вопросительно и с нежностью глянула в его лицо, уж больно тонко протянул он своё: ску-у-учно...
– Тоска. Ему ведь нетрудно будет убедить общество и в Петербурге, что я – несносен. А он, напротив, терпелив ужасти как! Впрочем, я давно холоден к пересудам...
...О главном он молчал: о своей любви. Но в их разговорах графиня всегда незримо присутствовала третьей. Накануне вечером, сбивая с дороги гибкие, зацветшие мелким цветом ветки дерезы, он был полон мстительной злобы. Были минуты, когда эта злоба распространялась на саму Элизу Воронцову. Однако, явившись к Вере Фёдоровне, он принёс строки, нежнее и благодарнее которых трудно себе что-нибудь представить.
Морей красавец окриленный!
Тебя зову – плыви, плыви
И сохрани залог бесценный
Мольбам, надеждам и любви.
Ты, ветер, утренним дыханьем
Счастливый парус напрягай,
Волны внезапным колыханьем
Её груди не утомляй...
Ему очень хотелось прочесть их немедленно, но что-то удерживало. Он сидел напротив княгини, держа в руках конец её белой шали, и поминутно без слов взглядывал на неё. Ах ты Боже мой! Туго бы пришлось ему, не случись этой дружбы. Вера Фёдоровна тоже подалась несколько вперёд, словно затем, чтоб ближе придвинуться не к нему самому, но к его горю. Лицо её не было красиво, но обыденные черты освещали ум и какой-то утешающий задор. Глядя на неё, начинал верить, что впереди непременно среди серых, пасмурных будут и ясные дни. У неё был дар сочувствия, даже сострадания, почти материнского, не обидного, тёплого. Как бывает: полная и не очень уже молодая женская рука приобнимет за плечи. И висок прислонён к виску, и голос, не то чтобы уверенный, но знающий: ничего, перемелется, и мука – уйдёт. Я, конечно, не представляю, чтоб в действительности всё было так: особенно полуобнявшая рука немыслима. Но дело не в позе, дело в том, сколько вбирала она в своё сердце, кроме собственных горестей, Душа Великодушная, Княгиня-лебёдушка – вот как он её называл и был благодарен всю жизнь.
...Вера Фёдоровна смотрела на Пушкина и понимала: главное – отогреть это странное существо, этого ветреника, этого трагического шалуна, кажется, замерзшего и в самом буквальном смысле слова. Она велела подать чай, и Пушкин сиротски грел руки о чашку, взглядывал в окно, стараясь теперь не встречаться с нею глаза в глаза. Гордость в нём заговорила, душа слишком обнажилась, и он, должно быть, сожалел об этом.
День стоял жаркий, жара доставала сквозь занавешенные окна, но Пушкин всё ещё вздрагивал плечами, хоть чай был с ромом и она подливала ему, как больному.
Он ушёл от княгини не то чтобы утешенный, но уверенный в её дружбе, что было не так-то мало в чужом городе, каким обернулась для него Одесса.
VI
Воронцова вернулась в Одессу 24 июня, раньше, чем предполагалось, и одна. Граф задержался в Симферополе и оттуда переслал распоряжение насчёт Пушкина.
29 июня Пушкина вызвали к градоначальнику: его высылали из Одессы в Михайловское. 31-го в Белую Церковь к больным детям уезжала Елизавета Ксаверьевна. Пушкина высылали из города немедленно, без сопровождающего, но с подпиской следовать по строго определённому маршруту.
Что произошло между ними в эти несколько последних дней? До какой черты дошёл их роман? Так и остался он целомудренным да и серьёзным только с одной стороны, как писала Вера Фёдоровна Вяземская своему мужу? Или отчаяние перед неизбежной разлукой, как часто бывает, прорвало все плотины, уничтожило все запреты? Чувство вспыхнуло с новой силой и обожгло обоих?
В стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом» есть строка: «Вся жизнь, одна ли, две ли ночи...» Строка достаточно туманная, ни с каким конкретным именем не связанная, и всё же... Кого посетило большое чувство, тот представит за этой строкой многое и согласится: иная близость, вполне законно длящаяся десятилетия, может меньше стоить, чем краткие миги могучей страсти...
Строка достаточно туманная, сказала я. Нет, строг ка трагическая, пронзающая болью. Человек догадывается, что напряжённее, полнее, с таким приподнимающим восторгом любить он никогда больше не будет. И женщины такой он больше никогда не встретит, так волшебно умеющей при самых земных обстоятельствах одаривать любовью небесной. И море никогда не будет плескаться у самого их ложа, и мерный гул волн не сольётся со звуками влажных, исступлённых, наполненных тоской и торжеством поцелуев.
Ничего не будет, даже ночного предосеннего пения сверчков, даже пыльной дороги, которую он пройдёт пешком, возвращаясь в город с дачи Рено, где застало его известие о новой ссылке. И никогда больше не опустится над ним такая синяя, такая благоуханная, такая печальная ночь...
VII
Михайловское заточение казалось ужасным. Мокрое небо, мокрая трава, мокрые перила террасы; сапоги были мокры, плащ тяжелел от оседающих капель, когда он отправлялся верхом в ближайшие поля или в Тригорское. Угрюмо шумел, предвещая ещё большие беды, лес, осиновая роща шелестела под дождём и покорно осыпалась...
Впрочем, если бы он увидел кусочек ясного неба, он, кажется, разрыдался бы от бешенства – Одесса была с ним и в нём каждую минуту. А он опять и даже в большей мере был ссыльный невольник. И родители его, которых он застал в Михайловском, были настроены против него. Отец кричал, что опасается за нравственность сестры и брата теперь, когда он, это неблагодарное чудовище, прибыл под отчий кров. Мать была неласкова и как бы из большой дали наблюдала: чего ещё можно ждать от чужого, взрослого и даже не очень молодого человека? Который, тем не менее, был её сыном. А также известным всей читающей публике поэтом. Но и то и другое иногда представлялось недостоверным. В общем, жизнь её и Сергея Львовича прошла без Сашки, и привыкать к нему она не спешила. Сидела в углу пустой комнаты с книжкой или вышиванием, начатым здесь же, в Михайловском, Бог весть сколько лет назад...
Иногда, правда, в глазах матери чудилась ему подавляемая усмешка или попросту сдерживаемый смех. Это случалось, когда отец называл Льва младенцем, Ольгу же небесным созданием и длинно распространялся об ангельском их неведении. Они решительно ничего не знали из того, что составляет предосудительную прозу жизни, они никогда вблизи себя – и вдали тоже! да, милостивый государь, вдали тоже! – не видели порока. И вот он осмелился явиться под отчий кров не юношей, каким покидал его, но всё разрушающим афеем.
Отец явно переигрывал, воздевая руки к небу и забывая, что как-никак Ольга старшая[78]78
...как-никак Ольга старшая... – Пушкина Ольга Сергеевна (в замужестве Павлищева; 1797—1868) – сестра А. С. Пушкина.
[Закрыть], а Лёвушка относится к вину и женскому полу с таким обиходным усердием, что даже удивляет. В увещеваниях своих отец пользовался слишком длинными периодами. Совершенно ораторская красота их ничего, кроме ухмылки, вызвать не могла.
Домашний наряд отца легко приходил в расстройство. Рубаха выбивалась из панталон, пояс от нечаянно распахнувшегося халата волочился по полу. Котёнок к нему присматривался. Пушкин увидел: мать не удержалась, жёлтым, серным огнём, совершенно как в былые времена, вспыхнули её глаза.
Выходя из комнаты, мать положила на голову ему тяжёлую, словно что-то проверяющую руку. Решилась приласкать или хотя бы слегка ободрить? Он не понял и потом упрекал себя за то удивление, с каким глянул на ту, которая ещё недавно, казалось, была Прекрасной Креолкой.
Матери в её неуверенности быстро и безнадёжно стареющей женщины он сочувствовал. Отец же просто раздражал. Глаза у отца каждое утро бывали красными. Может быть, он плакал?
Но даже такой – испуганный, плачущий – он не должен был соглашаться на предложение Пещурова следить за сыном, распечатывать его письма, попросту быть шпионом. После семейного скандала, громкого безобразного, Пушкин спасался тем, что всё время проводил у соседок в Тригорском[79]79
...всё время проводил у соседок в Тригорском. – Тригорское – село и помещичья усадьба на Псковщине, неподалёку от Михайловского. Ко времени михайловской ссылки Пушкина эта усадьба принадлежала Прасковье Александровне Осиповой (урожд. Вындомской; 1781 – 1859), в первом замужестве Вульф. Пушкин познакомился с её семейством в первый свой приезд в Михайловское в 1817 г. Дружба их особенно окрепла во время ссылки поэта, когда он оказался оторванным от привычной среды. Пушкин сумел оценить теплоту и искреннее участие тригорских знакомых, которым не были чужды и литературные интересы. Он пользовался библиотекой в Тригорском, бывал там чуть ли не ежедневно и скоро, по его собственному выражению, «воскрес душой».
[Закрыть].
...Однажды тригорские барышни[80]80
...тригорские барышни... – дочери от первого брака П. А. Осиповой Анна и Евпраксия Вульф – и от второго брака Мария и Екатерина Осиповы, а также падчерица Александра Осипова (Алина). Бывала в Тригорском и двоюродная сестра Вульфов – А. И. Вульф (Нетти). Почти все они были влюблены в поэта. Им посвящены многие стихотворения Пушкина.
[Закрыть], которые на первых порах казались ему совершенно непривлекательными, принялись в четыре руки играть ему Россини. И он, сидевший на маленьком диванчике с неудобной, как бы выталкивающей спинкой, вдруг увидел Одессу. Он увидел театр, последний вечер, себя, зашедшего в ложу к Элизе Воронцовой, что было неосторожно, но у него не стало сил противиться сердцу. И она не противилась своему, её взгляд в темноте ложи переливался слезой, радостью, отчаянием потери. Именно тогда он понял, что любим.
И вот теперь сладкие, томные звуки вернули его к тому вечеру. Он застонал нечувствительно Для себя, но почти громко и перехватил взгляд Прасковьи Александровны.
Ушёл стремительно, не объяснившись, не попрощавшись, и был благодарен за то, что за ним не кинулись, а на следующий день не стали пенять за неучтивость или выяснять причины бегства.
Без Тригорского, без его хозяйки Прасковьи Александровны Осиповой он не мог обойтись. В Тригорском было тепло. Рано стали протапливать печи, пекли пироги с мелко рубленной капустой и грибами; варенье подавали крыжовенное, рецепт его был старинный, на две пожелтевшие от ветхости страницы... Главная теплота, однако, заключалась всё-таки во взгляде Прасковьи Александровны. Но дочери её и даже падчерица тогда ещё решительно не нравились ему.
Только пятнадцатилетняя Зизи[81]81
...пятнадцатилетняя Зизи... – Евпраксия Николаевна Вульф (см. коммент. № 121).
[Закрыть] слегка занимала: быстрым бегом по первому инею, закурчавившему траву, в открытом платье с голыми руками; взрослой манерой входить вечером в гостиную, покачивая стянутой в рюмочку талией.
Ах, всё это было не то! До смешного, до слёз – не то! Он писал в Одессу Вере Фёдоровне Вяземской, справляясь о здоровье её детей. Но знать ему хотелось: где Элиза? И что Александр Раевский?
Наконец из Одессы от Воронцовой стали приходить письма. В них он не находил даже самой горькой услады: всё оставалось позади, ничто не могло сблизить их. У него была отдельная от всех милых ему судьба: ссылка и стихи.
Он писал:
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто её колен в забвенье не целует;
Одна... ничьим устам она не предаёт
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Никто её любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;
Но если . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Это не были неоконченные стихи. Это были стихи, в которых пропущено непроизносимое.
Ненастной ночи мгла по небу стелется одеждою свинцовой – вот что такое было Михайловское, а что такое была Одесса – он не хотел думать, чтоб не застонать, как от звуков Россини.
У него было одно оружие, один способ сохранить о себе память, оттеснить тех, кто мог претендовать на вполне земное отношение Элизы Воронцовой. И он написал «Желание славы».
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты; скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стеснённое молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придёт никогда... И что же? Слёзы, муки,
Измены, клевета, всё на главу мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И всё передо мной затмилося! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражён всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне.
Чтоб, гласу верному внимая в тишине.
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.
Вот так-то...
Их разделяло непреодолимое. К тому же, если Пушкин мог сказать: всё в жертву памяти твоей, то вряд ли это же самое хотелось повторить жене генерал-губернатора Новороссии... Жизнь в Одессе кипела, нарядная, тесная, полная возможностей соблазнительных.
...Но, как всякая безнадёжная любовь, и эта всё-таки отплывала дальше и дальше. Наподобие корабля, вслед которому он ещё недавно смотрел с одесского берега. И только ночью он продолжал вскакивать в ужасе. Ему снился грот на даче Рено; море, шелестевшее между камнями, по которым с убивающей достоверностью бочком полз маленький краб. Самое страшное заключалось в том, что ещё во сне он знал: это сон. И изо всех сил не хотел уходить из него. Он противился, он, как тогда наяву, не отпускал её рук. Было ещё рано, ещё невозможно было расстаться.
В окно с удивительной настойчивостью колотил вчерашний, нет, позавчерашний дождь. Не вставая с кровати, он накидывал на плечи халат, было сыро, холодно, убого. Обглодками перьев, на клочках бумаги, по всегдашней своей манере, он писал. Что? Я так думаю; пропуск в бессмертие на двоих.
Всё в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слёзы девы воспалённой,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточённого страданья.
VIII
От Одессы было далеко и во времени и в пространстве, когда в степном, унылом Болдине осенью 1830 года его задержала холера.
Та любовь, южная, ревнивая, мучительная, а главное, обречённая, уже была пережита. Что ж теперь, накануне свадьбы, вспоминать? Но именно накануне, прощаясь, он вспоминал благодаря.
Обращаясь к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой, он писал:
В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя всё, меняя нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.
Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего.
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.
ТРИ ВСТРЕЧИ
I

 акануне Пушкин долго не ложился спать. Но он, разумеется, не знал, что этот вечер накануне. Острый месяц стоял над круглыми бесконечными сугробами. Каждый день подсыпало, прорванное небо низко нависало над домом, над соснами, над землёй. Снега выпало так много, и простирался он так далеко, можно было представить: и по улицам Одессы метёт, извиваясь в мёрзлых колеях, позёмка.
акануне Пушкин долго не ложился спать. Но он, разумеется, не знал, что этот вечер накануне. Острый месяц стоял над круглыми бесконечными сугробами. Каждый день подсыпало, прорванное небо низко нависало над домом, над соснами, над землёй. Снега выпало так много, и простирался он так далеко, можно было представить: и по улицам Одессы метёт, извиваясь в мёрзлых колеях, позёмка.
Представить было можно, но, передёрнув плечами, он отложил – пустое...
Одесса вспоминалась и представлялась летней, задыхающейся от зноя, тонущей в полуденном мареве. Одесса представлялась тёплым чмоканьем моря в камнях, вонью припортовых улочек, бесцеремонным шумом театральных разъездов.
С ним поступили бесчестно: неизвестно чьими стараниями, но упекли сюда, в Михайловское. В родовую вотчину, как можно было бы сказать себе в утешение. Над родовой вотчиной как бы кто-то опустил огромный полупрозрачный стакан, он задыхался от тишины и неизвестности, писал стихи о любви и о нелюбви – тоже. Одно стихотворение называлось: «Коварность», вот вторая его половина:
...Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочёл в немой душе твоей
Всё тайное своим печальным взором, —
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осуждён последним приговором.
Это была картина того, во что вылились отношения с Александром Раевским, старшим сыном генерала. Осознавать такое было мучительно. Александр долго был как будто другом. Или всего-навсего – умным собеседником? Вечным оппонентом, хотя игру страстей он к тому времени тоже постиг и тоже убедился в неотвязчивой силе людской злобы и зависти. Однако сомнение в достоинствах рода человеческого у Раевского было уж слишком разъедающим. Пушкин несколько раз ловил себя на том, что после вечера, проведённого вместе, отирал лицо, будто рукой снимал паутину. Одной своей улыбкой, даже без слов, Александр ставил под сомнение решительно всё: садился, высоко закинув ногу, перехватив её у щиколотки, и принимался доказывать, каждый раз подкрепляясь новыми примерами, что миром движет себялюбие, не больше. «Мы все глядим в Наполеоны, да Фортуна, мой ангел, взглядывает не на всех с тем расположением. – Лицо в странных, ранних морщинах кривилось. – И ты, Пушкин, не больше ли жизни самой любишь славу?» «Славу?» – переспрашивал Пушкин, не возражая. «Да, и в самой любви...»
Нет, это была неправда: в любви он жаждал любви, а вовсе не огласки...
Женщины оказывались особенно плохи, попав на язык Раевскому. Он не щадил никого, даже сестру. Выскочила за генерала единственно из тщеславия, между тем как все женщины, даже самые блестящие, способны быть только тенью. Вот каламбур! «И Элиза?» «А что ж – Элиза? Дай срок, увидишь!»
Может быть, теперь, когда он сидит в Михайловском, срок настал? И Александр Раевский, сам влюблённый в Елизавету Ксаверьевну Воронцову, наконец одержал победу над её снисходительным сердцем? Думать об этом было почти невозможно...
Пушкин глядел в давно полученное и много раз читанное письмо, строки бежали легко, изящно из шумного города Одессы прямо сюда, в михайловскую избу. По этим строкам совершенно невозможно было отгадать, надолго ли станет того чувства, какое диктовало письмо?
Опустив листок в руке между остро поднятыми коленями, он задумался... Престранная это была игра: под вой метели воображать их там, на юге... Иногда, в минуты особенно злого отчаяния, перед ним на заледеневших стёклах и довольно достоверно вырисовывался волчий профиль Воронцова, иногда кудри Элизы, поднятые в замысловатую причёску... Сейчас Пушкин выбрал и долго держал перед глазами тот вечер, когда он понял: Александр Раевский настраивает – и коварно! – против него Воронцова, именно затем, чтоб его убрали из города, чтоб Елизавета Ксаверьевна – чем чёрт не шутит! – вспоминала давнюю свою благосклонность...
...Они с Александром стояли тогда на берегу, поспорив, под чьим же флагом идёт в гавань корабль. Час был предзакатный, розовое жидкое золото разлилось на полморя. Парусник поднимался из-за горизонта, плыл стремительно, окрылённый всеми парусами. Он становился всё наряднее, всё одушевлённее. И так продолжалось до тех пор, пока глазам не открылась грязная обшивка, бочки на палубе, обезьянья суета оборванных матросов, а также отнюдь не девственная белизна парусов.
Раевский, близоруко щуря глаза, утверждал, что Элиза, несмотря на снисходительную доброту сердца, любить вовсе не способна. Что жизнь её украшают, а также разнообразят победы и – только.
Он не верил Раевскому, но вдруг почувствовал ужас. Настала минута, он потерял слух, смотрел на шевелящиеся губы друга, на глаза, сквозь улыбку холодно рассматривающие его.
Ужас был не тот весёлый, какой он испытывал, приближаясь, бывало, к барьеру. Этот не заострял, а цепенил душу. Потому что был не перед опасностью, может быть даже смертельной, а перед чем-то с дружбой, да и просто с понятиями чести несовместимым... Он тогда точно понял, что предан. Не из слов определённых – их не было. А из каких-то вдруг сложившихся мелочей понял: Александр сделал то, что потом определилось строчкой: сонного врагу предал со смехом.
...Колокольчика не было слышно ни сегодня с утра, ни вчера, ни ранее... В девичьей пели девушки; как и полагалось, трещала лучина; ворчала няня, а тоже принималась выводить грустное неверным старческим голосом; жужжала прялка; быстрой пробежкой по коридору то удалялись, то приближались чьи-то шаги – тишина оставалась непроницаемой, островной.
Он лежал в кровати до обеда, а обедал поздно – писал. Листки падали на пол, возле кровати; что ж, он, пожалуй, был свободен, пока с ним оставался его дар. Можно было, правда, сойти с ума, спиться, начав с няниной бражки и наливок, жениться на ком-нибудь из соседских барышень. Можно было также просить о царской милости, падать в ноги, пусть не в прямом, в фигуральном смысле: «припадать к стопам».
Припадать не представлялось возможным. Царь поступил по отношению к нему бесчестно, он не любил царя. Но сколько могла продолжаться эта жизнь без событий? Вот уж тут воистину он был брошен забвенью. Такова открывалась истинная цель Августа...
...Назавтра колокольчик послышался внезапно: дальний, заливистый, стремительно приближающийся. О чём он подумал тогда? Какое предчувствие толкнуло – выскочить на крыльцо как был в постели, то есть в рубашке одной и босиком?
Кони ворвались в приотворенные ворота и застряли в сугробе. Пар валил от коней, фыркая, поводя боками, они косили лилово-красные глаза, засматривая на него. Словно коням передалось нетерпение и любопытство седока.
Высокий человек в тяжёлой шубе пробирался к крыльцу, поднявшиеся снежинки не давали разглядеть его сразу.
– Пушкин!
– Жанно! Пущин![82]82
– Жанно! Пущин! – Пущин Иван Иванович (1798—1859) – лицейский товарищ Пушкина, один из его ближайших друзей. Прапорщик лейб-гвардии конной артиллерии, с 1822 г. поручик, с 1823-го – судья в Московском народном суде. Член «Союза спасения», «Союза благоденствия» и Северного общества. Осуждён на вечную каторгу в Сибирь. С Пушкиным познакомился на вступительных экзаменах в Лицей в 1811 г. Последняя их встреча состоялась 11 января 1825 г. в Михайловском. Автор «Записок о Пушкине».
[Закрыть] – Он крикнул так, и сейчас же стало ясно: именно Пущина ждал сюда, если вообще разрешал себе кого-нибудь ждать.
Пущин схватил его в охапку и внёс, почти голого, в тёплые сени. А что было дальше, мы ещё с младших классов знаем по запискам Ивана Ивановича Пущина, да и по картине художника Ге. Правда, на картине всё благополучнее, что ли. И комната больше, наряднее, и никакой тоской не веет сквозь радость встречи двух лицейских товарищей. И няня – сама умиротворённость.
Иван Иванович Пущин привёз другу грибоедовскую комедию, идёт чтение – все довольны. Пушкин на этой картине – автор послания «К Чаадаеву», «Вещего Олега» и «Зимнего вечера» (хотя стихотворение ещё не написано), такая эта картина хрестоматийная, такая простодушная. И нет ощущения бесприютности, заброшенности, нет тех непроходимых снегов, нет города молодости Петербурга, до которого никакая тройка не домчит, хоть – рукой подать. Запрещено. Нет города Одессы, и как будто вовсе нет и не бывало Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой и самого всесильного графа. А тем более Александра Раевского, да и вечера накануне, когда ему показалось: ни любви, ни дружбы и вправду не ищи на свете, мир своекорыстен и узок. Накануне приезда Пущина он чувствовал горечь ещё, кроме всего, и чисто физическую: грозила разлиться желчь. Накануне приезда Пущина у него руки немели от бешенства, когда он, глядя в притворенную печь, вдруг увидел себя и Александра в гавани и плывущий на них этот великолепный корабль – олицетворение свободы и гордости, как ему показалось. Только потом подумал о зависимости его от ветра и, как ни странно, от стараний маленьких фигурок, бросавшихся на ванты, точно на приступ крепостных стен, и принуждённо бодро делавших свою работу.
Накануне приезда Пущина он отнюдь не предавался лицейским воспоминаниям, так мне представляется. Слишком свежи были новые раны. Лицей оставался где-то в далёком прошлом, одесская же история казалась ещё настоящим.
...Разумеется, Пушкин был бы рад увидеть Пущина в любой день своей жизни и в изгнании, и на свободе. Но встреча в январе 1825-го приобрела особую остроту. В двадцатые годы это был, пожалуй, самый трудный период его жизни.
Известно: Пущин всегда имел на Пушкина особое нравственное влияние. Большой Жанно – не по одной фигуре кличка. Великодушие, готовность постоять за справедливость, отменная весёлость, но совершенно без нервных судорог самолюбия. Сколько раз он успокаивал Пушкина, уязвлённого насмешкой или собственной промашкой. Однако всё это относилось к отрочеству, к детству почти. Сейчас же сидели друг против друга два совершенно взрослых, определившихся человека, сквозь радость свидания немного удивляясь тому и меряя быстротечность времени...
С чего начать, чтоб так же как в Лицее, хоть и в споре, но согласно бились сердца?
Иван Иванович начал с того, что ближе лежало:
– Что одесская история твоя? Шуму много о тебе да о комедии тёзки твоего. Все шумят, а толком никто объяснить не может, что с тобой приключилось. Многие грешат на графа. А ты – как?
– Граф – штука тонкая. Я и сейчас хладнокровно не могу всё его касающееся рассудить.
Произнёс Пушкин эти фразы вяло, как бы не хотелось ему дальше продолжать. И мысль мелькнула: Дельвигу бы сказал и стихи прочёл, не одни эпиграммы. Мысль была непозволительная в виду розового, ясного, внимательными глазами рассматривающего его Большого Жанно. Пущин заметно был оживлён интересом к одесской истории, а больше готовностью бодро, без кислоты во взоре, сочувствовать. Или не столько сочувствовать, сколько рассудить, как в Лицее он без ошибки рассуждал, чья вина?
Нежелание друга вдаваться в подробности одесского житья Пущин приметил, но всё-таки спросил:
– Может быть, какие-нибудь новые твои фарсы стали известны кому не надо?
– Мысль, душа моя, богатая, только мне о том ничего не известно, – усмехнулся Пушкин. – Да что и говорить об этом вздоре. Сказано: отправить в имение родителей своих, для охлаждения сердца и разума в здешних сугробах, я так полагаю... Надолго ли?
Он сидел, зажав руки в коленях, смотрел теперь в сторону, и снова выплыла мысль о Дельвиге, появилось перед глазами его лицо близорукое, родное, как запомнилось из того майского дня, когда барон провожал его в ссылку.
Они оставили тогда бричку, шли пешком по мокрой после быстрого дождя дороге. Горьковатым, сырым и сильным запахом пахли листья на старых липах вдоль дороги. И временами казалось: они просто вышли на прогулку, и в его воле вернуться, как вернётся Дельвиг с младшим Яковлевым, братом лицейского.
Дельвиг говорил, что ждёт его через год и с новой поэмой, а то с двумя, «А ты, брат Пушкин, уж постарайся, поймай любовь такую, чтоб достало не на одну сотню строк. Да сам кинься в герои!»
Чтоб малый, не тревожащий срок ссылки казался убедительным, Дельвиг дурачился, перепрыгивая через светлые лужи. Ленивый в движениях, толстый, он старался, лицо его разгорелось.
Голос у барона при его рассуждениях иногда срывался, он обещал сам приехать на юг, если какие-нибудь обстоятельства, к примеру романтические, задержат Пушкина. Но представить, чтоб вот так, как Жанно, через волчьи вёрсты, через сугробы Дельвиг вломился в занесённый двор – нет, этого представить было невозможно...
– Дельвиг мне год только ссылки обещал, да вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Который уже идёт? Шестой.
– Авось – последний. – В голосе Жанно большой уверенности что-то не слышалось. Надо было переводить разговор, он и перевёл его. Стали вспоминать лицейских: Малиновский, Матюшкин, Яковлев[83]83
Стали вспоминать лицейских: Малиновский, Матюшкин, Яковлев... – Малиновский Иван Васильевич (1796—1873) – лицейский товарищ Пушкина, сын первого директора Лицея В. Ф. Малиновского. Прапорщик, затем капитан лейб-гвардии Финляндского полка, с 1825 г. отставной полковник, помещик.
Матюшкин Фёдор Фёдорович (1799—1872) – лицейский товарищ Пушкина, моряк, впоследствии адмирал, сенатор.
Яковлев Михаил Лукьянович (1798—1868) – лицейский товарищ Пушкина; с 1817 г. чиновник Сената в Москве, коллежский секретарь. С 1827 г. переведён в Петербург, работал в канцелярии у М. М. Сперанского. Впоследствии действительный статский советник.
[Закрыть]. Дельвига Жанно назвал после Илличевского[84]84
Илличевский Алексей Демьянович (Олосенька) (1798—1837) – лицейский товарищ Пушкина, поэт. Служил в Министерстве финансов и в Министерстве государственных имуществ.
[Закрыть], упомянув и стихи Олосеньки, а Кюхлю[85]85
Кюхля – Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797—1846) – лицейский товарищ Пушкина. Поэт, литературный критик, издатель альманаха «Мнемозина». Член Северного общества, участник восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Осуждён к 20 годам каторги. С Пушкиным был связан взаимной дружбой и общностью литературных интересов. Удивительна неожиданная их встреча в октябре 1827 г. на почтовой станции, когда Кюхельбекера переводили из Шлиссельбургской крепости в Динабургскую. Друзья кинулись друг к другу, но жандармы их растащили. На следующий день Пушкин записал об этом для своих автобиографических записок.
[Закрыть] вовсе не вспомнил.








