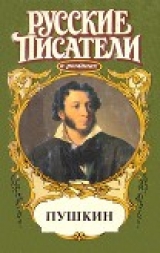
Текст книги "«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
ВРАГИ ЕГО, ДРУЗЬЯ ЕГО...
Занимательная, поучительная, а вообще невероятная история происходила тем временем в Петербурге.
Начнём её с того, что в уже знакомую и придуманную нами гостиную в час, не совсем удобный для визитов, вошёл тоже уже знакомый нам молодой человек Михаил Николаевич. Лицо его выражало изумление такого порядка, что все черты как бы немного сместились, а мелкие капли пота то и дело оседали на разгорячённом лбу. Он вытирал их, спеша привести себя в приличный вид до прихода хозяйки.
Хозяйка всё не выходила, молодой человек отгибал тёмную штору, взглядывал на улицу. Улица, к видимой его досаде, оставалась тоже спокойна и была малолюдна.
Наконец появилась хозяйка в синем платье с рукавами изумительной пышности. Пышность сия призвана была подчёркивать гибкость узенькой, в рюмочку, талии.
– Надежда Алексеевна, Богом молю, простите моё вторжение, но для одной только вас бежал, нёс новость чрезвычайную...
– Холера в Петербурге? – перебили его довольно сухо. – И вы решили передать мне её из первых рук?
– Какая холера, милостивая государыня, какая холера! Лучше: скандал такой, какого свет не видывал. Во всяком случае, наш петербургский.
– Рассказывайте же, я жду. – Хозяйка опустилась на краешек тёмного дивана, не слишком убедительно указав на место подле себя.
Но Михаил Николаевич остался стоять.
– Итак, представьте себе, моя милая, моя добрейшая Надежда Алексеевна. – От важной той новости, какая ещё вся была при нём, его слегка заносило на фамильярность. – Представьте себе, в лавке у Лисенкова в окне выставлен портрет, кого бы вы думали[133]133
...в лавке у Лисенкова в окне выставлен портрет... – Лисенков Иван Тимофеевич (1795—1881) – петербургский книгопродавец и издатель, распространитель прижизненных изданий Пушкина. Бытовала версия, что Пушкин купил у него литографированный портрет Ф. В. Булгарина, который Лисенков распространял как портрет французского сыщика Видока.
[Закрыть]? Почти в полный рост, отменно литографированный. Смотрит, как в натуре, только красоты да значительности прибавлено. А кто – угадайте?
От нетерпения ноги Михаила Николаевича сами по себе разъезжались на лаковом полу. Собеседница его, однако ж, оставалась совершенно спокойной.
– Пушкина портрет вас бы в такое состояние не привёл. Кого же тогда назвать?
– Булгарина, драгоценнейшая Надежда Алексеевна. Фаддея Венедиктовича!
– Булгарина? – Дама поморщилась в досаде и юбки подобрала. – Булгарина?
– Булгарина-с! – Молодой человек поднял поучительно палец. – А подпись какова под портретом? То-то и оно: «Парижский сыщик Видок!» Так прямо и написано. Отмщён Александр Сергеевич, отмщён и с походом...
– Действительно, происшествие удивительное. – Тоненькая морщинка у переносья собрала изящный лоб. – И счастье, что Александр Сергеевич отсутствует. Дуэли бы не миновать...
– Но с кем? Булгарин не вызовет – трус. Не то – вышиби окно тростью и будь таков. Так нет, говорят, прошёл мимо в том самом цилиндре и бобрах, как изображён. И Пётр Великий за ним, за Фаддеем нашим, на портрете. А также вся площадь Сенатская, говорят, проглядывается...
– Так вы сами не видели?
– Только бегу. К вам заскочил на минутку.
И молодой человек умчался – переносить.
...А между тем в доме у самих графов Строгановых, богачей широких и просвещённых[134]134
...в доме у самих графов Строгановых, богачей широких и просвещённых... – Строганов Григорий Александрович (1770—1857) – граф (с 1826); посланник в Испании, Швеции и Турции, член Верховного суда над декабристами, действительный тайный советник. Приходился двоюродным дядей Н. Н. Пушкиной. Его жена (вторая, с 1826 г.) Юлия Павловна, имевшая от Г. А. Строганова внебрачную дочь И. Г. Полетику (см. ниже).
[Закрыть], шёл разговор о том же. Построенный Растрелли дом стоял на Невском и являл пышность необыкновенную. Слух о портрете Булгарина и подписи под ним долетел и сюда, развеселив хозяев и гостей, немногочисленных в этот раз. Тут заключалась и ещё одна тонкость: Пушкин в скором времени через свою невесту должен был стать родственником Строгановых. Вернее, свойственником по линии Загряжских, очень дальним, но всё же...
Булгарин же был выскочка, с замаранной биографией, и то, что он писал в своих пасквилях о Пушкине, разумеется, нуждалось в отмщении.
Первые фразы, сказанные по поводу удивительной новости, были фразы русские:
– Бог шельму метит, – сказал граф Григорий Александрович. Остроумие, фрондёрство, рисковость прижились в их роду, выветриваясь и мельчая с течением времени, но всё ещё существуя. – Ишь, нашёл себе поручителя Фаддей. Не кому-нибудь, ему Пётр дорогу кажет. Государственный человек Фаддей, а как же! Любому за шиворот чего гаже бросит, а вот и самого догнали. – Граф засмеялся густо и довольно.
– Но государь не так давно подарил ему брильянтовый перстень. – Графиня соединила пальцы и снова слегка развела их. – Я сомневаюсь, чтоб государю понравилась такая шутка над человеком, отмеченным его милостью...
– Не студи, графиня, дай посмеяться, – остановил её муж. – Там гонору, я полагаю, на трёх титулованных, и вдруг – Видок!
– Видок Пушкиным пущено и с него же спросится, не с одного Лисенкова. – Это уже звучал третий голос. Довольно мелодичный, но прохладный голосок Идалии Полетики, дочери Строгановых. Впрочем, дочь сия рождена была так давно и ещё вне нынешнего брака, что существовала как бы сама по себе со своими суждениями и оценками.
– Но Лисенков! Да и Лисенков ли? Не Смирдин? Я с утра слыхал эту историю, там говорили – Смирдин рискнул, – возразил ещё один гость. – Внутри лавки висит Фаддей, гвоздиками пришпиленный и Видоком прозванный...
– Ну нет, Смирдин – человек обстоятельный. Пушкина любит, а Булгарина печатает.
– Под чьим портретом, однако, «Пушкина» можно написать, ума не приложу. Разве что – под обезьяньим. – Идалия[135]135
Идалия Полетика – Идалия Григорьевна (между 1807 и 1810—1890) – дочь Строганова, с 1829 г. жена А. М. Полетики, подруга Н. Н. Пушкиной. Поначалу дружеские отношения Пушкина с Полетикой позднее сменились на резко враждебные. Существуют свидетельства современников о дружбе Полетики с Геккерном и Дантесом и о её неблаговидной роли в дуэли поэта.
[Закрыть] наморщилась, будто и в самом деле тревожась этой мыслью.
Такая красивая – граф искоса, но очень внимательно ещё раз глянул на молодую рыжеволосую женщину, свою дочь, – такая красивая, такая свободная в желаниях, такая счастливая в их исполнении, и вдруг эта ярость, как у кошки...
Дойдя в безмолвных рассуждениях до этого определения, граф неожиданно хмыкнул. Однако «кошка» к делу не относилась.
А к делу относилось: какие же последуют расчёты?
Слишком уж очертя голову решился кто-то на подобный шаг. Не мешало вспомнить если не царский перстень, то любовь Николая Павловича к порядку, который довольно точно мог быть выражен поговоркой: «Всяк сверчок знай свой шесток».
Граф позвонил, лакей возник в дверях сразу и, перехватив взгляд хозяина, подошёл к нему почти вплотную.
– Ивана Семёновича позвать.
Иван Семёнович, служащий, славившийся расторопностью и сметливостью, был послан по всем книжным лавкам узнать: а в самом ли деле? Или кто-то выдал желаемое за действительное? Булгарин, всеочевидно, большой подлец, даже в маскарадах от него шарахались, где каждый каждому на ногу наступал не чинясь. Но тем более храбрость нужна была не рядовая – так припечатать. Пушкинская, дерзкая, противу всех правил храбрость тут приходила на ум.
...Иван Семёнович ринулся прежде всего к Лисенкову. В широком окне было темно, уличный фонарь горел тускло, шёл мокрый снег. Одинокая женская фигура стояла у крыльца в нерешительности. Но вот она поднялась на ступени, занесла руку к дверному молотку и была приглашена в дом. Иван Семёнович решил дождаться её; ясное дело – за тем же пожаловала. Сама ли по себе любопытна без удержу? Или очень уж большой друг поэта была, искала случай порадоваться?
Дверь, отворившись, выпустила её почти тотчас же. За гостьей с непокрытой головой вышел хозяин. Он держал в руках свечу, но ветер с налёту прихлопнул её пламя. У женщины ветер рвал шаль, и ленты шляпки кибиткой летали вокруг щёк.
– Рад бы, рад похвастаться, а – не могу, милостивая государыня, – говорил хозяин отчётливо и не без досады. – Кто на такое пойдёт, чтоб с плеча рубить, да заодно – себя по ногам? Так что не взыщите...
Женщина уже сбегала с крыльца, а тут луна выкатила на простор, и строгановский курьер не без удивления увидел: большие ласковые глаза дамы, одетой в холодную бархатную шубку, как бы готовы заплакать, углы красивого рта опущены...
Иван Семёнович снял картуз и спросил не то у неё, не то у всё ещё стоявшего в дверях хозяина:
– Простите великодушно, я человек графа Строганова, а послан узнать: не случилось события, нет?
Женщина повела головой отрицательно, а хозяин поклонился и захлопнул дверь с такой силой, что резкий звук долго ещё гулял по улице, отталкиваясь от соседних домов и умирая вдали...
Надо было понимать, события не случилось. В этой лавке, по крайней мере.
Но прежде чем помчаться дальше, Иван Семёнович через мокрый скользкий снег, тут же расседавшийся лужами, с поклоном проводил молодую даму до саней. И ещё раз удивился её ласковой красоте, одиночеству, а главное, решимости.
До лавки Смирдина было недалеко, но, сев в сани, он велел ехать медленно, совсем медленно.
Иван Семёнович был человек простой, вполне дюжинный, однако стихи любил. И многие пушкинские знал наизусть. Случившаяся встреча настроила его на особый лад. Думая о себе, о судьбе своей довольно благополучной, но уж куда как не праздничной, Иван Семёнович почему-то почувствовал жалость к женщине, так быстро-молодо севшей в сани, без спутника, льдистой ночью, рвавшей концы плохонькой шали.
И вдруг сообразил, кто эта женщина. Это была та, о которой Пушкин написал:
Когда твои младые лета
Позорит шумная молва,
И ты по приговору света
На честь утратила права;
Один среди толпы холодной
Твои страданья я делю...
По-божески, ради таких строк стоило рискнуть приехать в темноте, в ненастье к Лисенкову. Прочитав сии строчки в «Литературной газете» ещё весной, Иван Семёнович всё думал: о ком они? И вдруг встретил самоё...
Убеждённость в правильности отгадки его была так велика, что по слабости, вполне, впрочем, извинительной, уже представлялись изумлённые лица конторских, которых он удостоит рассказом. Возможно, и самому графу интересно было бы...
Подумав о графе Григории Александровиче Строганове, Иван Семёнович, однако, хмыкнул как-то странно и замерзшими непослушными губами почти вслух прочёл из того же стихотворения:
Но свет... Жестоких осуждений
Не изменяет он своих:
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.
...Так ехал строгановский гонец, заглядывая чуть ли не во все зеркальные окна лавок, модные тоже, даже кондитерских: чем чёрт не шутит? Поручения хозяйские надо исполнять досконально. Не это ли толковал он молодым своим подчинённым, подкрепляя для иных довольно жёсткими ударами костяшек пальцев по буйным порослям кудрей.
...Между тем дама, севшая в сани возле книжной лавки, возвращалась домой действительно очень одинокая, очень удручённая. Чувство было такое, будто портрет Булгарина с ядовитой надписью под ним мог это состояние нарушить. А как же? Увидев нечто, чего никто не видел или видели люди другого круга, она обретала неоспоримую силу притяжения. Интерес к ней воскрес бы, вот что...
Дама эта, не знатная и уж вовсе не богатая, была избалована интересом. Вслед ей, бывало, поворачивались самые важные головы на самых гордых шеях: «Она?», «Та самая? Неужели?», «И что он нашёл?». Была и сладость и опасность в этом шёпоте, но спасал характер. В неприкаянности, в нужде её всегда спасал характер. Она была беззаботна, и если уж выпадали мгновения радости, умела запастись впрок надеждой на то, что всё приходит к счастливому концу. Она даже придумала нечто вроде своего собственного символа веры: сначала (и при том сквозь самые горькие слёзы) надо улыбнуться судьбе за так, за то, что жива и часто любима. В ответ же и судьба расщедрится. Однако, вопреки ожиданиям, судьба со своими подарками никак не спешила. Жизнь её была тяжела, одно хорошо – независимость. Но бедность давила настоящая, когда нечем становилось заплатить за квартиру, не на что купить новые башмаки.
Но вернёмся к действию. Прежде чем попасть домой, в плохо топленные свои комнаты, дама, о которой идёт речь, заглянула к друзьям.
В передней, тесной и не слишком светлой, её встретили обычным восклицанием:
– Ну как можно заставлять так волноваться? Ан нет – как?
Особого волнения, впрочем, лицо подруги отнюдь не выражало. А всё как бы радостно вздрагивало от любопытства и любования чужой смелостью. Сама она, по своим же уверениям, совершить подобного не смогла бы ни за какие блага мира.
– Ну? Нет? И не было? Как жаль...
Софья Михайловна помогала гостье стряхнуть шубку, отяжелевшую от талого снега. Слуги, как всегда в этом доме, появлялись на зов в сонной одури и недоумении: что ещё надоть?
Хозяин же, тоже знаменитый, кроме всего прочего, снисходительной ленью, слегка прихворнул и отлёживался на широком диване в кабинете. Очки его радостно блеснули навстречу дамам, но обе они повели своими хорошенькими головками справа налево и ещё раз.
– Нет? Не выгорело, Анна Петровна? Только простуду зря могли схватить, как я, грешный. – И он, кряхтя, принялся нашаривать мягкие туфли, приподниматься с дивана...
– Ну нет, – ворчал он далее, – Фаддею сам чёрт детей колышет, а вы, дуры бабы, понадеялись! Забавно. Впрочем, нет: горько! Впрочем, у меня – хандра.
Он посидел несколько минут, опустив руки и голову, словно раздумывая – не улечься ли снова.
– Хандрливость (он засмеялся странному и труднопроизносимому слову) есть точно свойство моей натуры. Как блудливость – Фаддеевой. Сводничает Фоку, выдаёт нас с головой там, где и комар носа не подточит... А бодливость – Александра свойство, никому не спустит при всём добродушии.
Он засмеялся, вспомнив, как именно Александр не спускает Фаддею, и тут же стал мурлыкать себе под нос:
Говоришь, за бочку рома —
Незавидное добро!
Ты дороже, сидя дома,
Продаёшь своё дерьмо!
Анна Петровна Керн слушала, наклонив к плечу голову, будто и не эти слова, а что-то дальнее. Дельвиг же продолжал, всё ещё не вставая с дивана:
– Мы их словом, они нас – делом, а дело Булгарина, как известно, кроме всего прочего – доносы Александру Христофоровичу. Донос – потому что конкуренции боится. Да из злобы и зависти. Затейлив, игрив Булгарин – развлекается. А и наскочил на булавку Пушкина, всё равно неизвестно, уймётся ли. Разве что царь прикрикнет...
...Пока что несколько времени назад на него, Антона Антоновича Дельвига, совершенно неприлично кричал Бенкендорф. Кричал, краснея от искусно подогреваемой злости.
Дельвиг смутился тогда и не нашёлся сразу, от первого непривычного и неприличного «ты». Чего раньше не бывало. Забавно!
Лицом ещё умеренно румяный, с этой будто мыльной, отступившей ото лба шевелюрой, вполне приличный господин, Бенкендорф на этот раз был страшен:
– Где? Где, укажи мне, найдётся предмет, какой ты, Пушкин, Вяземский не подвергли осмеянию? Аристократы, чистюльки – славить отечество у них рука не поднимается – горды. Горды? Глумливы и ленивы послужить, да. Всех в Сибирь, кабы моя воля, всех в кучку сбить, чтоб не скучали, почту не обременяли. А? Тебя – первого, газету твою прихлопнуть, не за азарт, за глупость. Азарта с тебя, положим, как с паршивой овцы!
На этих словах Бенкендорф осмотрел Дельвига с головы до ног, что называется обливая презрением. Но барон уже несколько оправился:
– Я только хочу напомнить, что перед вами не холоп и не осуждённый ещё...
– Помолчи, – прервал Бенкендорф голосом человека, у которого очень болит голова. – Помолчи, не бери греха на душу. Не ножом одним убивают, словом – тоже. В любом другом государстве за ваше мальчишество вы жизнью поплатились бы. Из мальчишек, сударь мой, давно выросли. Но всё мальчишествуете! И мальчишек же развращаете брожением умов, даже и в доме своём.
– Ваше превосходительство, мне тридцать два, друзья мои или ровня мне, или старше... Разговоры частные: литература...
– А Пушкин не литературным ли своим даром сотрясал и разжигал умы? Если же так, то железа одних, а может, и сама смерть иных не на его ли совести? А? – Бенкендорф уже сидел за столом и говорил тиховкрадчиво. Любимый приём его был показать: служит царю до забывчивости, но умеет взять себя в руки.
Дельвиг не сел на стул, который глазами очень выразительно предлагал ему шеф жандармов. И голос у него тогда стал спокойный, чуть хриплый от простуды:
– Я политических разговоров, смею уверить, в своём доме не веду и не слышу. Так кто мог слышать?
– Спроси своих друзей кто.
– Среди моих друзей нет господина Булгарина. – Это уже был выпад, и, особенно дорожа «Литературной газетой», от такового можно было бы, пожалуй, и воздержаться.
– Булгарин знаком со мной. Отчего же вам, барон, гнушаться его знакомством?
– Булгарин в моём доме не бывает, как, полагаю, и в вашем, ваше превосходительство...
– Он полагает! Предполагает... – Шеф жандармов задумался на минуту, как перед важным решением. Решение к нему пришло, он сказал веско: – Мы предполагаем, да Бог – располагает. Цензора – под суд! Газеты больше и памяти не будет!
...Газета, на некоторое время прекращённая, даст Бог, воскреснет и продерётся сквозь рогатки, придирки, подозрительность цензуры. Да вот он сам – плох. И нынешней радости не вышло. Кто-то распустил слух, мол, выставили Фаддея к позорному столбу в книжной лавке не то Лисенкова, не то Сленина и продают по синенькой, пятирублёвой, ассигнации. Ан нет!
Тут Дельвиг почувствовал особую слабость во всех членах, как будто сама жизнь уходила из него оттого, что анекдот этот так и оказался – анекдот.
Жена принесла чаю и, позвякивая ложечкой в стакане, смотрела на него встревоженно.
– Только ли радости в жизни? Только ли? – сказала умные слова, поставив стакан на столик рядом с диваном. – Жизнь так длинна ещё, успеете и на кулачках подраться. Садитесь, Аннет, садитесь, сейчас подадут и печенье, нынче славное вышло, сами пекли...
Она была молода, любима и многого не понимала. Будущее рисовалось ли ей? А если – да, то в каком свете? И уж во всяком случае, не могла она себе представить, что через несколько месяцев, отвернувшись к стене, вот на этом самом диване скончается её муж, поэт Антон Антонович Дельвиг. Человек, о котором говорили: приятнее, мягче в обращении, честнее в делах, вернее в дружбе – не сыскать.
Что прекратило его жизнь? Как будто – гнилая горячка. Многие болезни тогда так определяли. Но при том надо помнить обязательно: за несколько дней до этого Бенкендорф опять вызвал Дельвига и, когда выговаривал, губы его были узки и непримиримы. И хотя слова шефа жандармов на этот раз оказались куда умереннее, в глазах мёртвой злобой прыгала серая балтийская волна. Дельвиг вдруг понял: шеф жандармов выбрал его. Из трёх ненавистных – именно его.
Он прикрыл глаза, почти не слушая, представляя, как под таким-то градом стояли бы Пушкин или Вяземский. В том-то и шутка: града бы не было... Было бы что-то другое – молния?
Так он подумал и через несколько дней умер на своём диване... Оскорблённый в своём достоинстве, честнейший человек, не заговорщик, не тираноборец – друг Пушкина.
Однако всё это случится не сегодня, не завтра – через два месяца, в январе следующего года. Пока же они пьют чай и, перестав ругать Булгарина и вспоминать Бенкендорфа, говорят о Пушкине. О его предстоящей женитьбе, о том, что он, наверное, уже вернулся в Москву.
...От Пушкина за это время было одно письмо от 4 ноября из Болдина: «Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать, именуемую цветочною по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов <...>. Я, душа моя, написал пропасть полемических статей, но, не получая журналов, отстал от века и не знаю, в чём дело – и кого надлежит душить, Полевого или Булгарина...»
Письмо было весёлое, Пушкин балагурил, не зная, что пишет к другу в последний раз.
«ЖИЗНИ МЫШЬЯ БЕГОТНЯ»
Начинался декабрь 1830 года. До свадьбы всё ещё было далеко.
Пушкин сидел в штофной угловой гостиной и ждал Наталью Ивановну. Она, приглашая его к себе в московский дом на Никитской для каких-то последних решений, для советов и бесконечных разговоров, имела дурную привычку выходить не сразу. У неё было много дурных привычек. Но в том состоянии, в каком он находился сейчас, приходилось сносить всё. Он сидел, угадывая звуки дальних комнат, не поэт, не своенравный юноша – совсем нет. Скорее удручённый заботами немолодой человек.
Обои расползались длинными продольными ленточками, кое-где уже и от стен отклеиваясь. Рисунок на них был самый непритязательный: меж матовых и атласно блестевших полосок цветы шиповника. Белый столик, стоявший перед ним, был облуплен, и мелкая сетка трещин прошлась по потолку. Стояла тишина, будто -никто к нему и не собирался выходить. В соседней комнате сама по себе горела изразцовая печь, слуг тоже не было ни слышно, ни видно.
Цветы шиповника, мирный треск дров, со двора к окнам лепился пушистый декабрьский снег, а он вдруг понял, что делает непоправимое, от чего надо бежать. Побег возможен был один – к белому утреннему листу. Или ко вчерашнему: в помарках, в набросках, в профилях, кавказских бурках и всё ещё тревожащих лёгких ножках. Побег был возможен, если говорить не иносказаниями, в Остафьево к Вяземским[136]136
...в Остафьево к Вяземским... – Остафьево – имение П. А. Вяземского недалеко от Москвы, близ Подольска. Пушкин несколько раз бывал там, в том числе в 1830 г. – с 30 мая по 5 июня, в августе и 17 декабря.
[Закрыть], под добрый, понимающий взгляд княгини Веры, под насмешки друга. Или под его защиту? Вяземский считал, что ему, Александру Пушкину, не след жениться. О том же самом писала из Петербурга Элиза Хитрово[137]137
...писала из Петербурга Элиза Хитрово... – Хитрово Елизавета Михайловна (1783—1839) – дочь М. И. Кутузова. В первом браке – Тизенгаузен. Близкий друг Пушкина. Знакомство их состоялось в 1827 г. Пушкин часто посещал её салон и салон её дочери Д. Ф. Фикельмон (см. коммент. № 165). Встречались они и в светском обществе. Всю жизнь она питала самую нежную дружбу к Пушкину. И хотя порой выражения этой дружбы стареющей женщины доходили до назойливости, он никогда не мог решиться огорчить её. Она постоянно интересовалась литературными делами поэта; в 1834 г. принимала участие в улаживании неприятностей, возникших в связи с намерением Пушкина выйти в отставку.
[Закрыть], чёрт бы их обоих побрал и вместе...
Стрельнула, охнула печь, из неплотно прикрытой дверцы на пол выпал уголёк. Пушкин встал, прошёл туда, поискал щипцы. Щипцы и кочерга стояли тут же, он оглянулся, подвинул сбоку приютившуюся скамеечку.
Огонь плясал, заманивая, но уюта не обещая.
Ему показалось: кто-то всё-таки подошёл к портьере, смотрит в спину. Будь то Она, он догадался бы. Его бы как рукой толкнуло. Сердце подсказало бы. Но ничего такого не произошло. Оцепенение продолжалось.
Сестёр видеть не хотелось, хоть Александрина умилила его количеством стихов, какое знала наизусть.
Пушкин нехотя помешивал в печи, разбивая ещё крепкие головешки, смотрел на голубоватые куски огня, придумывая их игре значение...
И наконец твёрдо, жёстко за дверью прозвучали шаги, отбивая коленом шуршащие юбки, во всём параде приближалась хозяйка дома, будущая тёща, Наталья Ивановна Гончарова.
Пушкин её не видел, она подходила со спины, но по шагам, по манере выхода уже знал и во что одета, и как нетерпеливо бьёт лорнеткой по узкой, вперёд протянутой ладони. И какое выражение глаз приняла, и как губы сложила.
– Александр Сергеевич, что же вы? – окликнула, останавливаясь посреди гостиной и досадуя, что втуне пропал великолепный её выход.
Он вскочил быстро, будто застигнутый врасплох, поклонился, целуя тяжёлую, нетерпеливую руку.
– Александр Сергеевич, боюсь вас огорчить, но так медленно, так медленно идут дела. У меня нет помощников, вы знаете...
Кивок в сторону окна, стало быть, в сторону флигеля, где живёт, вернее сказать, содержится несчастный супруг, потерявший разум. Крест семьи.
– Деньги плывут, вы огорчены, а мне каково? Я готова отказать... – Тут она взглянула на Пушкина по-птичьи, боком из-за оборки чепца и быстренько поправилась: – Я готова отказаться от ваших восьми тысяч...
Почему, чёрт её бери, от восьми? Их уже десять, а набежит ещё не одна. Торопя, он о деньгах не думает.
– Я готова ждать, пока подоспеют деньги собственные. Брать в долг – не моя привычка. Но вы настаиваете, а между тем на карету выкроить я и не помышляю, на мебели недостаёт...
– Образуется, – прервал Пушкин голосом почти грубым. – И простые мужички мои, парнасские, выручали, а тут «Годунов». Авось принесёт оброк приличный. Карета разве ваша забота? О карете муж должен думать. Так, кажется? И о мебелях он же...
– Но бельё, шубы, уборы... Я давеча такие шали видела. Цвет самый тонкий, не коралловый, но и не розовый, скорее в закат...
Утратившими грацию пальчиками Наталья Ивановна попыталась изобразить всю тонкость цвета, но так, однако, повернуть разговор, чтоб будущий зять не учуял: совершенно откровенно самой для себя ей хотелось сделать бесподобное приобретение. Хотя вообще-то она предпочитала расцветки глухие, с намёком на тяжесть и несправедливость судьбы.
Будущий зять смотрел хмуро, она вспомнила московские толки о фамильной скупости Пушкиных. Рука её опустилась на колено, и она сказала без перехода:
– Но больше всего – слухи. Нет дня, чтоб Таша не плакала. Она не умеет понять мужскую жизнь; все эти романы, дуэли; все эти истории: актёрки, долги, карты; вся эта резвость, отчасти простительная... Хотя я тоже несколько удивлена...
– Я заслужил... Заслуженное недоверие. – Пушкин кашлянул, чувствуя, как в горле появляется комок, мешающий говорить. – Но я надеюсь всей дальнейшей жизнью заслужить привязанность... И доверие, полное доверие, если не любовь...
Последнее выговорить было особенно трудно. В самом деле, почему – только доверие? И что он будет делать с этой девочкой, если она так и не полюбит?
– Доверие моей дочери? Полноте, Александр Сергеевич, долго ли заморочить голову Та ши? Но я мать, на меня возложена ответственность. Я передам вам дочь, но и ответственность – тоже... Впрочем, нет, что толку – передавать? Случись что, на кого ляжет тяжесть выбора губительного?
Пушкин невольно дёрнулся на этих словах и посмотрел в лицо Натальи Ивановны – на этот раз отнюдь не смущённо.
– Выбираю я! Я одна выбираю, чтоб было ясно, сударь мой! – вдруг почти вскрикнула будущая тёща и прихлопнула рукой по широкому подлокотнику.
Удар оказался столь силён, что львиная головка, видно еле державшаяся до поры, отделилась от подлокотника и с мягким стуком упала на ковёр. Они оба посмотрели на неё, потом друг на друга...
Складки вокруг рта Натальи Ивановны лежали брюзгливо, властно. Кожа была темна, в широких порах. Старость подступала к ней безжалостно, и это смягчало...
Вместо того чтобы возражать на последние слова, Пушкин только вздохнул, наклоняя голову согласно. За два года сватовства он научился наконец не школьничать прекословием. Сидел, даже ноги не выложив колено на колено, а смирно убрал под кресло. Только внутри себя беззвучно посвистывал: интересно, что ещё сегодня вменят ему в вину? Что не так усерден в отношении религии? Что не сумел заручиться расположением государя?
Вышло второе.
Он ответил свободно, может быть, чуть громче, чем следовало, собственное смирение утомляло его быстро:
– ...Вы изволили читать письма его превосходительства Александра Христофоровича Бенкендорфа. Вы знаете, государь сам разрешил «Годунова», за мной нет грехов противу правительства и не было никогда. Что же касается Натальи Николаевны... Возможно, мне следует не только роптать на своё прошлое, но и радоваться её ревности к нему?
Лицо Натальи Ивановны на минутку стало плоским, обиженным.
– Вы изволите шутить, но я не понимаю шуток поэтических. Вольных – тоже.
– Тут шутки нет. Равнодушие и к прошлому равнодушно, тут ревности не будет. Ревность, как вы изволили выразиться, Натальи Николаевны не есть ли признак больше чем снисходительного расположения ко мне?
С ней надо было говорить осторожно и просто, как с больной или ребёнком.
– В такие объяснения я не вхожу. Уж больно мудрены ваши предположения, тогда как о простом мы не можем договориться. Те деньги, какие я у вас взяла взаимообразно и на короткий срок, все разошлись. Между тем мне затруднительно нынче же выкроить из своих что-нибудь на приданое Наташе. А между тем...
– Сколько ещё? – перебил Пушкин почти грубо. – Я на всё согласен.
Он опять посмотрел на львиную головку, беспомощно валявшуюся на полу, на ручку кресла, с этим безобразным подтёком клея и гвоздём наружу... Да, он был согласен на всё. Он уже принял Наташу Гончарову в своё сердце, в свою жизнь, в свои расчёты, в свои тревоги, в свой дом, наконец, которого не было. Ещё недавно, полусмеясь, он рассуждал, что может себе разрешить жениться на бесприданнице (ему даже как-то легче было жениться на бесприданнице), но разрешить себе тратить одиннадцать безвозвратных тысяч на ненужное приданое – этого он не мог. Якобы не мог. Сегодня он пошёл бы на любые, не только денежные жертвы.
Сегодня, сидя напротив этой странной, тяжёлой женщины и пропуская мимо ушей перечень ещё не сделанных покупок и сделанных уже долгов, неизвестно кому необходимых визитов, неизвестно от кого зависящих мелочных неполадок, он прислушивался к дому.
Он уже умел отгадывать шаги своей невесты среди всяких других, наполнявших ветшающие комнаты. Шаги удаляющиеся (сразу же после доклада слуги) – ей, скорее всего, не разрешали встречать его радостно и запросто, как, может быть, хотелось. Шаги приближающиеся – невесту высылали к нему, чтоб улыбнулась, кося детскими, неискушёнными глазами, чтоб ещё раз почувствовал её власть над собой...
И всё-таки почему или зачем её выдавали за него?
...Шагов не было. Зато он мучительно вспомнил, как однажды на балу, полгода тому назад, Наташа Гончарова принялась отыскивать кого-то близорукими глазами, он думал его – выдвинулся вперёд, ловя улыбку. Но оказалось: улыбка не ему, а от радости, что встретила подругу. И мать что-то сказала ей, что-то разрешила, он не мог понять что. Был готов терзаться ревностью, подозрениями заговора, Бог весть чем, пока обе молодые девушки, стараясь не привлекать внимания, уходили из танцевальной залы в одну из малых комнат...
Потом ему сказали то, что не могло долго держаться секретом: мадемуазель Малиновская отдавала Натали свои туфельки, не танцевать же с женихом, в самом деле, в изорванных. Как он покраснел тогда! Как будто на нём уже лежала вина. И как поклялся сделать всё, чтоб она была счастлива. Ногти тогда впились в ладони с такой силой, он едва разомкнул кулаки. И сам себе удивился: право, стоит ли по пустяку!
Но пустяков не могло быть в его любви.
Наталья Ивановна говорила тем временем, что сейчас же надо решить, где поселятся молодые, и загодя снять квартиру, а также не надеяться на то, что девушка, хоть и строго и отлично воспитанная, став женой, сможет в один день изменить привычки детства, протекавшего безмятежно, под сенью и в лоне семьи, потому что нет ничего в целом мире самоотверженнее сердца матери, чего ему, разумеется, в его беззаботности не понять. Но она-то доподлинно знает, жертвуя всем ради...
Ну что ж, у них у обоих, у него и Натали, были, надо признаться, странные, тяжёлые отношения в семье. Только он давно освободился, вылущился, выпал, отрезал всё, кроме соблюдения необходимых приличий. И с ним вполне соблюли приличия и правила: выделили Кистенёвку с двумястами душами мужеского полу. Каковые он и не замедлил заложить, получив сорок тысяч. А откуда бы иначе взять?
...В это же приблизительно время Пушкин писал из Москвы в Петербург Плетнёву: «Душа моя, вот тебе план жизни моей: я женюсь в сем месяце, полгода проживу в Москве, летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь – как тётки хотят. Тёща моя та же тётка...» И ещё: «Деньги, деньги» вот главное, пришли мне денег».
А не самому близкому для него человеку Н. И. Кривцову сообщал столь же откровенно не только ближние свои планы[138]138
А не самому близкому для него человеку Н. И. Кривцову сообщал... – Кривцов Николай Иванович (1791—1843) – чиновник Коллегии иностранных дел, потом – в разные годы – тульский, воронежский и нижегородский губернатор. После 1827 г. в отставке; жил с семьёй в своей тамбовской деревне, откуда иногда выезжал в Москву и Петербург.
[Закрыть]: «Всё, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, всё уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было.








