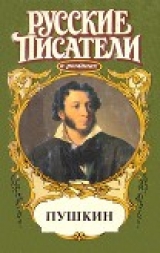
Текст книги "«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
Ремарка Вяземского: «Жена его любила мужа вовсе не для успехов своих в свете и нимало не гнушалась тем, что была женою d’un homme de lettres (литератора). В ней вовсе не было чванства, да и по рождению своему принадлежала она высшему аристократическому кругу».
Зачем надо было писать воспоминания, которые чуть не в каждом положении оспаривали те, кто знал Пушкина лучше? Да и мы можем оспорить, опираясь на одно лишь творчество Пушкина. Кроме того, в воспоминаниях этих есть и мелкие фактические ошибки, как я полагаю, сделанные нарочно. Цитируя книгопродавца Пельца (просто мерзавца, определяя современным языком), Корф повторяет вслед за ним, что Пушкин, получая огромные деньги от Смирдина[102]102
...Пушкин, получая огромные деньги от Смирдина... – Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) – петербургский книгопродавец, издатель сочинений Пушкина и других русских писателей, много сделавший для развития книжной торговли и книгоиздания в России. Магазин и библиотека Смирдина были своеобразным литературным салоном в 1830-х гг., и Пушкин, по свидетельству современников, часто бывал там. В 1830 г. Плетнёв писал Пушкину о соглашении со Смирдиным, по которому тому на четыре года уступались права на реализацию нераспроданных экземпляров всех вышедших произведений Пушкина. Позднее Смирдин сам издавал или приобретал тиражи различных его сочинений.
[Закрыть], разорял его. Между тем отношения Пушкина со Смирдиным были для обоих взаимовыгодны. А разорился Смирдин в сороковые годы... Эпиграмму на Николая I: «Хотел издать Ликурговы законы[103]103
Ликурговы законы. — Ликург – легендарный спартанский законодатель (9 – 8 в. до н. э.), которому приписывают создание институтов спартанского общества и государственного устройства.
[Закрыть] – И что же издал он? – Лишь кант на панталоны», – писал не Пушкин. Однако Корф не поправляет обильно и с удовольствием цитируемого Пельца...
Так зачем надо было писать воспоминания такого рода? Вернее, почему они так писались?
Могучая, непреодолимая сила зависти вела руку Модиньки Корфа, теперь уже пожилого, преуспевающего чиновника.
Модинька Корф был с детства честолюбив, и очень Странный человек, так, наверное, никем и не понятый в своей обыкновенности до конца, второй директор Лицея Егор Антонович Энгельгардт писал о Корфе: «Он тщеславен, как девочка, что очень удивляет в мальчике. Это тщеславие он обнаруживает даже в положении тела, которое он выставляет напоказ в различных позах.., В отношении начальства он часто обнаруживает некоторую строптивость и притом большей частью из ущемлённого тщеславия, которое, где только возможно, выступает даже по отношению к его родителям. В остальном в нём никогда не обнаруживается ничего низкого...»
Каждый из лицеистов, прощаясь, писал что-нибудь в альбом Энгельгардта. Пушкин не был ни близок со вторым директором Лицея, ни любим им. Однако он оставил в альбоме Егора Антоновича следующие строки; «Приятно мне думать, что, увидя в книге ваших воспоминаний и моё имя между именами молодых людей, которые обязаны вам счастливейшим годом жизни их, вы скажете: «В Лицее не было неблагодарных».
Модинька Корф, в достаточной мере искательный, не написал ничего. Почему? И почему в поздние годы так неодобрительно отзывался о Лицее? Неудержимо хотел доказать себе и миру, что образованием, привычкой к труду, стремительной карьерой, наконец, обязан только себе?
...Карьера его действительно была блестяща, но не случайна. Он знал, какую пользу приносил обществу, с самых юных лет ревностно служа на посту вице-директора департамента податей и сборов, будучи управляющим делами Комитета министров, директором Императорской публичной библиотеки, сотрудничая в различных секретных комиссиях, в которых принимал участие сам царь.
...Он сидел боком к столу, несколько неудобно: на коленях угрелась глазастая собачонка. Приятно было, оторвавшись от пера, в задумчивости перебирать шелковистую шёрстку. Приятно было тепло маленького, плотного тельца.
В забывчивости выпятив узкие губы, Корф вспоминал своих сверстников. Одно было бесспорно: никто не обскакал его ни в чинах, ни в наградах. Он рано получил звание камергера, он удостоился доверительных отношений со стороны Николая Павловича, он написал угодную ему книгу о несчастных событиях 14 декабря! Его честолюбие могло быть удовлетворено. Но Россия собирала деньги на памятник Пушкину...
Он пошевелился в кресле, стараясь переменой положения дать другой ход мыслям. Собачка заворчала, поднимая голову, взгляд выпуклых глаз был неприятен... Корф стряхнул её с колен, нагнулся над своими записками. Перо бежало быстро: у него был хороший слог. Однако память всё время возвращалась к столбцам газет, перечислявшим копейки, рубли, тысячи. С какой-то заждавшейся охотой крестьяне, купцы, студенты, военные, чиновники отдавали деньги на памятник.
Корф уже давно нашёл этому объяснение: хотели заявить о себе собственной щедростью. Публичность – великое дело...
Он хмыкнул, на минуту отрываясь от бумаги. Многие пытались рекомендовать себя в обществе только ревнителями дела, вовсе чуждыми честолюбия, равнодушными к славе. Тот же Горчаков, к примеру. Сам Пушкин писал, что слава всего лишь яркая заплата на ветхом рубище певца... Но он, Модест Андреевич Корф, отлично знал, сколь лицемерны подобные утверждения. А также сколь сладки награды как вполне ощутимые: кресты, звёзды, звания, так и заключающиеся всего лишь в ревнивом или восхищенном шёпоте...
Ощутимые доставались ему часто. Шёпотом же к его фамилии всё чаще и совершенно незаслуженно прилагали определение подлый. Подлый Корф. За что? – он встал, почувствовав, что сегодня, пожалуй, уже не сможет работать. И это было досадно...
Модест Андреевич, помешкав минуту, подошёл к большому зеркалу, висевшему сбоку, почти у самой двери, неприметно. Из зеркала на него глядел сохранившийся, средних лет господин с лицом, прорисованным чётко, без лишних складок и морщин. Корф попытался улыбнуться тому, в зеркале, с приветливостью и расположением. Улыбка вышла кислая; зубы показались ровно и молодо, но глаза в улыбке не участвовали...
...Вот и я рассматриваю то же лицо. Портрет Корфа помещён в книге М. П. и С. Д. Руденских (откуда, кстати, взята и вышеприведённая характеристика Корфа). Портрет уже не молодого человека, никогда не водившего компанию с Пушкиным, но очень любившего его стихи и написавшего те воспоминания.
Передо мной лицо властное и холодноватое. Становится ясно, между прочим, и происхождение прозвища Дьячок Мордан. В переводе с французского, оказывается, «мордан» значит едкий. Вот как. А я всё с детства ожидала увидеть кого-то щекастого, вроде А. Корнилова или М. Мясоедова... Недоверие к миру с его красотой, страданиями, слабостями и вездесущим очарованием простой жизни также можно разглядеть в этом лице. Особенно если знать, на кого смотришь...
Рассматривая литографию, думаю я вот о чём. В общем, Модест Корф мог бы быть доволен: его тщеславие удовлетворено. Сто семьдесят лет прошло с тех пор, как он учился с кудрявым и вёртким мальчиком, писавшим стихи о дружбе и обильной, неудержимой, сверкающей влюблённости. Больше ста тридцати – с тех пор, как Корф написал свои воспоминания и обессмертил себя ими. Вряд ли мы стали бы столь интересоваться, а что представлял собой соученик Пушкина – миловидный мальчик с блестящими, однако не исключительными способностями, если бы не его удивительные воспоминания. Вряд ли бы стали чуть не в лупу рассматривать репродукцию литографии Борелля, отгадывая: как мог так писать?
Но зачем же всё-таки помещены корфовские странички в сборник воспоминаний о Пушкине? А затем, чтоб мы представили: каково жилось поэту. Корф не числился в его заклятых врагах. Вообще вроде не был врагом, да и в записках придаёт себе мину доброжелателя: мол, чуть не до слёз жаль, что Пушкин-человек не соответствовал Пушкину-поэту. То ли ещё вышло бы из-под его пера, если бы соответствовал!
Пушкинисты ищут: кто написал анонимный пасквиль, приведший к дуэли. А тут – разве не пасквиль? Когда из гроба не встанешь, когда: светлая память – и только...
II
Когда Пушкина везли в Москву «не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря», из Пскова он успел написать письмо другу своему Дельвигу. Судьба сочинителя после шести лет ссылки висела ещё на нитке, а он уже просил денег на кутежи.
Письмо было перехвачено и прочтено Максимом Яковлевичем фон Фоком, управляющим III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии[104]104
Письмо было перехвачено и прочтено Максимом Яковлевичем фон Фоком, управляющим III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии. — Фон Фок Максим Яковлевич (1777—1831) – управляющий III отделением е. и. в. канцелярии, ближайший помощник шефа жандармов Бенкендорфа. В ведении фон Фока был весь аппарат тайной полиции и политического сыска. Официально Пушкин вступил в непосредственные отношения с III отделением в сентябре 1826 г. после аудиенции у Николая I. Известны отрицательные высказывания фон Фока о Пушкине в письмах к Бенкендорфу.
[Закрыть].
Фон Фок, человек аккуратный по службе, сдержанный в жизни домашней, счёл письмо Пушкина предосудительным, хотя политических выпадов или просто вольных мыслей в нём и в помине не было. Но какова самонадеянность? Ещё вовсе не прощён, только-только возникло новое дело о стихах, написанных якобы на день 14 декабря, а ему уже подавай шампанское!
Максим Яковлевич, прочитав письмо, поднял морщины высокого лба, пожевал губами и определил вслух» «Нрава самого испорченного». Его везут к царю, и думать бы о том, как оправдаться; как объяснить свои связи с мятежниками. Ему бы трепетать, а он – распространяется насчёт шампанского!
У сухого, всегда застёгнутого на все пуговицы фон Фока было (кто бы мог подумать!) беспокоящее воображение. И оно как раз рисовало уже состоявшийся кутёж. Причём так явно, что барон увидел на неопрятном, разграбленном к полуночи столе упавшую недопитую бутылку, хоть пальцем тронь. Липкая тёмная влага текла по скатерти. И запах разворошённой пищи бил в ноздри – отвратительно. Но хуже всего было то, что вокруг стола сидели молодые люди, возбуждённые до крайности не столько вином, сколько собственными речами... В своём возбуждении тянулись они бокалами к Пушкину, который, разумеется, восседал во главе. Всё исходило от него, все собрались здесь ради его стихов...
Угарно, дымно было в комнате (так, по крайней мере, виделось барону), и уж это одно заслуживало осуждения сурового. Чистые мысли не рождаются из таких вот атмосфер! Можно было также представить, о чём говорилось на подобных сомнительных пирушках, какие строчки читались в восторге самозабвения!
Скорее всего, именно те, что сейчас лежали перед Максимом Яковлевичем написанные незнакомым почерком на хорошей бумаге. Барон сидел за столом, выложив руки по обе стороны небольшой стопки листков. Гладкая поверхность стола казалась неприятной – холодила. Но позы Максим Яковлевич не менял в некотором оцепенении.
Впрочем, строки сии ни в коем случае не являлись для него новостью. Он знал их почти наизусть.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...
Он, то есть шестикрылый серафим, не кто-нибудь помельче, был послан, надо понимать, самим Господом Богом в сельцо Михайловское, то есть в мрачную пустыню, как выразился сочинитель.
Само название стихотворения было предерзостное: «Пророк». Тот Пушкин, что в пуху и помятый, как последний ремесленник с похмелья, предстал перед государем 8 сентября 1826 года, именовал себя пророком! Тот Пушкин, что разгуливал по Москве в своих диких чёрных бакенбардах до плеч, окружённый неосновательными юношами, тот Пушкин оказывался предметом забот самого провидения! Ибо оно диктовало ему, единственному на всю Россию:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли.
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли.
Глаголом жги сердца людей».
Максим Яковлевич в отвращении передёрнул шеей и снова надел очки, чтоб ещё раз перечесть письмо, с автором которого был совершенно согласен.
Письмо заключало в себе мысли дельные, хотя зацепиться в нём, казалось, не за что. Но выводы были совершенно его, фон Фока: человеку (а особенно сочинителю), наделённому такой гордыней, доверять нельзя ни при каких обстоятельствах. Тем более, если он когда-то разделял взгляды преступников, осмелившихся поднять бунт. Кто один раз выбрал кривую дорожку...
Максим Яковлевич прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Так-то оно так, но сам царь в порыве молодого великодушия обещал Пушкину быть его цензором, и эти стихи уже прочитаны им и напечатаны.
...Тут мысли барона двинулись в ином направлении, он вернулся к московским коронационным торжествам. Событию отрадному, призванному веселить сердце, во многих своих подробностях. Газета Булгарина писала: «Всё время громкое ура! раздавалось в народе, который, желая долее насладиться лицезрением Монарха, толпился перед его лошадью. Государь император ехал шагом и ежеминутно принуждён был останавливаться: невозможно было оставаться холодным свидетелем сего единодушного изъявления любви народной...»
К толпе, положим, фон Фок претензий не имел, но дворянская Москва, так во всяком случае могло показаться, не хотела простить императору повешенных и осуждённых на каторгу. Тех особенно, кто принадлежал к лучшим фамилиям.
Иначе, к примеру, как надо было понимать этих господ, московских львов, с подчёркнутым почтением кланявшихся старой графине Волконской? Когда они поднимали головы, в глазах их тёмной водой стояло сочувствие. Правда, и сам государь несколько раз особенно любезно разговаривал с матерью государственного преступника. Он как бы даже нарочно уменьшался в росте рядом с этой отлично (надо признаться) державшей себя женщиной. У графини слегка тряслась высоко вскинутая голова, но голос был сух и твёрд, как всегда.
Любезность императора объяснялась просто: Николай Павлович знал, как следует привлекать сердца. Это у них было фамильное, передавалось от бабки. Управляющий канцелярией III отделения не мог не знать, во что обошлось многим из осуждённых по делу четырнадцатого декабря царское умение располагать к себе будто бы даже бурным порывом искренности. А то и по-братски выраженным сожалением к заблудшему... Но это отнюдь не умаляло восторгов барона по поводу удивительного, ниспосланного свыше искусства.
На сочинителе, привезённом со всею поспешностью из псковского захолустья, император тоже его испробовал и тоже – успешно.
Но то, что последовало дальше, барона оскорбляло.
Барон пошевелил, смещая, щегольские листки твёрдой бумаги, лежавшие перед ним. Почерк, которым они были исписаны, раскатывался круглыми буквами легко – не писарский. Однако человека, привыкшего к перу. И жаждущего помочь.
Все жаждали помочь. Так, по крайней мере, аттестовали они свои усилия, оплаченные III отделением, и доброхотные. Доносили столь обильно, предупреждали о новых заговорах или хотя бы о неблагонадёжных лицах так неосновательно, что иногда оставалось только руками разводить. То ли с перепугу делалось, то ли надеясь на доверчивость сотрудников III отделения?
Фон Фок был умным человеком, отнюдь не мракобесом. Очевидно, это он оказался одним из тех, кто осторожно объяснял кому следует (через Дашкова, Блудова, Бенкендорфа – самому царю?)[105]105
...осторожно объяснял кому следует (через Дашкова, Блудова)… – Дашков Дмитрий Васильевич (1788—1839) – один из основателей литературного общества «Арзамас», автор критических статей. С 1816 по 1826 г. – чиновник Коллегии иностранных дел, с июля 1818-го по январь 1820 г. – советник русского посольства в Константинополе, с 1826 г. – товарищ министра внутренних дел, с 1829-го – товарищ министра юстиции, о 1832 г. по 1839-й – министр юстиции. Пушкин общался с Дашковым в лицейский и послелицейский период в доме Карамзиных, в «Арзамасе», в литературных кругах Петербурга. Блудов.
[Закрыть] все неудобства первого при Николае созданного цензурного устава, прозванного «чугунным». Устав в очень скором времени был заменён другим... Известны слова фон Фока о том, что общественное мнение «не засадишь в тюрьму, а прижимая его, только доведёшь до ожесточения».
Общественное мнение надо было формировать, влияя на умы. И новый корреспондент его, тот, чьи листки сегодня разбудили в бароне старые мысли о гордыне Пушкина-автора, был того же мнения: надо перехватить влияние.
Но почему он не открыл своего имени?
Может быть, кто-нибудь из Московского университета? Догадка мелькнула, потому что в письме вспоминался давний случай. Некто Оболенский, адъюнкт греческой словесности, после обеда с возлияниями (так говорилось в письме) подскочил к Пушкину и кричал с восторгом: «Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, я единица, а посмотрю на вас и покажусь себе миллионом. Вот вы кто!» И что же? Такое определение Пушкина все подхватили: «Миллион! Миллион!» – и раздались аплодисменты.
Аплодисменты столь живо представились – надо было постучать очками по столу, чтоб избавиться от впечатления, будто шумят в соседней комнате.
Каких только донесений не приходилось читать ему, особенно в месяцы, последовавшие за возвращением Пушкина! Какие только мелочи не брались в расчёт. К примеру, о Соболевском из шайки московских либералов. Узнав, что поэт в Москве, сей Соболевский сбежал с бала у французского посла Мормона, на коем присутствовал сам государь. Особенно подчёркивалось: именно сбежал, как был в бальном – мундире и башмаках, верхнего платья не накинув, полетел в дом к Василию Львовичу Пушкину, куда только что прощённый и даже обласканный государем направился сочинитель. Обыватели натурально изумлялись выходке Соболевского. А если бы знали, по какому случаю бежит? Не было бы сие истолковано как фрондёрство, непочтение к особе государя?
Другого доброхота привлекало первое после возвращения свидание Пушкина с князем Вяземским – в бане! К чему бы? Действительно, Пушкин не мог дождаться князя в ином, подходящем для беседы месте? Или сговорились? В бане подслушанным быть мудрено. Доносивший так и отметил, что слова ни единого не разобрал, но при выходе заметил в выражениях лиц довольство, как бы была заключена сделка важная. Не противу ли правительства?
Фон Фок в отличие от многих не склонен был видеть преступный заговор решительно за каждым углом. Прочитав про баню, только сморщился, несколько даже болезненно...
Во внимание он брал другое: короткие друзья зашевелились, «подпрыгивают», как сами они изъяснялись, Бог с ними. Но почему решительно всё общество кинулось приветствовать Пушкина, будто больше нечем было заняться?
На том же бале у французского посла Мормона – доносили фон Фоку – одна дама вдруг имела наглость заявить: «Я теперь смотрю на государя другими глазами, потому что он возвратил Пушкина». Об этом тут же было передано Пушкину. «Ах, душенька, везите меня скорее к ней!»
Когда фон Фок услышал фамилию дамы, он почувствовал что-то вроде приступа печени.
Пушкина принимали тогда Урусовы, Корсаковы, Зинаида Волконская – известная, в салоне которой собирались люди, далеко не благонадёжные} Мицкевич Адам, Веневитинов, братья Киреевские[106]106
Пушкина принимали тогда Урусовы, Корсаковы, Зинаида Волконская... в салоне которой собирались люди далеко не благонадёжные: Мицкевич Адам, Веневитинов, братья Киреевские... – Урусовы – московские знакомые Пушкина: Александр Михайлович (1767—1853), князь, президент Московской дворцовой палаты, обер-гофмейстер, член Государственного совета, сенатор; его жена Екатерина Павловна (урожд. Татищева; 1775—1855), сестра дипломата Д. П. Татищева; их дети; сыновья Александр, Андрей, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пётр, дочери Александра, Мария и Софья. (Пётр Урусов был в числе «шалунов», рассылавших письма «мужьям-рогоносцам», одно из которых получил Пушкин.) Их дом, славившийся радушием и гостеприимством, весной 1827 г. часто посещал Пушкин.
Корсаковы (Римские-Корсаковы) – московские знакомые Пушкина: Мария Ивановна (урожд. Наумова; 1765—1832), вдова камергера А. Я. Римского-Корсакова; её сыновья Григорий и Сергей, женатый на кузине Грибоедова Софье Алексеевне; дочери Александра, Екатерина, Наталья и Софья. По возвращении из ссылки в Москву Пушкин стал частым посетителем «открытого дома» Марии Ивановны Римской-Корсаковой – типичной представительницы старинного московского дворянства.
Волконская Зинаида Алексеевна (урожд. княжна Белосельская-Белозерская; 1789—1862) – княгиня; хозяйка литературно-музыкального салона, писательница, поэтесса. Пушкин познакомился с нею по возвращении из ссылки в Москву и часто посещал её салон на Тверской улице. Он также был знаком с её мужем – Никитой Григорьевичем Волконским (1781—1841), братом декабриста С. Г. Волконского. В её доме собирались профессора, журналисты, писатели, поэты, художники, музыканты. Бывал там и Адам Мицкевич (1798—1855), польский поэт, и Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827), четвероюродный брат Пушкина, поэт и критик, один из организаторов и участников «Московского вестника» (в доме Веневитинова в сентябре – октябре 1826 г. Пушкин читал «Бориса Годунова»); братья Киреевские: Иван Васильевич (1806—1856), критик и публицист, чиновник Московского архива Министерства иностранных дел; сотрудник «Московского вестника», издатель журнала «Европеец», впоследствии славянофил, и Пётр Васильевич (1808—1856), литератор, переводчик, собиратель русских народных песен, также впоследствии славянофил.
[Закрыть]...
А одна дура из молоденьких, впрочем, хорошей фамилии, сообщила своё мнение: «Нет и нет! ни с чем не сравнить, как Москва наша его встречает! Петербург не сумел бы, там бледность и чопорность чувств!» – «Но вы впадаете в преувеличения, Екатерина Николаевна. Москва наша хлебосольна, и многие её гостеприимством пользовались». – «Ах, оставьте, Михаил Николаевич! Один лишь Ермолов столько же волнения наделал, когда вдруг появился в зале Дворянского собрания, только что оставив кавказскую армию...».
Михаил Николаевич, натурально, столбом стал от такого: «Но, помилуйте, какой же резон сравнивать, Екатерина Николаевна?» «А тот, что Москва очень чувствует славу русскую».
Сравнение с Ермоловым, бывшим в опале и подозрении, в пользу сочинителю не шло и представлялось глупым. Михаил Николаевич, лёгкий, узкий станом и с лёгкими же белёсыми ресничками, не зря в досаде отошёл от щебечущих. Ему же, управляющему III отделением, при чтении старательных своих корреспондентов и вовсе ни к чему было принимать во внимание дамский щебет. Но события года 1826-го показали барону, сколь большое влияние на общественное мнение имеют женские речи, слёзы и восторги... Взять одну Волконскую Марию. Да и Муравьёва Александра, Трубецкая – туда же. И со всеми Пушкин в лучших отношениях.
Правда, находились умы, которые себя, окружающих, а также его, фон Фока, пытались уверить: Пушкин пользуется таким влиянием исключительно по причине расположения к нему государя.
«Публика не может найти достаточно похвал для этой императорской милости», – и так писали. Хвалили государя за то, что назвал Пушкина первым поэтом, умнейшей головой России.
Максим Яковлевич фон Фок не был человеком публичным. Более того, судьба как-то так распорядилась, что, и попав в большие люди, он всё оставался в тени, не в пример тому же Бенкендорфу. На лавры воина, явившегося с поля брани, не посягал. Хотя, как он полагал, победы одерживал ежедневно, борясь за чистоту нравов. Не саблей, разумеется, – пером, дельными распоряжениями; наконец, усовершенствованием своего сыскного мастерства, столь необходимого государству. Лавры человека искусства вызывали в нём лёгкую брезгливость своей неосновательностью. И всё же с ним бывало: он чувствовал укол ревности, когда воображение являло как бы в натуре несоизмеримый ни с заслугами, ни с личностью сочинителя вихрь московских восторгов, несущийся навстречу Пушкину. Молодые профессора университета с пресёкшимся дыханием; достойнейшие дамы, чуть ли не вприпрыжку выбегающие на парадную лестницу, осчастливленные гостем; девицы, с влажными от волнения ладонями, перехватывающие его взгляд.
Тут Максим Яковлевич неизменно переходит к мысли, что в любом излишестве таится неприличие и опасность, что он вовсе не завидует ни Пушкину, ни Бенкендорфу, ни кому бы то ни было. Он доволен.
...Максим Яковлевич, оставив стол с лежащими на нём листками, теперь ходил по своему домашнему кабинету от стены к стене, поправляя мелкие золотые рамочки гравюр, изображающих милые сердцу виды германских городов. Шпили соборов устремлялись в небо ритмично и успокаивали. Реки текли, живописно извиваясь меж зелёных чистых берегов. Но всего лучше были маленькие площади в их домашней замкнутости с непременным фонтаном посередине.
Ничего похожего на голое, продуваемое ветром пространство Сенатской или ещё необустроенной Дворцовой. Фон Фок стал замечать: с некоторых пор его угнетают размеры этой страны, где возможны были события, подобные страшному декабрьскому мятежу.
Впрочем, Москву он не любил ещё больше. Москва раздражала своими амбициями, своей важностью – надутой. Там, большей частью учтиво, умели напомнить, что она – первопрестольная. В Москве жили баре. Он же предпочитал иметь дело с чиновниками, служащими, стало быть приносящими пользу людьми. Над которыми к тому же имел куда более ощутимую, хотя и тайную, власть.
Москва растекалась между пальцев, её дух он не умел уловить, и это раздражало...
Пушкин по возвращении из ссылки недаром предпочёл остаться в Москве, закружившей ему голову до такой степени... Тут барон поднял со стола листок и, держа его на вытянутой руке, прочёл:
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы...
И опять название не без вызова: Поэт. Причём поэт, имеющий бесстыдство утверждать, что меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он.
А не бесстыдство ли (именно – бесстыдство!) делало Пушкина столь неприятным и неприемлемым для него, фон Фока? Или бесстыдство и гордыня тут были одно?
Дойдя до этой мысли, фон Фок присел в глубокое кресло, подальше от стола, окунув лицо в прохладные ладони. Так он сидел некоторое время, стараясь отвлечься от того, чему место было в канцелярии III отделения – не дома.
Мысли уходили, освобождали его неохотно. Но всё-таки уходили. Он почти задремал, чувствуя одновременно тоску нездоровья во всём теле и блаженство отдыха. Блаженство удаления в частную жизнь, в милые мелочи небольшого пространства, освещённого лампой под нарядным абажуром, расписанным по фарфору цветами. Не часто фон Фок позволял себе такое...
Он вынул платок и попытался стереть пятнышко с белой матовой поверхности абажура. Пятнышко его давно смущало, но он почему-то всё не отдавал приказания его убрать! Возможно, в предвидении этой сладкой минуты?
Пятнышко не стиралось. А руки оставались холодны и как бы хрупки. Раньше никакой хрупкости он в себе не замечал. Хрупкость подразумевала ненадёжность – к чему она? Хрупкость была не в моде, наконец... Сам император отличался бодростью тела и любил говорить о том, что крепость мышц – первейшая предпосылка крепости и чёткости духа...
Крепость духа и непреклонность намерений императора были таковы, что только словами, сказанными по случаю, воспринималось заявление, будто продолжением предыдущего будет его царствование.
Терпение покойного государя было непостижимо! Фон Фок сжал руки в один большой, тоскливо похрустывающий кулак. Слава Богу, новый император подобрее и позорче всматривается в окружающих. Новый император – ого-го! Фон Фок открыл глаза, мысленно приветствуя Николая Павловича со всем искренним оживлением и столь же искренней преданностью, на какие только был способен. И, приветствуя, удивился: Пушкин, зная твёрдость государя, и с ним позволял себе – не пасквили, не эпиграммы, нет, но – недопустимые вольности. К чему, если подумать, были эти «Стансы», восхваляющие отнюдь не ныне царствующего, а пращура, Бог с ним? Прекрасно сей герой мог бы обойтись и без Пушкина...
Конечно, на его, фон Фока взгляд, и Николай Павлович мог бы обойтись. Не большая прибыль – строки, диктующие: будь, мол, как он, как Пётр Великий, неутомим и твёрд, и к тому же памятью не злобен. А не исполнишь – пеняй на себя. Не так ли надо понимать?
Но тут у Максима Яковлевича появилось чувство нешуточного удовлетворения: за эти стихи многие отвернулись от поэта, обвинив его в искательстве... Но какое же удовлетворение? Значит, и в отвернувшихся, если подумать хорошенько, не заключалось преданности престолу? А вместо того жила недопустимая жалость, даже сочувствие к тем.
Ещё 17 сентября 1826 года фон Фок писал о Пушкине в своём донесении Бенкендорфу: «Этот господин известен всем за мудрствователя, в полном смысле этого слова, который проповедует последовательно эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как и к добродетелям, наконец – деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Этот честолюбец, пожираемый жаждой вожделений, и, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае...»
Интересно, что писано это уже после известия о более чем часовом разговоре царя с поэтом, после того как царь объявил Пушкина изменившимся и прощённым.
Случая проучить Пушкина Максим Яковлевич искал всю недолгую оставшуюся ему жизнь.
Возможно, и на листки, лежавшие на пустом столе, смотрел он не без надежды: подскажут. Но листки не открывали даже того, кто их писал. У барона фон Фока была хорошая память на лица, почерки, красоты чужого слога, на стихи, которые, помимо своей воли, запоминал с одного прочтения...
Он подошёл, ещё раз и с большим нетерпением постучал по столу, как стучат, требуя ответа. Лицо его с аккуратными коричневыми бачками было сосредоточенно.
Может быть, в этот момент он думал не над тем, кто писал донос? А над тем, с чего началась его явная и неутихающая нелюбовь к Пушкину? Он невзлюбил его, ещё не видя, но прочитав только стихи в показаниях арестованных. Потом под его же присмотром их оттуда тщательно вымарывали. Однако они продолжали жить в его памяти. Вопрос важный: только ли в его?
Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.
Тут опять, кроме прямых завиральных идей, была гордыня: как молния богов!
Александр Христофорович Бенкендорф говорил о сочинителе, что он порядочный шалопай, но если бы удалось приручить его перо, польза была бы прямая. Не он ли сам внушил шефу жандармов мысль об опасной власти стихов? О том, что общественное мнение нередко зависит от такой на первый взгляд безделки? Александр Христофорович преподнёс её государю как собственную...
Многие соображения его Александр Христофорович преподносил государю, как выстраданные им в часы долгих бдений, в бессонные ночи. По мере сил фон Фок старался гнать от себя обиду и ревность.
Государь император, положим, любил Александра Христофоровича чуть ли не с детства. Но почему он не мог полюбить его, отдавшего все силы службе? И главное – искренне очарованного Николаем Павловичем?
Вот так, рассматривая лёгкий хоровод пастушек на каминной полке, думал о Пушкине, Бенкендорфе, императоре начальник III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Поэт был неприятен, Бенкендорф – сомнителен в дружеском участии. Самодержец же с восторгом рисовался молодым героем на колеснице, запряжённой квадригой тяжеловатых коней.
Тяжеловатых – во-первых, потому, что должны были олицетворять Россию, а во-вторых, потому, что какие же иные вынесут столь могучую и величественную фигуру?
Но тут, всё ещё сидя в кресле и сжимая внезапно замерзшие руки, фон Фок прямо перед собой увидел то, чего видеть никак не мог: огромные лаковые, стройные, как башни, ботфорты царя. А сам барон как бы уже не сидел в кресле, а стоял перед этими ботфортами.
Голос императора звучал сдержанно и на этот раз почти ласково. В своей служебной безупречности фон Фоку нечего было бояться, но всё-таки страх вливался во всё его ещё сильное тело. Внизу живота становилось тяжело и холодно.
Фон Фок сморгнул, прогоняя видение, и передвинулся в кресле, желая снова уйти в мир частностей. Однако мир этот выталкивал, не допускал в себя. В душе не было уюта, а без оного все старания оказывались напрасными. Хотя лампа продолжала светить мягким светом и очарователен был фарфоровый хоровод на каминной полке...
Царь тогда только что вернулся с Балкан, из действующей армии, и был бодр более чем всегда. Но кроме радостно-сурового оживления Максим Яковлевич заметил в государе нечто новое – взгляд! То есть в большинстве случаев взгляд самодержца являл царственную сосредоточенность или расположенность. Но теперь всё чаще, посреди самой мирной беседы, некий леденящий луч упирался в лоб собеседнику. И это подавляло – в лоб!
Царь стоял, глядя в окно на площадь, и барон ждал» сейчас обернётся, упрётся точечными зрачками.
– Нет, барон, война оживила общество, я вижу, – сказал между тем Николай Павлович голосом, скорее, милостиво-радостным, разгорячённый новой ролью человека, только что из затмевающего дыма сражения, только что из-под ядер. Он словно принёс с собой в кабинет запах пороха, и хрящеватый нос его радостно раздувался, улавливая тот полевой дух.
– Я убедился, господа, теперь на поле боя уж окончательно – нигде не чувствую себя так хорошо, как среди моих солдат. Порядок и готовность жертвовать собой не рассуждая – вот что требует распространения. Распространения в областях, я был сказал, далёких от грома пушек.
Барон наклонил голову в совершенном согласии.
– Не скажу, стоят ли того греки, но Россия должна была стать на путь защиты христианства и не сегодня...
Это был намёк на покойного брата – не решившегося. А он решился, и вот: бодр, любим, победоносен. Впрочем, сразу за позой победоносца последовал вздох столь протяжно глубокий, что мог быть воспринят только как сигнал перехода к делам сегодняшним. Накопившимся, вне сомнения, пока в его отсутствие распоряжалась Верховная комиссия.
Румяный и помолодевший царь слушал доклад фон Фока стоя и даже время от времени принимаясь эффектно шагать по огромному кабинету. В числе прочих дел речь шла о «Гавриилиаде» Пушкина.
Фон Фок знал и о личном вопросе царя с Балкан, обращённом через Временную Верховную комиссию к поэту: «От кого получена им «Гавриилиада»? Знал и о том, что, не признаваясь в своём авторстве перед комиссией, Пушкин написал письмо царю на театр военных действий. О содержании письма фон Фока тоже мог догадываться, если и не знал его точно.
– Друг мой, вам не хватает желания, да, именно – желания заглянуть в самую суть вещей. – Император посмотрел взглядом испытующим, хуже того, взвешивающим способности человека на столь ответственном посту. – Зачем отдавать гласности, всегда столь соблазнительной, это дело? Оживлять мертвеца для вящего удовольствия некоторой части публики?








