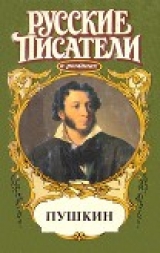
Текст книги "«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
С приходом Дельвига начинались слабые, сами себя перебивающие хлопоты. Однако новые свечи всё же несли, появлялся и чай, иногда бутылка славного вина. Надежда Осиповна, неприметно для себя самой, величественным, почти забытым движением раскидывала по плечам жёлтую, тоже стареющую, шаль. Сергей Львович, набираясь решимости, ёрзал в глубоком кресле, готовился к осуждению Сашки.
Ах, если бы он знал, с чего началась вражда! За Александром накопилось столько непростительного. На каждом углу кричит, обвиняя старика отца чуть ли не в доносительстве – возможно ли?
Сергей Львович поднимал палец, веля прислушаться к своим словам. И сам клонил ухо, будто слова его, как мухи или осы, ещё бились об оконное стекло, когда он замолкал. А возможно, Сергей Львович прислушивался к умершим звукам той давней ссоры с сыном? И сознание своей неосторожной вины заставляло его злиться? Во всяком случае Дельвиг думал так, иногда изумляясь мелочности старика до того, что рот сам по себе открывался, как в детстве.
...Да, Александр числит отца во врагах своих, а он простил ему всё по-христиански и готов любить. Однако не может ли Дельвиг объяснить непочтительному сыну: теперь, после ссылки, зачем ему ездить в Михайловское? Он путает этим планы родителей. Михайловское же не принадлежит Сашке ни единой былинкой своей...
Палец опускался так же назидательно на этой или какой-нибудь подобной фразе. Дельвиг, бывало, даже ноги подбирал и глаза таращил, силясь понять логику рассуждений Сергея Львовича. И сам чувствовал свой почти неприлично вылупленный взгляд сквозь толстые очки. Но он был отходчив и жалостлив, приметы старости его расслабляли. И сейчас он засмеялся, увидев радость Надежды Осиповны. Да и Сергей Львович несколько неожиданно семенил навстречу сыну, раскинув родственные объятья. Одежда его при том пришла в беспорядок: воротнички выбились, жилет торчал кургузо. Но в этом беспорядке и в застывшей позе своей, с раскинутыми руками он был скорее трогателен, чем смешон.
Александр оставил отцовский порыв без внимания. Но, ко всеобщему удовольствию, обошлось. Сергей Львович вернулся в кресла, и Дельвиг приметил: на сына смотрел странно, будто его томила какая-то загадка, а ответ был у Александра. Так не расщедрится ли тот?
Александр сидел возле матери, подперев лоб рукой, никаких намёков не желая замечать. Скорее всего, и в самом деле не догадывался, чего хочет от него отец. Недоумение, однако, рассеялось скоро.
– Третьего дня говорил с Блудовым Дмитрием Николаевичем[96]96
– Третьего дня говорил с Блудовым Дмитрием Николаевичем... – Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864) – до 1820 г. советник и поверенный в делах русского посольства в Лондоне, с 1826 г. – делопроизводитель Верховной следственной комиссии по делу декабристов. Позже – товарищ министра народного просвещения. В 1832—1838 гг. министр внутренних дел. Один из организаторов литературного общества «Арзамас». Пушкин в разные годы общался с Блудовым, однако чаще всего в начале 1830-х гг., что было связано с политическими интересами и занятиями историей Петра I: Блудову был подчинён архив Коллегии иностранных дел.
[Закрыть]. – Сергей Львович бережно соединил пальцы и возвёл глаза к высокому потолку при этих словах.
Последовала долгая, отдышливая пауза. Выражение лица Сергея Львовича, его откинувшейся фигуры – всё должно было намекать: встретились с министром как давние знакомые, почти друзья, и время не разделило их...
– Дмитрий Николаевич передал мне слова его величества. Наконец-то и старик отец удостоился услышать. Я скорблю вдвойне: как христианин и как отец, неужели мне последнему? Неужели я не заслужил ни любовью, ни заботами?..
Теперь, нечётко произносимые, скомканные волнением слова вылетали с некоторым даже присвистом. Глаза Сергея Львовича покраснели от сочувствия самому себе.
Дельвиг не знал, как поступить: выражение Александра было совершенно каменное.
– Я хочу, чтоб меня поняли наконец, – лепетал, внезапно остывая, Сергей Львович. – Я готов гордиться, я всю жизнь жаждал, но почему чужие люди? Милые сердцу по прошлым связям, но мне – последнему? Гордость отца...
Как они не понимали: теперь, когда Александр наконец прощён и обласкан, когда всё разъяснилось, он тоже хотел, он хотел... Тут вступил в силу широко раскинутый батистовый платок. И искренняя, бессильная старческая слеза шустро пробежала по несколько обвислой щеке. Нет, они не понимали!
Подобное происходило с Сергеем Львовичем второй раз в жизни. Но в пятнадцатом году он был молод ещё, до слёз не доходило.
...В пятнадцатом году сморщенный, едва стоящий на ногах Державин потребовал к себе Александра[97]97
...Державин потребовал к себе Александра. – Державин Гавриил Романович (1743– 1816) – поэт, государственный деятель. Единственная встреча с ним произошла у Пушкина 8 января 1815 г. на лицейском экзамене, где старый поэт пришёл в восхищение от чтения Пушкиным «Воспоминаний в Царском Селе».
[Закрыть]. Старик был неприятен лиловыми, брызжущими губами. И даже настойчивый, хриплый крик о том, что вот наконец сподобился, нашёл, кому передать свою лиру, отдавал чем-то несовместимым со стройной строгостью лицейского экзамена. Однако крик исходил от Державина, бывшего в увядающей, но всё ещё славе. И сам министр клонил к нему волосатое, тоже старческое, ухо.
Сергей Львович в те времена по всему Петербургу развозил новость о Сашке, но собственного удивления, как ни старался, скрыть не умел. И вот теперь во второй раз он вынужден был дивиться успеху Александра. Нынешнее, исходящее от самого царя, ни в какие сравнения не шло с сиповатыми причитаниями выживающего из ума поэта. И тем обиднее казалось очутиться в положении человека, вовсе вроде бы не причастного то ли к славе сына, то ли даже к самому Александру, стоившему ему... стоившему ему...
...Клавикорды стояли в простенке между высокими узкими окнами. Анна Петровна поспешила к ним, приглашая за собой Софью Михайловну, улыбаясь всем улыбкой обворожительной и утешающей. Новый скандал в семействе и именно в этот вечер представлялся ей чем-то совершенно невозможным. Кроме того, ей, как и Дельвигу, было искренне жаль Сергея Львовича.
Софья Михайловна бросила сильные, умелые руки на клавиши. Звуки закачались, поплыли в узкой комнате, слоями поднимаясь к потолку, жалуясь на тесноту, отражаясь от стен.
Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Пела Анна Петровна Керн, неизвестно почему выбрав этот романс, а не тот хотя бы, слова которого говорили о её трогательной, мимолётно явившейся поэту красоте... Голос её был не звонкий, какая-то печаль всегда в нём звучала. А тут и слова были такие – требующие печали.
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала...
Пушкин смотрел на неё, и, может быть, тайный испуг выразило его внезапно побледневшее лицо. Анна Петровна наклонила голову, кинула взгляд в ладони – раскрытые, беспомощно-пустые. Плакать она не собиралась, влага же, стоявшая в глазах, была всего лишь данью всему прекрасному и горькому, что было у неё в жизни... что было в жизни той молодой женщины. Стоило ли напоминать о ней Пушкину?
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я...
Это она пела и о себе. Только никому, решительно никому не следовало о том догадываться. Она умерла для него, как только смолк стук колёс возка, что увозил её из Тригорского. Хотя, может статься, несколько минут он смотрел с печалью вслед праху, клубившемуся на дальней дороге. Ведь не просто она уезжала, она увозила сладкий миг воспоминаний о его молодости. С её отъездом он снова оставался в глуши, во мраке заточенья, откуда, впрочем, писал ей весёлые легкомысленные письма.
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я...
Было жарко, пыльно, слепни облепили судорогой морщившиеся спины лошадей. Рубаха кучера промокла между лопаток, она смотрела на это тёмное пятно, не решаясь оглянуться, да и к чему?
Сейчас Пушкина меньше всего можно было назвать равнодушным. То, что она сначала приняла за испуг перед её слезами, перед её неловкостью, оказалось чем-то иным, куда более значительным. Лицо Пушкина как бы даже исказила тоска воспоминаний. Конечно, она поняла: воспоминания относились не к Михайловскому. Не к липовой аллее, по которой они почти бежали, а также не к тому давнему и нечаянному полуобъятию... Он подхватил её тогда, споткнувшуюся о старый корень, там вся земля была в переползающих старых корнях, он подхватил её и прижал к себе с такой робкой пылкостью, какая оказалась лучше объяснений.
Нынешняя тоска его – так во всяком случае полагала Анна Петровна Керн – имела отношение только к той итальянке, которую он встретил в Одессе.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжёлым напряженьем...
...Пушкин, внезапно поднявшись с кресла, подошёл к окну.
Все сделали вид, что не заметили его смятения, уважая в нём чувства. Однако не полуденную сверкающую на изломе волну он увидел в своём воображении, а может быть, и на поверхности темнеющего стекла. Он увидел всё те же столбы с перекладиной, всё те же судорожно подергивающиеся мешки, всё то же ясное небо над ними. И ещё вовсе невыносимое: зелёную, бьющую им в глаза своей зеленью траву, последнюю в их жизни. Они сидели в ожидании смерти, и руки их почти бессознательно перебирали листья этой травы, репящей между пальцев, резко пахнущие всем тем, что оставалось для живых...
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Ах, что стоили все в мире мучения любви, вся ревность и тоска перед этой последней зелёной травой! Перед сознанием того, что ты умираешь побеждённым, перед позором казни, наконец!
Тёмное окно было всего лишь темно, постепенно он приходил в себя, и поднималась досада на женщину, разумеется, только волею случая выбравшую именно этот романс...
«Бывают странные сближения», – записал он когда-то для себя по другому, но тоже связанному с восстанием случаю. Странное сближение настигло его и на этот раз: весть о смерти Амалии Ризнич он услышал в тот же день, что и рассказ о казни декабристов. И одно перекрыло другое.
Простодушно глядя на него всем своим матово-румяным лицом, возле него на таком коротком, таком доступном расстоянии стояла красивая, статная женщина в тёмном платье, только подчёркивающем её цветущую молодость...
Они смотрели друг на друга, медленно возвращаясь в узкую комнату с высокими, тонущими в темноте потолками. Сопел, насупившись, Дельвиг, отец зашевелился в креслах, охлопывая себя в поисках неизвестно куда засунутых очков.
Внезапно, причём совершенно как въяве, он почувствовал у себя на плече отнюдь не бодрящую руку царя. Рука лежала тяжело, властно, давила. Будто и не была рукой очень молодого, лёгкого в движениях человека. Императора Николая I[98]98
Императора Николая I ... – Николай I (1796—1855) – российский император о 1825 г., третий сын Павла I. Подавил восстание декабристов, создал III отделение (политическую полицию для борьбы с революционным движением), преследовал свободомыслие. Его называли «жандарм Европы»; он разгромил польское восстание 1830 – 1831 гг. и революцию в Венгрии в 1848 – 1849 гг. Известная встреча Пушкина с Николаем I произошла 8 сентября 1826 г. в Чудовом дворце в Москве, где поэт не скрыл, что встал бы в ряды мятежников, если бы находился 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Николай I был личным цензором Пушкина. Однако обещанное государем освобождение поэта от общей цензуры оказалось иллюзорным: все свои произведения он должен был отправлять через III отделение царю. В 1829 г. Николай I лично выразил ему своё неудовольствие по поводу самовольной поездки в Арзрум. После женитьбы и переезда в Петербург встречи поэта с царём возобновились; особенно часты они были в 1834 – 1835 гг. на придворных балах и приёмах в Зимнем и Аничковом дворцах, в Петергофе, в великосветских салонах. В дневнике Пушкина много записей о Николае I и разговорах с ним.
[Закрыть]...
Однако кто мог знать, о чём на самом деле в тот вечер думал Пушкин? И почему был мрачен во всё продолжение его, как отмечают в письмах и воспоминаниях присутствовавшие? Но так естественно представить суету Сергея Львовича, вдруг увидевшего в своём Александре весьма отличное от того, что видел он до сих пор. И не стоят, пожалуй, осуждения попытки услышать радостные подробности о свидании сына с царём.
Но рассказа нет. Как всегда, во всяком случае Сергей Львович думает так не без некоторого основания, в его присутствии физиономия сына мрачна. Сашка снова, и как нарочно, обманывает самые радужные его надежды.
Что же касается повешенных декабристов, тени их являлись Пушкину, очевидно, часто, если мы знаем пять рисунков, изображающих виселицу и появляющихся в черновиках рукописей вплоть до «Полтавы», т. е. до 1828 года. Но, кроме виселицы, рисовались ещё и портреты повешенных, известна не оконченная строчка: «И я бы мог...» Тут надо ещё вспомнить, что царю он заявил: окажись в Петербурге – был бы с ними, на площади, с друзьями и товарищами. Да к этому прибавить неоднократно повторяемое как заклятье, но с усмешкой, отнюдь не весёлой: если не буду повешен... Например, в коротеньком обращении всё к той же Елизавете Петровне Полторацкой, сестре А. П. Керн:
Когда помилует нас Бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен.
Эти строки написаны в 1829 году, значит, как продолжительно было состояние ума и сердца, которое в описываемый вечер ни угадать, ни понять Сергей Львович не мог.
...Что же касается Амалии Ризнич, Пушкин ещё вспомнит её. В Болдине, осенью, перед тем событием, которое меняло всю его жизнь, он прощался не только с Элизой Воронцовой.
Вот последняя строфа стихотворения, посвящённого его первой одесской любви:
...Но там, увы, где неба своды
сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...
Как видите, равнодушия и следа нет, время уравняло смерти, одинаково молодые и теперь одинаково печалящие...
...Нам же остаётся только установить, были ли клавикорды в той квартире, которую снимали старики Пушкины. Наверное, были: Ольга Сергеевна ещё жила вместе с родителями, ещё была очаровательна и молода, но то время определяло её как девушку стареющую. Музыка помогала коротать одинокие вечера.
Однако вернёмся к Дельвигу.
Дельвиг писал грустные элегии о бренности жизни. Но у него были твёрдые и благородные принципы. И смел он бывал достаточно, когда дело касалось этих принципов. Так, например, именно он вызвал на дуэль литературного шпиона и доносчика знаменитого Фаддея Булгарина.
Да, знаменитого, я не оговорилась, тоже навсегда вошедшего в круг гения своей завистью к Пушкину; своей пакостной, мелкодеятельной враждой.
Дельвиг вызвал его на дуэль, а что Фаддей? А он отказался на том основании, что видел на своём веку крови больше, чем «молодой человек» чернил. Ещё в Лицее Дельвиг отличался от многих тем, что больше игр, в особенности требующих физической ловкости, любил книги. Е. А. Энгельгардт писал о нём: «В русской литературе он, пожалуй, самый образованный». Даже Илличевский, не жаловавший своих соперников поэтов, о Дельвиге заметил: «...музам пожертвовал он большую часть своих досугов. Быстрые его способности (если не гений), советы сведущего друга отверзли ему дорогу, которой держались в своё время Анакреоны, Горации[99]99
«...отверзли ему дорогу, которой держались в своё время Анакреоны, Горации...» – Анакреон (Анакреонт) (ок. 570—478 до н. э.) – древнегреческий поэт-лирик, в творчестве которого преобладали мотивы наслаждения чувственными радостями жизни, а также звучало предчувствие смерти. Подражание ему породило «анакреонтическую» поэзию поздней античности, Возрождения и Просвещения. В России анакреонтические стихи писали М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин. Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65 до н. э. – 8 до н. э.) – римский поэт. Его знаменитый «Памятник» породил множество подражаний (Державин, Пушкин и др.).
[Закрыть]...»
Сведущим другом был Кюхельбекер.
Приятель Пушкина Алексей Вульф, достаточно едкий, циничный и уж во всяком случае ходивший не в розовых очках, писал о Дельвиге: «Я не встречал человека, который так всеми был бы любим и столько бы оную любовь заслуживал».
И наконец, свидетельство самого Пушкина: «Смерть Дельвига нагоняет на меня тоску. Помимо прекрасного таланта, то была отлично устроенная голова и душа незаурядного закала. Он был лучшим из нас. Наши ряды начинают редеть».
А вот ещё несколько печальных пушкинских строк из стихотворения к лицейской годовщине;
...Кого недуг, кого печали
Свели во мрак земли сырой,
И надо всеми мы рыдали.
И мнится, очередь за мной,
Зовёт меня мой Дельвиг милый.
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных.
Навек от нас утёкший гений.
Предчувствие не обмануло Пушкина, следующим стал действительно он.
III
Вильгельм заворочался, застонал во сне, подтягивая худые мосластые ноги к животу: в «келье» было холодно. То ли лицейских воспитывали по-спартански, то ли кто-то крал казённые дрова... Вильгельму снился вчерашний день и тот листок, какой показал ему Илличевский. Вообще карикатуры на него, Вильгельма Кюхельбекера, были ужасны – он и во сне ощущал этот ужас. Пушкин тыкал в кругом разрисованный лист острым пальцем и хохотал. Хотя мог судить – и по карикатурам Илличевского тоже – о том, как трудно будет Виле продвинуться по пути великого, по пути тираноборства и защиты идеалов свободы. Как Брут, как герои Шиллера он хотел быть.
Пушкин хохотал, закидывая голову, и, неизвестно почему, ему становилось жарко, он расстёгивал мундирчик, а Виля мёрз... Он мёрз и глухо мычал во сне, пытаясь объяснить Александру: то, что нарисовал Олосенька Илличевский, недостойно товарища и вовсе не похоже на него, Вильгельма Кюхельбекера. Он полагал себя высоким юношей с благородными, почти правильными чертами. Они же его видели длинным, длинным – и больше ничего. Они бы и прозвали его так, если бы не подвернулось это невыносимое: Кюхля.
Нарисованное Илличевским состояло из одних острых углов и пошатнувшихся, хоть и стремительных линий. А лицо – всё в неопрятном первом пуху, жидко прилизаны височки. Рядом – маленькая фигурка с вывернутой губой и хвостом. Пушкин вырвал листок из рук Илличевского – тот так и остался е открытым ртом.
– Виля, настоящий герой должен быть ещё и мученик. Ты разве не знал? А в мученьях своих – стоик. Так стоит ли, – Пушкин засмеялся почти сложившемуся каламбуру. – Стоит ли огорчаться, если решил – в герои?
– Он хотел меня унизить, он зол на всех! – Кадык у Вили ходуном ходил на жалкой цыплячьей шее.
– А мне, душа моя, Олосенька угодил. Ещё рожки – и точно бес. А ты думал кто?
– Обезьяна! – крикнул Олосенька и, сейчас же отскочив, добавил миролюбиво: – С тигром, с тигром! Помесь обезьяны с Тигром!
Таково было лицейское прозвище Пушкина, даже лестное, если подумать. У них у всех были лестные или лёгкие прозвища. Только он был: Кюхля.
...Пушкин ухмыльнулся и пошёл, размахивая листком, показывая встречным. Они все умели, если уж подходил такой момент, посмеяться над собой первыми, Виля – не мог. В нём не было той беззаботности, того блеска, который он презирал и которому завидовал мучительно, даже сейчас, во сне. Иногда он бросался очертя голову в игры их сумасшедшие, в танцы и – запинался. Ему казалось: он танцует ничуть не хуже Пушкина. Отчего же у барышень вытягивались лица, едва он подходил к ним на вечерах у Энгельгардта? Ободряемый директором, он кружил их, в том числе и миловидных директорских дочек, в полном самозабвении. Но и в самозабвении чувствовалась натяжка. Сейчас, во сне, рядом с ним появился сам Егор Антонович, он жал Вилин локоть к своему боку и, доверительно склонив круглую голову, объяснял своему доброму другу, своему милому Вилли, как несуразно и даже вредоносно всё чрезмерное, чрезвычайное, далеко отстоящее от золотой середины...
Вильгельм не любил Егора Антоновича, вот что удивительно. И не любил его чистый и честный дом, где всех лицейских принимали столь расположенно и даже по-семейному. Впрочем, Пушкин этого дома тоже не любил.
Егор Антонович был всепроникающ, вот в чём секрет, он хотел того, чего даже отец не должен хотеть, он хотел поселиться в душе каждого из них и лепить затем эту душу по своему образу и подобию или, во всяком случае, по своему усмотрению.
...Одеяло, очевидно, свалилось на пол, потому что он снова стал мёрзнуть и поскуливать, длинные ноги болели от холода, и ему показалось, что он лежит плашмя в холодной воде. Как и наяву случилось однажды, лучше бы об этом не вспоминать...
Но он давно приметил за собой: ему часто вспоминалось именно то, от чего пытался отделаться, что хотел задвинуть в самый дальний угол памяти да ещё завалить мусором повседневных мелочей. К примеру, за ним тащились воспоминания о том, что на допросе он заплакал и стал кричать о своей невиновности, о том, что его соблазнили и вовлекли... А они сидели в своих расшитых выпуклым золотом мундирах и смотрели на него через стол, отдаляя лица, брезгливо и отчуждённо, как на мёртвого, уже приговорённого ими к смерти, уже смрадно гниющего. «Этого путать не надо, этот сам через себя споткнётся», – сказал кто-то из них, а другой (граф Чернышёв?) прикрикнул: «Поторопитесь, молодой человек, не задерживайте, у нас обед стынет!» Вспоминать об этом было ещё мучительнее, чем о том, как, в отрочестве затравленный насмешками, он однажды решил покончить счёты с жизнью, побежал по промозглому холоду и бросился в пруд.
Его вытащили. В этом пруду вообще трудно было утопиться, разве что упав плашмя. Но он-то не знал, он бежал и бросился всерьёз, какие-то минуты между ним и смертью ровным счётом ничего не было. Или лучше сказать: они оказались в объятьях друг друга – он и смерть. Что даже несколько приподнимало его над остальными лицейскими. В особенности над теми, кто всё писал и писал в своих элегиях о смерти, которая придёт в час любви или дружеской беседы. Вильгельм был враг элегий. Слог его был возвышенный. Он признавал стих звучный, даже как бы бряцающий, требующий протяжного голоса.
Пушкин смеялся над ним и его стихами вместе со всеми, что было особенно обидно. Пушкин мог бы понимать самолюбие. Пушкин был самолюбив не меньше его.
Пушкин краснел до черноты, когда ему казалось, что его оскорбляют. Однажды они стояли на перекрёстке дорог возле старого памятника. К памятнику этому у них давно уже сложилось отношение слегка фамильярное. Памятник был – дед. Вернее, среди тех, кому поставлен был памятник, оказался и дед одного из них – Саши Пушкина. Когда-то это удивило, а теперь они проходили мимо, довольно фамильярно поглядывая на «деда», уже без любопытства. Иногда Виля оборачивался, как будто из-за каменного столба мог появиться ненароком и смотреть им в спину наваринский Ганнибал. Впрочем, встречи с адмиралом, возможно, ждал один Виля. Ему нужны были герои. Они теснились в его воображении, и этот тоже: в дыму и пламени, размахивая саблей, он стоял у мачты...
Дальше Виля ничего не мог придумать. Одно знал: чудо как хорошо, что именно у Пушкина оказался дед (хотя и двоюродный), которому в парке, полном напоминаний о подвигах, поставлен памятник. Другому Вильгельм завидовал бы, что недостойно. Пушкину завидовать он не умел. Пушкин в чём-то был вне их строя, сам по себе, с судьбой, может быть, как у Державина.
...И вот они все вместе, на вольной прогулке, снова оказались возле памятника. Мясоедов, всегда медленно и туго думающий, неизвестно к чему спросил:
– Пущин, а у тебя дед тоже адмирал, что ж не хвастаешься?
– Адмирал, – подтвердил Пущин. – Только не такой, без памятника.
– Ганнибалы живут в Африке – это из истории, – заметил Корф, и миловидное лицо его ничего не выразило. Просто сообщал подробность, которую товарищи по невниманию забыли.
– В Африке? – Тут Вильгельм увидел, как любопытством заострилась мордочка Комовского. – Он что ж, чёрный, этот Ганнибал?
Комовский ахнул, ещё уменьшаясь в росте, как бы ожидая удара по макушке или готовясь в бега.
– Чёрный, – подтвердил Пушкин, и глаза его налились кровью. – Но не дед, а прадед – из Африки. Однако крещён самим Петром. А другой мой пращур, Пушкин, Петром же повешен. Это тоже чего-нибудь стоит, Лисичка!
Тут он засмеялся. Стоял, рука за бортом сюртучка, нога выставлена – и смеялся. Высокомерие было в его смехе и в его позе.
Ах, Пушкин, Пушкин!
Зачем он сказал о нём, о Виле, которого называл братом, зачем он сказал:
Писатель за свои грехи,
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее!
Но даже и не в этом четверостишии заключалось самое ужасное. Самое ужасное заключалось в одном пушкинском слове, не выводившемся из писем и разговоров. Слово это было: кюхельбекерно. Означало: скучно, муторно, тоскливо, как от бесконечной, хромающей в размерах строки; как от длинной боли в животе. А между тем и у него, Вильгельма Кюхельбекера, были прекрасные строки, он это точно знал.
Смех Пушкина, когда он произносил кюхельбекерно, был ужасен, от этого Вильгельм ворочался на своём узком и жёстком ложе, понимая: надо проснуться хотя бы затем, чтоб поднять одеяло, но не просыпался.
В коридоре что-то стукнуло тяжело: лицейский истопник принёс и швырнул на пол охапку дров. Потом послышался звон, как будто несли оковы, что было совсем некстати. Потом, как бывало в Шлиссельбурге, кто-то сказал: «Но он болен, он упадёт. Как прикажете приковывать его к тачке, когда собственное тело в таком состоянии влачить невозможно. Этого человека держит на земле только сила духа». Никто, кроме него самого, не слышал этих слов. А жаль! Насчёт силы духа хорошо бы послушать лицейским, всё ещё считавшим его чудаком, неудачником, Кюхлей...
Он скрипнул зубами от этого прозвища, от своего бессилия перед ним. Оттого, что оно многое могло заслонить в будущем. А он верил в будущее, в то, когда он предстанет не перед сверстниками – перед потомками, и все поймут: он тоже был поэт. Пушкин назвал его братом.
«Мой брат родной по музе, по судьбам», – произнёс Виля громким, торжественным голосом, смело откидывая руку. Пушкинские слова были прекрасны, он бы хотел, чтоб их тоже услышал весь мир, а больше всего те, кто опять сидел перед ним за длинным, некстати нарядным судейским столом в орденах и лентах. Слева от себя он видел седую голову военного министра Татищева, лоб опирался на ладонь. Прямо было круглое, неприятно красивое лицо графа Чернышёва. Верхняя губа его подёргивалась зло, брезгливо, Чернышёв отодвигался, опираясь о стол, как бы затем, чтоб его не коснулось тлетворное Вилино дыхание. Глаза у графа были тёмные не по одному только цвету, и в них ходили, зажигались металлические искры. Словно точили нож, и сыпался с наждачного шершавого колеса неживой огонь...
Этот неживой огонь завораживал, и Виля почувствовал, как неуместен, может быть, опасен собственный его свободный в подражание Пушкину жест рукой от середины груди в бесконечность...
Потом Вильгельм (предоставим ему это) услышал прозвучавшее откуда-то сверху пушкинским голосом произнесённое:
Приди; огнём волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.
Строки были прекрасны, и во сне на миг Вильгельму показалось: он мог сам сказать своему другу подобное. Иногда, во сне же, у него складывалось ничуть не хуже, и, проснувшись, он бросался к жалкому своему листку бумаги, выданному из милости, к высокому зарешеченному окну – строки испарялись, как туман. Приходили другие, но те, ночные, свободные, были лучше... Он бы хотел, чтоб их прочёл Пушкин.
...На этот раз он увидел Пушкина бегущим к нему от станционной избы с лицом бледным и почти обезумевшим. Во сне это лицо казалось ещё более искажённым, чем вчера, наяву. Кюхельбекер почувствовал поцелуи Пушкина, объятья, судорожные, торопливые. Голос у него прорезался, и он закричал по-настоящему, привставая на лавке, где спал.
Конвойный кинулся к нему, придавливая, стараясь снова уложить. А может, задушить? Со сна Вильгельму почудилось именно это, он стал отдирать пальцы, вцепившиеся ему в плечи.
– Пусти, пусти, чего тебе? – В кромешной темноте избы не было видно почти ничего, только возле самого лица – ощеренные досадой белые зубы. Да запах чеснока и водки...
– Я те дам, я те покажу людей полошить. Сказано, нельзя! – Жандарм повторял вчерашнее слово.
Фельдъегерь, вёзший его неизвестно куда, подошёл, всматриваясь в Вильгельма быстрыми, обшаривающими глазами. Фельдъегерь думал о том, что надо так случиться: с этим тихоней ему пришлось вчера повозиться. Правда, он, фельдъегерь Подгорный, обезопасил себя рапортом, поданным по начальству. Так что с него взятки гладки. Вчерашняя встреча попортила ему много крови, но что поделать – служба.
Фельдъегерь Подгорный любил свою службу, потому что любил употреблять власть. И ещё он любил эту свою неподкупную обязательность при исполнении долга. Хорош бы он был, если бы соблазнился, принял деньги от вчерашнего, который к тому же оказался сочинителем да ещё кричал, что лично знает Александра Христофоровича Бенкендорфа, генерала, выше которого один царь. И к царю самому грозился обратиться, как только приедет в Петербург. С жалобой на него, Подгорного, за бесчувственность...
Государственный преступник, вручённый ему для препровождения из Шлиссельбургской крепости в Динабургскую, и господин, которого, перебирая в уме случившееся, Подгорный упорно обозначал вчерашний, сначала не обратили друг на друга внимания. А потом так кинулись? два жандарма и он сам еле их растащили.
И вот теперь смирный, или длинный, взбесился. Взгляд у него стал другой. В нём пробивалось временами нечто угрожающее. Согласно своему служебному положению, а также принципам фельдъегерь Подгорный видел в Вилином зажёгшемся взгляде именно нечто угрожающее спокойствию. Не спокойствию империи, нет, – об этом, он так понимал, давно забыто – но его собственному спокойствию. И заодно спокойствию тех, под чью ответственность будет вручён поименованный Вильгельм Кюхельбекер.
Отметил он также: нечто горделивое появилось в тощей, согбенной, явно чахоточной и явно недолгопрочной фигуре арестанта. С одной стороны, он как бы стал ещё ничтожнее после прерванного свидания, после того как потерял сознание и его отпаивали, обливая, водой из жестяной кружки. С другой же, Подгорный это отметил с удивлением, арестант воспрял. Сквозь слёзы, но – воспрял. И фельдъегерь забеспокоился.
– Кто такой? – спросил фельдъегерь у государственного преступника, про того, который тогда ещё не успел сделаться вчерашним, а был для Подгорного господин скандальный и неосновательный. – Кто такой – Пушкин? Какую важную птицу из себя строит. Тоже небось бунтовщик, не лучше вас всех.
Государственный преступник запахивал полы обветшалой фризовой шинели, пытался прикрыть впалую грудь и тощую шею, ощипывал нервными руками полуистлевший шарф. Слёзы стояли у него в глазах. Он сказал:
– Пушкин на всю Россию один: Пушкин!
Вот тут-то и полыхнуло из глаз государственного преступника так, что Подгорный усомнился: может, скандальный и вправду вхож к царю?
– Пушкин? Не знаю такого... Чем занимается?
– Стихи пишет.
Стихи было занятие несерьёзное. Стихи, стишки, куплеты... Но всё-таки Подгорный задал вопрос, который задавать ему вовсе не хотелось, однако бережёного и Бог бережёт:
– Царю известен?
В вопросе этом длинный мог усмотреть тревогу, его, Подгорного, опасение, как бы чего не вышло из грубости при попытке свидания, из грубости при отказе взять несколько денег для передачи Вильгельму Кюхельбекеру, другу юности, прекрасной чистой душе, ни в чём, кроме идеалов, не повинной... Во всяком случае, именно так кричал проезжий, когда фельдъегерь уже распорядился втиснуть обмершего Кюхельбекера в коляску и отвезти версты за две, где и подождать, пока он, Подгорный, разочтётся за прогоны да отцепится от этого – Пушкина! Чёрт бы его не видал...
– Государю императору. – Подгорный изо всех отпущенных ему природой сил надавил на эти два слова. – Спрашиваю, государю императору лично известен господин сочинитель или как?
– Оба императора, и ныне покойный, и ныне здравствующий, – Виля хмыкнул, – очень большое проявляли к нему внимание.
На мгновение он прикрыл свои синие, больные веки, насупился. Картины этого внимания мелькнули перед ним в темноте, в отгороженности, в относительном духовитом тепле шинели (пахло псиной и дождём). Он сидел, спрятав руки в коротких рукавах, как в муфте, утопив шею в жёстком воротнике.
Шестью годами ссылки сказалось царское внимание на судьбе Пушкина...
...Вильгельм Карлович Кюхельбекер, государственный преступник, осуждённый по первому разряду на смертную казнь, заменённую двадцатью годами одиночного заключения, Вильгельм Карлович Кюхельбекер сидел в тёмной, ещё не тронутой рассветом станционной избе, ждал, пока запрягут лошадей, и думал о вчерашнем. Как нищий перебирает в своей котомке лоскутки и корочки, он перебирал подробности встречи. Как богач, он рассыпал перед собой такие сокровища, что воистину вздрогнул бы фельдъегерь Подгорный, рассмотри их. Но в том-то и дело, рассмотреть эти сокровища не многим было дано.








