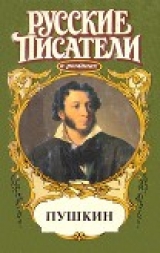
Текст книги "«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
Облака плыли не такие высокие, как весной, в синеве их сквозил холод прощания. Они были похожи на корабли и движением своим вселяли неясную тревогу.
Он всё ещё стоял под опадающими, тихо, благостно светящимися деревьями, подняв голову к движущемуся небу, как вдруг из неведомой дали долетел трубный, настойчивый и мощный призыв. Лёгкий клин журавлей направлялся к югу...
Точно так же летели они над Курбским и Самозванцем, подъезжавшими к русской границе почти в этот же октябрьский день, но ровно 222 года назад. Цифра почему-то развеселила его. Он и в самом деле снял свою мягкую пуховую шляпу, махнул вслед птицам.
Он шёл к Веневитинову читать «Бориса Годунова».
Надо сказать, он не любил читать свои стихи и, уж конечно, не видел в этом для себя ничего лестного. А тут сам условился, почти напросился, если бы к нему подходило это слово...
Пошевелил плечами, словно платье стесняло в спине, что могло значить одно: он нервничал. Застегнул тёмный глухой жилет на последнюю пуговицу и вдруг вспомнил... Он боялся за «Бориса». Или нет! Он вовсе не боялся, знал свою правоту, когда, кончив пьесу и перечитав её вслух один, прыгал по утлой комнате в Михайловском, бил в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Он знал, что взглянул на историю взглядом Шекспира и не в новой форме тут было дело. А в том, что понял естественный ход вещей. Народ бессмыслен и составляет толпу до времени. «Пока не проняло, – сказал он вслух и купил сайку у разносчика. – Пока не припёрло», – поправил сам себя, с удовольствием впиваясь в пахучее тесто. Баба, нёсшая на плече большой, неудобный узел, обернулась. Лицо её с коротким носом оказалось миловидным и почти молодым. Он подмигнул ей и расхохотался. Баба сейчас же отвернулась, но по плечам видно было – тоже смеётся.
...Он читал «Бориса» в доме молодого литератора Дмитрия Веневитинова. Сидели в кабинете хозяина в креслах, на диване, на принесённых стульях, а в общем, не так уж много – человек двенадцать, подстрекаемых любопытством, почти как в театральном зале.
Это надо было понять: вот явился Пушкин, а до тех пор для многих из них он был только голос. Они только читали его, и вольно было им, например тому же Михаилу Погодину, представлять Поэта. А вошёл не торжественный, откидывающий кудри вития. Вошёл человек среднего роста, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, вертлявый, с порывистыми ужимками, с приятным голосом.
Может быть, в этом и заключалось его главное свойство: будучи Пророком (то есть гением), оставаться человеком?
Может быть, и моя цель в этой книге показать именно это: человека среди людей?
Он любил своего «Бориса» и, задержавшись у стола, прижал большую тетрадь с рукописью к груди. Раздумье на минуту наморщило лоб: отдавать ли на суд?
– Взялся за гуж, – сказал он, однако усаживаясь и раскрывая тетрадку. Маленькая рука его с очень длинными ногтями ещё некоторое время перебирала листы.
Он так и знал, что первым ответом ему будет тишина недоумения. Но потом дыхание стало общим.
Когда он читал сцену в монастыре, сцену Григория с Пименом, почувствовал, что мороз пробегает у него по спине, шевелит волосы. Но он точно знал, то же самое происходит с остальными. Кто-то из сидящих у окна не то просто судорожно перевёл дыхание, не то застонал.
Тень Грозного меня усыновила,
Дмитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла…
Он произнёс эти слова, сам зная их силу, многие вскрикнули. Слёзы блеснули у многих.
Он вышел победителем из своей ссылки.
И у него закружилась голова.
Он не был уже их собрат, почти ровесник, известный поэт. Он был автор «Бориса Годунова». У него было женское и детское свойство краснеть от волнения, и сейчас краска залила лицо.
Он и сам не ожидал, что всё это произведёт на него такое впечатление. Ему жали руки. И он жал свои руки к груди, не мог принять не то важный, просто равнодушный вид. Да и не этого ему хотелось. Благодарный стал читать им стихи...
Да, он вернулся из своей ссылки победителем.
И вот шеф жандармов А. X. Бенкендорф оповещает Пушкина о запрещении печатать что-либо, не представляя августейшему цензору Николаю I. И даже читать. А он ведь читал свою трагедию «Борис Годунов», тоже не прошедшую царскую цензуру.
С этих пор и завязался диалог между Пушкиным и шефом жандармов, в котором поэт всегда был лицом или оправдывающимся, или просящим.
Итак, первое письмо к шефу жандармов.
«...Так как я действительно в Москве читал свою трагедию некоторым особам (конечно, не из ослушания, но только потому, что худо понял высочайшую волю государя), то поставляю за долг препроводить её Вашему превосходительству в том самом виде, как она была мною читана, дабы Вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена; я не осмелился прежде сего представить её глазам императора, намереваясь сперва выбросить некоторые непристойные выражения. Так как другого списка у меня не находится, то приемлю смелость просить Ваше превосходительство оный мне возвратить.
Мне было совестно беспокоить ничтожными литературными занятиями моими человека государственного, среди огромных его забот; я роздал несколько мелких моих сочинений в разные журналы и альманахи по просьбе издателей; прошу от Вашего превосходительства разрешения сей неумышленной вины, если не успею остановить их в цензуре...»
«Мне уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову».
Следующий 1827 год прямо начинался с письма к Бенкендорфу, и относится оно всё к тому же «Годунову».
«Милостивый государь
Александр Христофорович!
С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо Вашего превосходительства, уведомляющее меня о всемилостивейшем отзыве его величества касательно моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное.
В непродолжительном времени буду иметь честь, по приказанию Вашего превосходительства, переслать Вам мелкие мои стихотворения.
С чувством глубочайшего почтения, благодарности и преданности честь имею быть.
Вашего превосходительства всепокорнейший слуга
Александр Пушкин.
3 января 1827. Москва».
Итак, из победы ничего не вышло.
Он сам, Вяземский, Веневитинов, Погодин. Кто там ещё? Несколько человек (несколько десятков?) вполне знали цену его трагедии. Он насладился минутным, за обычные рамки выходящим восторгом московских просвещённых людей. Что дальше?
Он сидел, уронив голову на руки, душа была пуста. Вернее, её заполнил какой-то безнадёжный гнев на самого себя, развесившего уши при царских обещаниях; на царя, столь легко и необоснованно меняющего тон отношений. А больше всего на тот шум, на те возгласы и слёзы, от которых он не только размяк, но и воспарил...
Он кончал своё письмо: «С чувством глубочайшего почтения, благодарности и преданности...» Я думаю, перо ломалось на каждой строчке, когда он писал шефу жандармов, как выходило, заведывавшему русской словесностью. Писал 22 марта, 24 апреля, 29 июня, 20 июля, ещё раз 20 июля, 10 сентября... Никому в то время он не писал так часто. Несколько коротких писем Погодину, несколько записок Соболевскому[141]141
...несколько записок Соболевскому. – Соболевский Сергей Александрович (1803—1870) – библиофил и библиограф, однокашник по Благородному пансиону брата Пушкина Льва. Их общение касалось различных литературных и издательских дел. После возвращения Пушкина из ссылки в Москву Соболевский был его доверенным лицом. Он улаживал ссору Пушкина с Фёдором Толстым (см. коммент. к стр. 77), он познакомил его с Полевым и кругом «любомудров» и др. У него на квартире Пушкин некоторое время жил после полуторамесячного пребывания в Михайловском в декабре 1826 г. Встречи их продолжались и позже. В 1828 – 1833 гг. Соболевский жил за границей. По его возвращении их общение возобновилось и особенно тесным было в 1834 – 1835 гг. в Петербурге. В 1836 г. Соболевский снова уехал за границу.
[Закрыть].
И всё-таки не надо представлять, что весь год затемнили эти письма... Были друзья, была всё-таки свобода, и вся Москва решительно была наполнена прекрасными и прелестными женщинами. А кроме того, существовало же ещё Михайловское и Тригорское, куда он удрал всё-таки в конце июля...
Думал ли?
В 1828 году первый раз Бенкендорфу он пишет 5 марта. К письму есть приписка:
«Осмеливаюсь беспокоить Вас покорнейшей просьбою: лично узнать от Вашего превосходительства будущее моё назначение». Имелось в виду назначение в действующую армию. На Кавказ.
С армией не удалось. 21 апреля того же 1828 года Пушкин пишет письмо Александру Христофоровичу с просьбой разрешить ему поездку в Париж. Отказано.
А вот август 1828 года. Одно из самых горьких писем:
«Вследствие высочайшего повеления господин обер-полицмейстер требовал от меня подписки в том, что я впредь без предварительной обычной цензуры... Повинуюсь священной для меня воле; тем не менее прискорбна мне сия мера. Государь император в минуту для меня незабвенную изволил освободить меня от цензуры, я дал честное слово государю, которому изменить я не могу, не говоря уж о чести дворянина, но и по глубокой, искренней моей привязанности к царю и человеку. Требование полицейской подписки унижает меня в собственных моих глазах, и я, твёрдо чувствую, того не заслуживаю, и дал бы и в том честное моё слово, если б я смел ещё надеяться, что оно имеет свою цену».
Шевельнулось дело о «Гавриилиаде».
Подписку требуют именно в том, что впредь он не будет сочинять ничего богохульного. Подписку приходится дать. Непоборимое желание исчезнуть из Петербурга только усиливается. В октябре он уже в Малинниках...
В декабре 1828 года Пушкин впервые увидел Наталью Николаевну Гончарову. Девочку с прелестным узеньким лицом, стеснительную до болезненности. И – странная вещь, непонятная вещь – переплелись две, казалось бы, несовместимые нити. Всё, или, во всяком случае, многое, что касалось женитьбы (любви!), приводило всё к тому же порогу III отделения.
Ступени крыльца были на этот раз поистине высоки. И хлеб подаваемый горек... 1 мая 1829 года Пушкин пишет письмо Гончаровой. Ещё не барышне, не Натали – её маменьке:
«На коленях, проливая слёзы благодарности, должен был бы я писать вам теперь, после того как граф Толстой передал мне ваш ответ[142]142
...граф Толстой передал мне ваш ответ... – Толстой Фёдор Иванович.
[Закрыть]: этот ответ – не отказ, вы позволяете мне надеяться. Не обвиняйте меня в неблагодарности, если я всё ещё ропщу, если к чувству счастья примешиваются ещё печаль и горечь...»
Надежда висела на тонкой ниточке, на сердце кошки скребли. Коль скоро было отказано в праве официального пребывания в действующей армии, он отправился туда сам. Он не мог дальше оставаться в Москве, где никак не решалась его судьба и где магнитом, несколько даже унизительно, тянуло к девушке, вовсе свободной от чувств к нему.
10 ноября 1829 года, из письма к Бенкендорфу:
«С глубочайшим прискорбием я только что узнал, что его величество недоволен моим путешествием в Арзрум». Дальше шли объяснения: он хотел повидаться с братом, с другом детства Раевским. А там уж «показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника.
Я понимаю теперь, насколько положение моё было ложно, а поведение опрометчиво...»
Опять его школили, как мальчика... И опять хотелось исчезнуть.
7 января 1830 года Пушкин обращается к Бенкендорфу с просьбой разрешить ему путешествие во Францию или Италию. («Покамест я ещё не женат».) В случае же если это не будет разрешено, то нельзя ли в Китай? С отправляющимся туда посольством?
Разумеется – нельзя.
Пушкин всегда рвался путешествовать. Но тут сказался случай особый.
Перечтём стихотворение «Поедем, я готов...».
Последние его строчки:
...Поедем... но, друзья,
Скажите: в странствиях умрёт ли страсть мои?
Забуду ль гордую, мучительную деву,
Или к её ногам, её младому гневу,
Как дань привычную, любовь я принесу?
Ниточки сплелись. Трагически, немилосердно – подберите какое хотите определение, но – сплелись...
В марте 1830 года ему нанесли большую обиду. Пушкин сам говорил об отношении правительства к себе: поминутно то дождь, то солнце. Что весной тридцатого толкнуло на выговор за рядовую, обыденную поездку в Москву? Раньше ведь он ездил каждый год, не испрашивая специального разрешения (царём прощён, из службы выключен, сам себе голова).
Строки письма шефа жандармов звучат почти как лай. Или как шипение?
«...вменяю себе в обязанность вас уведомить, что все неприятности, коим вы можете подвернуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению».
А всё-таки что-то крысиное было в лице этого вполне благообразного охранителя. Тонкие ли злые усики над недобрым ртом? Александр Христофорович совсем не похож на заправского бурбона, каким и не был. На рисунке А. Жирара он предстаёт перед нами в виде частном, даже домашнем: пёстрый халат, небрежно облегающий шею батистовый ворот рубашки, вольная поза, рука занята книгой. А глаза? А глаза так и не могут отпустить вас. Усталые, цепкие глаза. Беспощадные. Хотя изувером он тоже не был. Так, жестокость не выше нормы той (николаевской) эпохи.
Смотрит и думает: так я и поверил! О тебе и Вяземском мне уже великий князь Константин Павлович отписал что надо, то есть то же самое, что думаю я. Вы оба вовсе не руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные, когда просили позволения следовать за главной императорской квартирой. Одно желание найти новое поприще распространения своих безнравственных принципов! – вот что вас гнало.
Стыдно и страшно, а то, проще сказать, до слёз обидно. Судьи – кто? Константин Павлович, славившийся жестокостью и развратом, на совести которого, как говорили современники, было по крайней мере два уголовных убийства, и Бенкендорф, двуличный, плавающий в более мелкой грязи, чем великий князь, но в грязи же...
Пушкин переписки между Константином Павловичем и шефом жандармов, разумеется, не знал, но ощущение несвободы было почти вещественным. Его привязали тонкой, крепкой, режущей душу верёвкой. И от напряжения её он заболел по-настоящему: разлилась желчь, началась апатия, он не мог взять перо в руки. Сутками не хотелось есть...
Весной 1830 года со своим пасквилем выступил Булгарин. Опять письмо к Бенкендорфу с просьбой оградить. И опять то же простодушие: что Булгарин сотрудничает с III отделением и что шеф жандармов очень им дорожит, было невдомёк.
...16 апреля 1830 года черновик письма к Бенкендорфу пишется на клочке бумаги, уже занятом быстрым, приблизительным рисунком. Это портрет Наташи Гончаровой. Поистине: бывают странные сближения!
16 апреля в крайнем смущении писалось то самое письмо с просьбой аттестовать перед будущей тёщей честным человеком. 7 мая уже можно поблагодарить своего страшного покровителя: подтверждено благорасположение царя.
Письмо, писанное 7 мая, кратко, благопристойно, придраться к его содержанию нельзя. Но неутомимый фон Фок препровождает его шефу со следующими словами: «Присоединяю к моему посланию письмо нашего пресловутого Пушкина. Эти строки великолепно его характеризуют во всём его легкомыслии, во всей его беззаботной ветрености. К несчастью, это человек, не думающий ни о чём, но готовый на всё. Лишь минутное настроение руководит им в его действиях».
Непонятно, что, кроме злобной предвзятости, могло двигать пером начальника канцелярии?
Уже в тридцатом году в письмах Пушкина вместе с шелестом легчайших, обутых в бальные туфельки ножек Натали Гончаровой начинает прослушиваться новый мотив: денежный. Сначала пустячок: поэт просит у Бенкендорфа разрешения перелить на металл медную 6абушку, с которой мы уже познакомились. А затем целая россыпь писем к Михаилу Погодину с просьбой: денег, денег, денег.
Я не удержусь, приведу слова Михаила Погодина: «Как ищу я денег Пушкину! как собака...» (июль 1830 г.). Маленькая реплика, но о многом она говорит. И об отношениях, и о степени нужды в деньгах, и о том, что без залога они в руки не даются. А закладывать что? В холостом хозяйстве – никаких драгоценностей, кроме «Годунова». Так его ещё удастся ли издать и когда?
Положение жениха обязывает. То, к чему раньше Пушкин относился легко, теперь заставляет задуматься.
Письма Н. Н. Гончаровой, пока писанные по-французски, идут всё гуще. Из Болдина почти ей одной. Остальным – о ней, то есть о женитьбе. Женившись, Пушкин стал писать Наталье Николаевне по-русски.
Сколько ни читаю их, ни перечитываю, всегда одна главная мысль, одно ощущение: ему нравилось писать ей. Это был не долг, но потребность.
Новый, не изведанный ранее (и, возможно, казавшийся ранее ничтожным) мир окружил его. Мир молодой, прекрасной женщины, полной сил и желания радоваться, быть счастливой, окружённой поклонением, любовью, тем, что просто ласкает глаз... Мир, которому непременно принадлежала улыбка на только что проснувшемся розовом лице, но и удививший своими цифрами счёт от лучшей модной шляпницы.
Он, этот мир, становился всё плотнее, всё больше, не только окружал его, но входил в его жизнь.
...Он смотрел на досаду жены: в лавках не нашлось чёрного шёлка, нельзя было окончить вышивку, обещанную Нащокину. И досада не казалась смешной – она была трогательна, как и внезапная складка между длинных бровей, слегка оттопыривавшаяся нижняя губка.
Нащокин написал письмо, в нём предположение: вышивка окончена, но подарена кому-нибудь из тех, кто под рукой. Она выхватила письмо из рук, перечла вслух, крикнула:
– Какой дурак этот Нащокин!
– Теперь вопрос: передать ли ему твою аттестацию, моя красавица?
– Ты ещё спрашиваешь? Два раза повтори – дурак.
– Повторю, моя умница. А как же? Таша Гончарова велит – мне ли ослушаться?
Он смеялся и целовал её тоже рассмеявшееся лицо, руки, подвернувшуюся узкую коленку, гибкую стопу. Куда ни попадя целовал Ташу Гончарову, которая стала наконец его женой, Натальей Николаевной Пушкиной. Умевшей так славно злиться на тех, кто сомневался в её дружбе.
...Он вынимал из обтянутой малиновым шёлком коробки только что объявившуюся новинку – тончайшую кашемировую шаль. Лицо жены становилось по-детски жадным, нетерпеливым. Наконец шаль раскидывалась, она смотрела, оторвавшись от всего, сильные молодые руки вскидывали подарок и так и этак. Когда она подняла глаза, в них на минуту мелькнуло не то недоверие, не то боязнь, что чудесный кусок ткани прямо у неё под руками растает дымкой, уплывёт в окно. Но, засмеявшись, она уже бежала к зеркалу. Шаль была хороша, а плечи – лучше. И сверкающая белизна их атласно лоснилась, как у лепестков только что распустившегося цветка.
...Он отвозил модные букли в Москву Малиновской, передавал пояса, тоже модные, выбранные Ташей, радовался, что Таша учится играть в шахматы, беспокоился, как она там в Петербурге одна без него справляется с прислугой? Не ездит ли верхом, беременная, ходит ли два часа по комнате, как он просил?
Сам не замечая, но раз от разу, уезжая по делам то в Москву, то в Оренбургские степи, он всё больше подробностей этого мира захватывал с собой в дорогу.
Но и все подробности дороги, путешествия то в компании немецких актрис в жёлтых кацавейках, то в обществе растерявшейся молодой городничихи он запоминал для неё, описывая подробно, чтоб продолжалась эта домашняя, семейная близость, о которой он как-то и не помышлял.
Он улыбался, обмакивая перо и начиная новую строчку, представляя, как всё это будет читаться. Строчки бежали легко, шло ещё хорошее время: долги не душили, пока слегка пугали, он ещё верил, что своим трудом заработает столько, сколько нужно семье, не существовал, не предвиделся оскорбительный камер-юнкерский мундир, в царе Николае I он ещё не вовсе разуверился... И не знаешь, какую из прелестных новелл (а они часты в наиболее подробных письмах) привести, чтоб проникли, дошли до вас запахи, звуки, видения той жизни, какая ещё только начиналась, вовсе не грозя трагедией.
«Мой ангел, я писал тебе сегодня, выпрыгнув из коляски и одурев с дороги. Ничего тебе не сказал и ни о чём всеподданнейше не донёс. Вот тебе отчёт с самого Натальина дня. Утром поехал я к Булгакову извиняться и благодарить[143]143
Утром поехал я к Булгакову извиняться и благодарить... У него застал я его дочерей и Всеволожского. – Булгаков К. Я. (см. коммент. № 145). Всеволожский Никита Всеволодович (1799—1862) – с 1831 г. причислен для особых поручений к управляющему Главным штабом. Любитель театра и литературы, основатель литературно-политического общества «Зелёная лампа». Петербургский приятель Пушкина.
[Закрыть], а между тем и выпросить лист для смотрителей, которые очень мало меня уважают, несмотря на то, что я пишу прекрасные стишки. У него застал я его дочерей и Всеволожского, который скачет из Казани к вам в Петербург. Они звали меня на вечер к Пашковым на дачу, я не поехал, жалея своих усов, которые только лишь ощетинились. Обедал у Суденки, моего приятеля, товарища холостой жизни моей. Теперь и он женат, и он сделал двух ребят, и он перестал играть – но у него 125 000 доходу, а у нас, мой ангел, это впереди. Жена его тихая, скромная, некрасавица. Мы отобедали втроём, и я, без церемоний, предложил здоровье моей именинницы, и выпили мы все не морщась по бокалу шампанского...
...Ух, жёнка, страшно! теперь следует важное признанье. Сказать ли тебе словечко, утерпит ли твоё сердечко? Я нарочно тянул письмо рассказами о московских моих обедах, чтоб как можно позже дойти до сего рокового места; ну, так уж и быть, узнай, что на второй станции, где не давали мне лошадей, встретил я некоторую городничиху, едущую с тёткой из Москвы к мужу и обижаемую на всех станциях. Она приняла меня весьма дурно и нараспев начала меня усовещевать и уговаривать: как вам не стыдно? на что это похоже? две тройки стоят на конюшне, а вы сена ни одной со вчерашнего дня не даёте. – Право? – сказал я и пошёл взять эти тройки для себя. Городничиха, видя, что я не смотритель, очень смутилась, начала извиняться и так меня тронула, что я уступил ей одну тройку, на которую имела она всевозможные права; а сам нанял себе другую, то есть третью, и уехал. Ты подумаешь: ну, это ещё не беда. Постой, жёнка, ещё не всё. Городничиха и тётка так были восхищены моим рыцарским поступком, что решились от меня не отставать и путешествовать под моим покровительством, на что я великодушно и согласился. Таким образом и доехали мы почти до самого Нижнего – они отстали за три или четыре станции – и я теперь свободен и одинок. Ты спросишь; хороша ли городничиха? Вот то-то, что не хороша, ангел мой Таша, о том-то я и горюю. – Уф! кончил. Отпусти и помилуй».
А как же быть с теми гроздьями цитат насчёт кокетства, которым жена допекала Пушкина, в письмах неосторожно сообщая ему о своих новых победах? Все их приводят. Но не всегда отмечают, что тут, конечно, и глупенького хвастовства хватает, но, главное: она его этими признаниями торопила вернуться.
«Верхом не езди, а кокетничай как-нибудь иначе» – это пишется двадцатого сентября 1832 года. И никакой тревоги нет, обыденное письмо, с пересказом московских сплетен, с описанием безалаберной жизни Нащокина...
Следующее пишется двадцать седьмого, после того, как получено от Натальи Николаевны целых три.
«Спасибо, жена. Спасибо и за то, что ложишься рано спать. Нехорошо только, что ты пускаешься в разные кокетства... хоть я в тебе и уверен, но не должно свету подавать повод к сплетням. Вследствие сего деру тебя за ухо и целую нежно, как будто ни в чём не бывало. Здесь я живу смирно и порядочно; хлопочу по делам, слушаю Нащокина...»
А вот ещё тот же мотив в первом, из Торжка, письме 1833 года: «...береги своё здоровье, не кокетничай 26-го. Да бишь! не с кем». (26-го можно было бы кокетничать с царём на дворцовом балу, да царь уехал. «Не с кем...»).
И всё-таки меня не перестаёт почти мучительно интересовать: как же она кокетничала, если была совсем не бойка, не разговорчива, а в первое время застенчива почти до болезненности? Как можно было кокетничать и в то же время создавать о себе именно такое впечатление? Дарила она взглядом, что ли? И, тотчас отнимая надежду, тихо отворачивалась? Будто и не зажигалось ничто в глубине прозрачных зеленовато-коричневых глаз? А может, и впрямь не зажигалось? Только лукавство одно, почти девчоночье, ещё из той полудетской жизни?..
Или вдруг в редкой улыбке открывались редкой красоты зубы, и это производило впечатление ошеломляющее? Тот, кому улыбнулась, считал себя отмеченным правом на некую смутную надежду?
Она ли сама была виновата, что образовался почётный культ её красоты, подсвеченный именем Пушкина? Выйди она замуж за другого, никто бы не узнал, что
Натали Гончарова и в самом деле так удивительно хороша.
Перечитывая письма Пушкина и зная конец, мы теперь готовы и бытовым полунасмешливым строчкам придать значение пророчества. Но перевернём страницы, и они нам расскажут, как гордился Пушкин не только красотой своей жены, но и слухами, рассказами, целыми повествованиями об этой красоте...
1833 год, август. Пушкин едет собирать материалы о Пугачёве. По дороге в Москву не удержался, заехал в Павловское. Всё здесь нынче сквозило скукой, если не запустением. Перевели в другие края улан, а барышни разъехались. Правда, Павел Иванович встретил его с превеликой радостью и так же охотно кинулся играть в шахматы, но кончилось вистом, проигрышем в три рубля и чаем с вареньем. «Много спрашивают меня о тебе; так же ли ты хороша, как сказывают – и какая ты: брюнетка или блондинка, худенькая или плотненькая?»
Спать его положили в той же комнате, где в последний раз спал он холостым. Было жарко, август стоял сухой. Он думал о Пугачёве, о том, что засуха, неурожай и, может быть, голод и сейчас могут довести чёрный народ до крайности. Кажется, в самое время взялся за своего Пугачёва, нужно было предупредить, научить, предостеречь. Ещё мелькали короткие мысли: о лошадях, о вечных тяготах русской дороги, о Машиных зубах, которые всё не шли...
Днём он дописал письмо, рассказывая, какие восторги вызвала Наташина красота у известной всему крещёному миру мадам Пожарской. Славной трактирщицы из Торжка.
«Ты видишь, моя жёнка, что слава твоя распространилась по всем уездам. Довольна ли ты?»
А дальше шли те самые строки, какие теперь повторяют почти в каждой книге о нём. «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете – а душу твою люблю я ещё более твоего лица».
Но вернёмся всё к той же теме.
Уже из Болдина, куда заехал он на обратном пути из Оренбурга и где ему надобно было задержаться для работы, Пушкин пишет: «Нет, мой друг: плохо путешествовать женатому; то ли дело холостому! Ни о чём не думаешь, ни о какой смерти не печалишься. Смотри, жёнка. Того и гляди избалуешься без меня, забудешь меня – искокетничаешься». «Не стращай меня, жёнка, не говори, что ты искокетничалась; я приеду к тебе, ничего не успев написать – и без денег сядем на мель. Ты лучше оставь уж меня в покое, а я буду работать и спешить. Вот уже неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пугачёве, а стихи пока ещё спят. Коли царь позволит мне Записки, то у нас будет тысяч 30 чистых денег. Заплотим половину долгов и заживём припеваючи».
Но, очевидно, Наталья Николаевна всё продолжает прежний манер, потому что 11 октября Пушкин пишет: «Не жди меня в нынешний месяц, жди меня в конце ноября. Не мешай мне, не стращай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай с царём, ни с женихом княжны Любы. Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу...»
«Повторю тебе помягче, что кокетство ни к чему доброму не ведёт; и хоть оно имеет свои приятности, но ничто так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейственного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету: уважения...
Жёнка, жёнка! я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу, – для чего? – Для тебя, жёнка; чтоб ты была спокойная и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги ж и ты меня».
Выл ветер, и дождь барабанил в окна без устали... Вода ворчала, вскрикивала, обрушиваясь с крыши в стоящую возле угла бочку; оттуда – на землю с плеском, похожим на плеск волны. Тоска не отпускала его, он писал о наводнении...
Как бывало часто, собственные или чужие строчки, привязавшиеся, не отпускали его. Возвращаясь с прогулки, скидывая отсыревшее платье или уже перед самым сном, он всё повторял:
Стрянул шинель, разделся, лёг.
Но долго он заснуть не мог
В волненье разных размышлений...
Он писал поэму о городе Петровом – Петербурге, а также о человеке, желания которого не простирались далеко.
Ветер выл так же уныло, как в его поэме. Возможно, тот же ветер. Голые ветки хлестали сами себя и небо, которого не было. За окнами стоял сплошной мрак, он слышал только, как хрустко что-то ломалось в деревьях и падало в лужи.
Героя, о котором он писал, в конце концов, раздавила жизнь, он оказался песчинкой. На сердце становилось так, будто судьба полунищего чиновника каким-то образом соотносилась с его собственной. Не хватало только, чтоб по болдинским закипающим лужам хоть во сне, хоть наяву проскакал медный конь со своим вытаращенным в непробиваемую тьму всадником.
Надо было менять ход мыслей, чтоб хандра не завладела окончательно, отбив от работы, погнав в Петербург, где как раз усядешься за поэму между балами, работой в архивах, домашними и денежными хлопотами, баталиями с нерадивой прислугой; среди визга и плача детей, дружеских обязывающих визитов, набегов альманашников, новых платьев Натальи Николаевны, причитания и квохтания тётки, впрочем, для его слуха очень милого, над своей любимицей, своей душкой, дочерью своего сердца, как она аттестовала Натали императрице...
Тут он представил старую фрейлину Екатерину Ивановну Загряжскую во всём великолепии её форм и во всём величии её неописуемых чепцов.
Вслед за этим увидел саму Наталью Николаевну в повой причёске, о которой между ними велась оживлённая переписка. Волосы были разделены прямым пробором и тихими длинными локонами спадали вдоль прелестных щёк.
В сопровождении и под охраной тётки Наталья Николаевна входила в большую залу, а он замирал от восхищения, как мальчик, притаившийся в дальнем углу.
Куда бы он ни пытался повернуть свои мысли, становилось понятно, что не усидеть больше вдали от неё, от детей, от того, что составляло Дом. Странное устройство, где всё сцеплено, неразъединимо, где поселилась вечная тревога о деньгах, о здоровье детей, о её нарывах, которые гнездились на стянутой холстом груди оттого, что не хотело перегорать молодое, обильное молоко... Тревога была и о новых беременностях, о родовых её муках, от которых он каждый раз бежал, проявляя очевидное малодушие и ничего не умея с собой поделать...
...Вернувшись в Петербург, он не застал Наталью Николаевну дома.
«Жена была на бале, я за нею поехал – и увёз к себе, как улан уездную барышню с именин городничихи. Денежные мои обстоятельства без меня запутались, но я их думаю распутать». Это из письма к Нащокину. Написано 24 ноября. А 6 декабря пишется письмо Бенкендорфу.
«...Осмеливаюсь препроводить Вашему сиятельству стихотворение, которое желал бы я напечатать, и при сем случае просить Вас о разрешении для меня важном. Книгопродавец Смирдин издаёт журнал, в коем просил меня участвовать. Я могу согласиться только в том случае, когда он возьмётся мои сочинения представлять в ценсуру и хлопотать об них наравне с другими писателями, участвующими в его предприятии; но без Вашего сведения я ничего не хотел сказать ему решительного».








