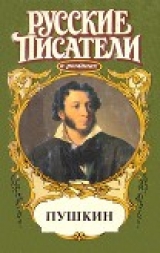
Текст книги "«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)
Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня; они входят в мои домашние расчёты. Всякая радость будет мне неожиданностию».
«КАК ДАНЬ ПРИВЫЧНУЮ, ЛЮБОВЬ Я ПРИНЕСУ»
Уже январская Вьюга подвывала у крыльца тоненько, незлобно. После такой наутро вполне можно было ждать ростепели, сырости, даже светлых луж с проплывающими в них розовыми облаками и новых ожиданий прочного, чистого снега. У князя в такую погоду часто голова и мысли были тяжёлыми, больными.
– Клохчут, клохчут барыни наши, ей-богу, как индейки или куры какие-нибудь, прости Господи. И не тебе бы, милый друг, повторять дурацкие доводы в пользу брака. Пушкин в единственном экземпляре отпечатан – это понять надо, и ты-то уж могла бы хоть и сейчас сказать: глупость делает. Недаром дружна до восторга, на всё закрывая глаза...
Князь ходил по комнате, делая руками жесты если не театральные, то, во всяком случае, какие приличествуют оратору в собрании, а не мужу и отцу семейства в собственном доме.
– Я и на твои выходки во многом глаза закрываю, – спокойно сказала княгиня Вера, морща маленький носик. Она вдевала шёлковую нитку в иголку. – Это я – ангел кротости, хоть старовата для роли такой: крылья повытрепались в заботах... Я ангел, а вас обоих бес под ребро толкает то и дело. Ты слишком рано начал жизнь семейную, он слишком поздно начнёт, и то и то – плохо. Да ведь когда-то надо же, князь.
– Зачем? – Вяземский повернулся резко, показывая и фигурой, и вскинутыми руками, и больше всего лицом – удивление. – Зачем, объясни мне внятно. Дело кончено, так хоть бы знать, какой в нём смысл.
– Каждый раз повторяю тебе: в семье смысла не ищи, кроме самой семьи. Дети, внуки, любовь, своё государство со своей защитой от... – она остановилась, прислушиваясь, отложив вышивание, – от вьюги, к примеру...
– Да ты, мой друг, точно ли вьюгу слушала? – Князь присел перед нею на корточки, так что теперь заглядывал снизу вверх в милое, сильно постаревшее лицо. – Ну, признайся, вьюгу ли?
– Вьюгу.
– А я чаю: как Павел дышит, как Мари во сне заговаривается, и через десять комнат до тебя дойдёт.
– И до тебя. И до него, как свои пойдут.
– Вот этого и не надобно. Это отнимет у России поэта.
– Тебя же не увело от твоих трудов.
– Именно что – трудов. Я ему не ровня, это первое. А второе, худо-бедно кормимся с родовых своих и по красненькой не занимаем. Ещё и детишкам знаем, что оставить, были бы живы и благополучны. А он? Деревенька на Парнасе сегодня кормит, а завтра государь Николай Павлович косо посмотрит, что ж – с молодой женой по куски идти?
– И без жены худо по куски. Авось жена придержит от мальчишества. Тридцать второй мальчику пошёл.
– Мальчишество... – Вяземский вскочил, ходил по комнате, а бубнил себе под нос, рук, сжатых на груди, не разнимая: – Мальчишество! Нашла, чем припечь. Что же надо сотворить, объясни ты мне, чтоб барыни наши и ты с ними заявили: вот речи не мальчика, но мужа? В службу пойти? К министру в зятья? Или ещё какую шутку удрать? Да знаешь ли ты, мать моя, что и в двадцать он зелёным не был? Недаром покойник Александр Павлович его своими милостями чуть в Сибирь не загнал...
– Ну а не мальчик, так тем более хорошо будет женатому на любимой да на красавице... Или завидуешь, а, князь?
Вяземский повернул голову резко, будто услышал слово удивительное.
– Я? Чему бы, кажется?
– Тому, что – красавица...
– Красавица – точно. Но тут как получается? Если уж жениться первому романтическому поэту России, то на ком же? На первой романтической красавице.
И действительно – на зависть! Только удивляюсь: почему отдают? Могли бы и подождать кого побогаче...
– А и не так уж глупо за Пушкина дочь отдать. Он перебесился, а отроду человек надёжный...
– Уж как бесился, кому, если не тебе, знать...
Намёк был на Одессу, на любовь давнюю к Элизе Воронцовой. На те утешения, за какими Пушкин прибегал к Вере Фёдоровне. В буквальном смысле слова прибегал, забыв перчатки и шляпу на даче, где узнал: снова гонят его; высылают в Михайловское... В пыли, чуть не в слезах, сюртук с оторванной пуговицей, и такая боль, что лицо стало совершенно серое. Подобного серого, сведённого горем лица Вера Фёдоровна больше никогда в жизни ни у кого не видела...
Оно то как бы вспухало у неё на глазах, то покрывалось неожиданными морщинами, оно дрожало, билось каждой жилочкой, просило объяснить: как же можно? Как же будет с его любовью теперь, когда его оторвут, отстранят, лишат всего, чем жил эти месяцы?
Вера Фёдоровна отвела взгляд от крупно шагающего по голубому ковру мужа, уткнулась в вышивание. Однако иголка её оставалась неподвижной.
Сколько лет прошло с тех одесских горестных молодой горестью лет! Да нет, не так уж много – шесть... Княгиня вздрогнула, подсчитав: всего шесть! Тихонько кончиком иголки она поправила нитки, чтоб стежок лежал вплотную к стежку. Всего шесть лет! А сколько увлечений за эти годы и сколько новых бед, сколько стихов, и «Онегин» кончен, и «Борис Годунов» выходит в свет, и вот теперь – женитьба. Было какое-то странное ощущение, будто Пушкин обогнал их с Вяземским, прожил больше. Больше нажил, не денег – нет; но... чего же он нажил больше, в конце концов? Вера Фёдоровна посмотрела на князя, не то сравнивая его с Пушкиным, не то ожидая подсказки... Чего? Душевных страданий? Необходимых поэту, как объяснял муж, злясь иногда на её сочувствие Александру? Но ведь и они бедствовали, теряя детей, отдаляясь друг от друга... Больше душевной твёрдости? Той прекрасной непреклонности, которой она в нём боялась? Князь стал сговорчивее, а Пушкин всё ещё готов был на безрассудство... Но теперь оно не столь бросается в глаза, так, может, Пушкин в большей степени, чем её муж, нажил расположение нового царя? Только вряд ли, государь и его и Вяземского звал: мои сумасшедшие. Мечутся, мол, какого рожна им недостаёт? Именно – рожна, это было выражение Николая Павловича, над которым смеялась Россет[139]139
...над которым смеялась Россет. – Смирнова Александра Осиповна (урожд. Россет; 1809—1882). С 1826 г. фрейлина. С 1832 г. жена Н. М. Смирнова, камер-юнкера, впоследствии калужского и петербургского губернатора, сенатора. Общалась с Пушкиным в 1828 – 1835 гг. Незаурядного ума, привлекательная и образованная, она была хорошо знакома, даже дружна со всем петербургским пушкинским кругом – Вяземским, Жуковским, Тургеневым, Карамзиными и др. С нею связаны стихотворения Пушкина «Её глаза» (1828), «Полюбуйтесь же вы, дети...» (1830), «От вас узнал я плен Варшавы...» (1831), «В тревоге пёстрой и бесплодной...» (1832). Оставила ценные записки о встречах и разговорах о Пушкиным.
[Закрыть].
Разница в возрасте между Пушкиным и князем будто уменьшалась со временем. И это несколько обидно означало: Пушкин как бы рос быстрее и шире.
Он давно перестал быть мальчиком, бегущим спрятать в материнские колени заплаканное лицо. Впрочем, и бежал-то всего один раз.
Пушкин должен был вот-вот явиться.
Княгиня прислушивалась, не подъедут ли сани, не стукнет ли отворяемая дверь. Прислушивалась и думала: а что же осталось в душе Александра от любви к Элизе Воронцовой, столь бурной в своё время и столь печальной? Неужели ничего? Для неё всегда странно было это – уходящая любовь. Когда-то муж, совсем мальчик, отправляясь на войну, писал, что жизнь без неё теряет для него смысл. Пожалуй, и сейчас смысл потерялся бы, умри она в одночасье или растворись в воздухе каким-либо волшебным манером... Но радость и вдохновение своё князь умел черпать из многих источников. Не дай Бог, то же случится с Пушкиным... То есть – наоборот. Не дай Бог, Наталья Гончарова, девочка, которой всё предрекает великое будущее первой красавицы, будет черпать свои радости из многих источников....
...Сани с визгом полоснули по свежему снегу у ворот, ударились о тумбу, глухо брякнул подвязанный колокольчик, княгиня отгадала шаги Пушкина сразу же. Он вошёл в синюю гостиную быстро, лицо его было мрачнее мрачного.
– Свинство, положим, меня давно уже ни в ком не удивляет. Но глупость... – Это были первые его слова, на которые он сам развёл руками.
Поворачиваясь к нему на каблуках, князь спросил из дальнего угла:
– Опять дурит баба? Да плюй ты и соглашайся на самое немыслимое. Сыграешь свадьбу, пусть догоняет обещанное. У неё самой семь пятниц на неделе, к чему церемониться?
– Уже обещал чуть не в кабалу идти. Покойным царём не дразнить. Соглашаться: умнее не было; добрее не было; красивее не было. Вот разве что нынешний – авантажностью перешибёт. Так всё мало.
– А чего надо?
– А чтоб в чан со смолой с кипящей Александр Сергеевич – бултых. Да с другого конца вывернулся молодец-кудрявич, и, главное, вовсе без прошлого. Голенький, по крайней мере, душой, будто маменька только что родить изволили. Сегодня кого бы вы думали? Раевских сестёр на свет вытащила. Если, говорит, в столь молодые годы... И если, говорит, в нынешнее строгое время я в переписке...
– Раевских? – Вяземский, не сходя с места, протянул руку, остановил мечущегося Пушкина. – Почему вдруг – Раевские? У тебя вправду – переписка? В Сибирь пишешь или куда?
– Нет переписки. А ходят по городу стихи мои, кавказские. И кто-то труд на себя взял, объясняет: Раевской посвящены. О Раевской Марии, нынче в Сибирь упрятанной, я всё вздыхаю. И в какой час? Когда руку и сердце предложил Наташе Гончаровой.
– Сам виноват. Кто за язык тянул читать?
– Один раз и прочёл. Что за грех?
– А списки кто распустил?
– Лев, может быть. Это тоже, брат, не лёгкая работёнка быть братом. Все новостей требуют, анекдотов, строчек.
– Хорошо. Простим Льву. Но ведь не прогнала же тебя тёща? – спросил Вяземский, и какая-то нотка надежды послышалась в его голосе.
– Прогнать не прогнала, да к попам гонит. Кроме царского уверения, ещё чего-то ей надо. Свидетельства от самого Господа Бога нашего, претензий не имеющего к рабу своему? Ума не приложу, как достать?
– А Натали вы видели? – спросила Вера Фёдоровна. – Она что? Выходила к вам?
– В прошлый раз – выбегала. И, представьте, даже сказала, что любит меня и мать торопит. Так зато нынче и в дверную щёлку не дали поглядеть. Мигрень, мол. С вечера печи дурно протопили, весь день лежит...
– Жалко девочку...
– Не верю я ни одному слову маменькиному. От меня ей чего-то надо, и знает, что своё получит, смирный зятёк попался. Да и влюблён по уши.
– А девочку всё равно жалко, – хмыкнул князь. – Вера вон слышала: на коленях перед маменькой стояла, чтоб отдали, сбыли с рук. А то ведь запрет ведьма, как старших сестёр в Заводе. А сквозь такие-то дали кто ж красоту её рассмотрит?
– Матушка, сдаётся мне, злится, что продешевила. Пушкин – сочинитель, всего-то. Сочинитель, брат, вещь удивительная, московским тёткам подозрительная. А ведь есть ещё, хоть и Пушкины, да графы. Как считаешь, князь, продешевила?
Вяземский посмотрел открыто, сказал как бы шутя, не обижая:
– А как же! Продешевила, вестимо...
Он стоял большой и ещё рос, поднимаясь на носки, заложив руки в карманы брюк.
– Продешевила? – Пушкин охнул и рванулся, будто прочь из комнаты. Но любопытно же было услышать: почему продешевила?
– А как же! Она ведь думает, женитьба тебе перед его императорским величеством очень шею согнёт. И в такой-то позиции ты его императорскому величеству куда как мил окажешься. Тут уже греби милости, не зевай!
На этих словах они рассмеялись оба их несообразности. И не то чтобы обнялись, а молодецки ударили друг друга пониже плеч, подтверждая тем и дружбу свою, и расположенность, и общность взглядов на многое. На те же вздоры госпожи Гончаровой, к примеру.
Как будто развеселились, но Пушкин сказал всё-таки довольно невесело:
– Август прошлый на меня иначе как октябрём и не взглядывал. Посмотрим, как нынешний себя окажет. «Бориса» разрешил, на том спасибо. Подарок ценный не по одним деньгам...
Потом все сидели за столом, и Вера Фёдоровна с удовольствием матери или старшей сестры смотрела на Пушкина, как он чистил один за одним апельсины и как росла оранжевая горка корочек, почему-то веселя не только глаз, но и сердце...
Что-то такое заключалось в едком, щиплющем и необыкновенно чистом запахе... Что-то такое вкрадчиво, мягкой лапкой трогающее сердце, что-то...
Они встретились взглядами, и вмиг руки его, не без усилия отламывающие плотную дольку, остановились. А лицо побледнело. Это был одесский запах – вот что. Порознь они не думали об этом; порознь апельсины означали одно: заморское лакомство – не мочёные яблоки, не ягода клюква. А тут пахнуло...
Такой оцепенелый, такой тихий сидел он за столом. Теперь уж морщины были навечно. Их оказалось много на грустном лице.
«Любил ли он кого-нибудь, как её? – подумала Вера Фёдоровна. – Гам, в блистательной Одессе, всё было понятно: молодость искала любви, и сам блеск способствовал этой любви, несравненный блеск и недоступность Элизы Воронцовой. Но там был ум, характер, всё было определённо в той женщине и манило...»
«И она меня любила, – подумал Пушкин. – Пусть миг один, но душа её откликалась – не снисходила».
«Он стареет, а привязанности его становятся моложе, – подумала ещё Вера Фёдоровна. – Грустно, но все они этим пытаются задержать время. Князь – тоже».
«Но я не хочу, чтобы эта девочка, Наташа Гончарова, только снисходила ко мне. Зачем это? Зачем я обещал и ей и матери довольствоваться спокойной привязанностью? Я никогда не сумею быть спокойным, – ещё так подумал Пушкин, точно как и княгиня Вера, глядя на отплывающий берег и возвращаясь к настоящему. – Но страдания неуверенности, беспокойство, даже и постоянное, – лучше жизни без неё. Я решился. Судьба моя решилась».
«Он надеется образовать её по себе...»
Большая лампа над круглым столом освещала задумчивые лица княгини и Пушкина. Руки их над яркими, весёлыми плодами двигались медленно, словно нехотя, а лица не были обращены друг к другу. Княгиня Вера рвала оранжевые корки на мелкие кусочки. Она была маленькая, но порывистая, и оттого казалась выше. Лицо простое, с очень светлыми, готовыми к сочувствию глазами: славная баба, как он когда-то говаривал; славная тётка. Не из тех московских тёток, коих он боялся и ненавидел: всем предлагающих свои рецепты на соленье, варенье, свадьбы, проводы и чины. А просто тётка, почти родня. Посажёной матерью будет на свадьбе. Кому же, как не ей, быть посажёной?
Княгиня наконец оставила свою ненужную работу, платком тщательно стала вытирать руки.
– Бывало, вы отмечали лиц совсем другого толка. И верили в себя, бывало, больше: в иные времена, в иных краях.
– Бывало, княгиня, – согласился Пушкин с глубоким вздохом. – Даже: бывывало, княгиня прекрасная и добрейшая. И ещё вернее: бывывывало.
Он невесело рассмеялся давней шутке Крылова.
– Бывывывало, да быльём поросло, стар становлюсь. Так что, душа великодушнейшая, не судите меня. И без вас охотников хоть пруд пруди и повздыхать, и позлословить, так и слышу их за спиною: странная вещь, непонятная вещь. Зачем женится? Зачем выдают?
– Александр Сергеевич, я ли вам...
Она хотела сказать: «Я ли вам не друг искренний и преданнейший», но в горле что-то пискнуло, лицо её стало жалким, когда она взглянула на Пушкина. К чему бы это? Неужели и она не верила в возможность его счастья?
Они сидели на угловом диване, и Пушкин вдруг, не поднимаясь из-за стола, свалился к её ногам, упал, уткнулся в синий бархат подушек, в синий шёлк её платья, в свою тоску.
– Не хочу, – сказал он глухо. – Никакого снисхождения никогда ни в ком не хотел и не хочу. А ведь клялся, недоумок, недоносок несчастный, будто одного терпеливого равнодушия мне будет достаточно...
Он ударил обоими кулачками в диван, поднимая голову. Лицо его было нехорошо.
– Я перед ней робею, княгиня, как ни перед кем не робел. Уж очень, верно, люблю... Насмерть люблю.
ПИСЬМА

 очему так сладко, так легко писать о Пушкине? Ложишься ночью, окончательно выжатый, сил нет донести голову до подушки. А донёс – сразу мысль: завтра проснёшься, и снова ждёт это свидание – не свидание, работа – не работа; состояние... Когда ты, кажется, рукой чувствуешь, а не только вспоминаешь белую краску дверей на Мойке, масленый холодок бронзовых ручек, вывешимаемый Жуковским бюллетень, от которого слёзы начинают литься сразу и неудержимо...
очему так сладко, так легко писать о Пушкине? Ложишься ночью, окончательно выжатый, сил нет донести голову до подушки. А донёс – сразу мысль: завтра проснёшься, и снова ждёт это свидание – не свидание, работа – не работа; состояние... Когда ты, кажется, рукой чувствуешь, а не только вспоминаешь белую краску дверей на Мойке, масленый холодок бронзовых ручек, вывешимаемый Жуковским бюллетень, от которого слёзы начинают литься сразу и неудержимо...
Почему так горько пишется о Пушкине?
И почему больше всего хочется рассказать о его письмах?
Сколько себя помню, чуть не ежегодно перечитываю письма Пушкина. В мировой литературе не много найдётся романов, подобных тому, какой составляют они, собранные вместе, снабжённые комментариями, дополненные портретами адресатов, тем, что копилось в нас чуть не с младенчества. Да что там – роман! Целая эпопея разворачивается перед нами во времени и пространстве, сравнимая разве что с «Войной и миром»...
Сколько исторических событий, характеров, идей, блестящих картин, несравненных выражений находим на страницах, вроде бы отнюдь не предназначенных для массового чтения.
А какое движение сюжета? Какая динамика, наращивание, изменение характеров? Но скажем главное: какой герой! Пушкин, очевидно, любое время сделав своим, тем самым сделал бы примечательным, если не замечательным. Но он родился под счастливой исторической звездой: свидетель блестящих побед русского оружия; современник борьбы Балкан за своё национальное освобождение; друг декабристов, сам возбудитель их идей... Человек, мечтавший наконец пробиться к самодержавному уму, убедить: к вещим волхвам стоит прислушаться. Глядишь, они правильно подскажут, куда ведёт эта дорога, а куда – та, и вообще: «Что сбудется в жизни со мною?»
И всё это лежит перед нами, упрятанное в один или два томика...
Начну с самой звонкой, самой радостной ноты: «Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная. Таким образом, «Годунова» тиснем». Это из письма Н. М. Языкову[140]140
Языков Николай Михайлович (1803—1845), поэт. Знакомый Пушкина о 1826 г. Часто встречался и переписывался с ним.
[Закрыть] в Дерпт из Михайловского, куда Пушкин, свободным, вернулся ненадолго. 9/XI—1826 г.
Однако уже 29-го того же года и месяца Погодину в Москву он пишет:
«Милый и почтенный, ради Бога, как можно скорее остановите в московской цензуре всё, что носит моё имя – такова воля высшего начальства...»
Через несколько дней С. А. Соболевскому тоже в Москву:
«Вот в чём дело: освобождённый от цензуры, я должен, однако ж, прежде чем что-нибудь напечатать, представить оное выше; хотя бы безделицу. Мне уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову...»
22/111—1827 г. А. X. Бенкендорфу из Москвы в Петербург.
«Стихотворения, доставленные бароном Дельвигом Вашему превосходительству, давно не находились у меня: они мною были отданы ему для альманаха «Северные Цветы» и должны были быть напечатаны в начале нынешнего года. Вследствие высочайшей воли я остановил их напечатание и предписал барону Дельвигу прежде всего представить оные Вашему превосходительству».
20/VII—1827 г. А. X. Бенкендорфу, в Петербурге:
«Честь имею препроводить на рассмотрение Вашего превосходительства новые мои стихотворения...»
Август 1827 года. М. П. Погодину из Михайловского в Москву:
«Фауст и другие стихи не вышли ещё из-под царской цензуры; коль скоро получу, перешлю к вам».
Как видите, ликования, доверчивой расслабленности чувств хватило ненадолго. Догадывался ли Пушкин, что встреча в Чудовом дворце была в некотором роде с удовольствием разыгранным театрализованным представлением? Вся. Начиная от фельдъегерской спешки, не разрешившей как следует собраться в дорогу, до приказа: ввести в кабинет, каким выйдет из экипажа. Ни отряхнуться, ни умыться, ни переменить платье не давать.
Царь собирался на бал, комнаты Чудова дворца были полны людей в шитых золотом мундирах с парадно озабоченными лицами. Между ними и дамами в богатых уборах сновали молодые офицеры, затянутые в новенькие мундиры, как бы тоже новенькие в своей молодости. От волнения румянец кругами расходился по щекам. Но больше всего их украшали узенькие, холёные, несколько фатовские усики. Невинное подражание шефу А. X. Бенкендорфу.
И вот надо представить, как шёл Пушкин, ещё не узнанный и в сопровождении, как бы разрезающий своим быстрым движением эту толпу. Отстранённо холодный он был? Или, наоборот, разгорячённый в предчувствии встречи, которая ещё неизвестно чем обернётся?
Он писал Плетнёву из Михайловского в январе 1826 года: «Что делается у вас в Петербурге? я ничего не знаю, все перестали ко мне писать. Верно, вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен – но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит. Надеюсь для них на милость царскую. Кстати: не может ли Жуковский узнать, могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение, я шесть лет нахожусь в опале, а что ни говори – мне всего 26. Ужели молодой наш царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее? – если уж никак нельзя мне показаться в Петербурге – а?»
И вот он шёл – нет, всё-таки его вели к молодому царю. От первого момента встречи многое зависело, Пушкин знал это за собой. Он был готов к открытому, спокойному разговору. Вымаливать что-либо он всё равно не мог.
У него были чёткие позиции, их ещё зимой он изложил в письме к Жуковскому:
«Всё-таки я от жандарма ещё не ушёл, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвинённых. А между ими друзей моих довольно. Теперь, положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Моё будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc.
...Прежде, чем сожжёшь это письмо, покажи его Карамзину и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать царю: Ваше величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?»
Он писал торопясь, перебеливая, надеясь на оказию. Что письма его на почте могут быть прочитаны, знал ещё с одесских времён. Он писал Жуковскому, во-первых, потому, что именно Жуковский и Карамзин могли напомнить о поэте, заточенном в своей глуши и уж перед новым царём вовсе не виноватом. Да и прежний не слишком ли был суров к двадцатилетнему? – так мог сказать кто-нибудь из них. И добавить: нынче Александр Пушкин остепенился совершенно, изменив прежним своим мыслям и поступкам.
Вот этого он и не хотел. Отношения его с правительством были только его делом. Подразумевалось некое джентльменское равенство сторон. Влиятельные же друзья могли, из самых лучших побуждений, наклонить его голову слишком низко.
Трудно мне судить, перехватывались ли все подряд письма Пушкина из Михайловского. Но, прочитав иные (а возможно, он и рассчитывал на то, что именно эти прочтут), правительство могло составить представление о нынешнем образе мыслей поэта. О плане его действий, об отношении к восставшим.
Декабрьские события, узнанные стороной, свидетелем коим он не был, занимают большую часть двадцать шестого года. В письмах к друзьям выстраивается программа, и я приведу выписки из них. Всё равно лучше Пушкина никто Пушкина не расскажет.
«...Конечно, я ни в чём не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам, но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции – напротив. <...> Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого, кроме его, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны.
С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародование заговора. Твёрдо надеюсь на великодушие молодого нашего царя».
Это писалось Дельвигу в феврале 1826 года.
Прасковья Александровна уехала в Тверь, и он остался один в этой заброшенности, которую вдруг опять почувствовал остро до слёз. Няня вязала свой бесконечный чулок, он подходил к ней, садился напротив, перебирая толстую нитку, сбегающую с клубка. Няня вглядывалась в него не одними только поблёклыми глазами – всем широким лицом. Улыбка у неё была виноватая. Он томился, и не ей было утешить его.
Весь день он тыкался из угла в угол, прислушиваясь к лёгкому шуму дома, к вою ветра, к стону старых стен. Будто за всем этим можно было услышать ещё и звуки дальней, недоступной жизни.
Вечером, когда через сени пронесли свежее, вымороженное бельё, на минуту показалось, запах его наполнил дом, как перед праздником. Праздник представился детским, давним, какого, скорее всего, и не было никогда. Дух морозной свежести, однако, выдохся столь же скоро, как мимолётные, им разбуженные надежды на то, что перемелется – мука будет... Ему не спалось. Несколько ночей подряд он выходил на широкий, занесённый снегом двор. Луна шныряла между облаков, всё неслось, всё торопилось в снежном, неприютном беге. Только он был на привязи.
Он смотрел в сторону Петербурга (так ему казалось) с досадой. Из писем, которые шли по почте, не много можно было понять. Жизнь, играя сама с собой в жмурки, катилась будто бы по привычной колее: в столице готовились новые альманахи, у него вышла и хорошо раскупалась первая книга стихов, следовало бы сразу же тиснуть «Цыган»; «Эда» Баратынского была прелестна. Карамзин болел тяжело, истаивал вместе с концом прежнего царствования. Гигантский труд его всё ещё оставался незавершённым, но Пушкин тосковал о человеке...
Пущин сидел в крепости, Кюхельбекер сидел в крепости. Дворовый пёс, лобастый и мохнатый, подошёл, заглянул в глаза, спрашивая:
– Тоскливо, брат? Такая тоска...
Но это он сам спросил и сам ответил, похлопывая по свалявшейся, забитой снегом почти волчьей шерсти. Потом пошёл к крыльцу, оглянувшись, позвал за собой собаку. Всё лучше было, чем одному сидеть перед огарком свечи или валяться в постели без сна, но зато с точным ощущением мёртвых, непреодолимых вёрст хоть до Петербурга, хоть до каких других мест, где – жизнь... Впрочем, не замерла ли она везде, и не только от морозов? Но, главным образом, от фельдъегерских пронзительных троек, скачущих по всем направлениям огромной державы, с тем чтоб до одного выловить, привезти в столицу под конвоем и в цепях осмелившихся на безрассудство.
В комнате ещё держалось тепло от вытопленной па мочь печки, пёс лёг, деликатно свернувшись у самого порога. Дремал, изредка открывая глаза, затем, чтоб узнать: а не пора ли восвояси? Не за то ведь ему служба шла, чтоб трясти блох на хозяйский ковёр. Или проверял, чем занят хозяин? Не хочет ли снова протянуть руку и сильно, ласково, так, что надолго запоминалось, потрепать по холке?
Хозяин сидел к нему спиной, не оглядываясь. Спина была понурая.
Пушкин писал Дельвигу: «Мне сказывали, что 20, т. е. сегодня, участь их должна решиться – сердце не на месте; но крепко надеюсь на милость царскую. Меры правительства доказали его решимость и могущество. Большего подтверждения, кажется, не нужно. Правительство может пренебречь ожесточение некоторых обличённых...»
Через много лет он скажет: и милость к падшим, призывал. Призыв в данном случае, как и во многих других, смахивал на указание пути.
Надо было бы и о себе напомнить царю. «Вопрос: невинен я или нет? но в обоих случаях давно бы надлежало мне быть в Петербурге. Вот каково быть верноподданным! забудут и квит. Получили ли мои приятели письма мои дельные, то есть деловые? Что ж не отвечают? – А ты хорош! пишешь мне: переписывай да нанимай писцов опоческих, да издавай «Онегина». Мне не до «Онегина». Чёрт возьми «Онегина»! я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите».
– А мне действительно всего двадцать шесть, – сказал он вслух голосом глухим и тихим. Палец его накручивал пряди тёмных кудрявых волос, глаза смотрели – не видя...
Чувство несправедливости того, что предлагала судьба, охватило его тягостным оцепенением. Нужны были действия, решения, но – какие?
Невнятно доходили новости из Петербурга. Фигура царя маячила в таком отдалении – ничего не разглядеть. Каков? Чего от него ждать России? Чего ему самому?
А главное, что будет с теми, кто недавно были его друзьями, товарищами, собеседниками? Теперь же назывались: государственные преступники?
Волчий тоненький вой наконец пробился сквозь пространство, сквозь двойные рамы и мысли о будущем.
...В марте он писал Жуковскому:
«Вступление на престол государя Николая Павловича подаёт мне радостную надежду. Может быть, его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».
Такое письмо можно было показать кому угодно из тех, кто близко стоял к царю, а то и ему самому. Но Жуковский хотел получить от него нечто, писанное в совершенно другой тональности. Что делать? В этом случае потрафить Жуковскому он никак не мог.
И наконец где-то между серединой мая и половиной июня он написал письмо царю.
«Всемилостивейший государь!
В 1824 году, имев несчастие заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства.
Ныне с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твёрдым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чём и готов обязаться подпискою и честным словом) решился я прибегнуть к Вашему императорскому величеству со всеподданнейшею моею просьбой.
Здоровье моё, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чём и представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие край.
Всемилостивейший государь,
Вашего императорского величества верноподданный
Александр Пушкин».
Была середина октября 1826 года, но дни стояли ясные, пронзительные. Когда он поднимался по бульвару, под ногами шуршали листья, ещё не тронутые тленом, почти нарядные. Дух от них шёл чистый, прелью не отдавали даже те, что лежали на самой земле. Земля, за ночь схваченная сахарной корочкой инея, была всё же податлива под ногами. Он поднялся на носки, пробуя её пружинящую мягкость, а когда прихлопнул каблуками, один разлапый весёлый лист взлетел высоко и прицепился к панталонам. Пушкин засмеялся ему.
Конечно, откуда ему было знать, что стоит он как раз на том месте, где потом ему поставят памятник с поникшей в раздумье головой. До памятника (даже до того, который он сам себе воздвигнет пером на бумаге) оставалось ещё много лет. И голова его была поднята к небу. Он боролся с неудержимым желанием снять шляпу и помахать вслед облакам, проплывающим над златоглавым, пестро изукрашенным городом.








