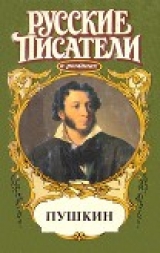
Текст книги "«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин"
Автор книги: Елена Криштоф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
Они оба тихонько хохотнули над странностью: из какого рая тянет душу в родные места. Через минуту Никита говорил уже другое:
– Я – что? Моё дело, как прикажут. За своего боюсь, неволя его скрутит...
– Ничего, нынче за битого – слыхал? – двух небитых дают не торгуясь.
– Заскучает...
– С нашими-то девками?
– А что ваши? Пригреют, приласкают, а через не делю – опять сирота. Один на белом свете, да под царской плёткой.
– Бедокур твой, бедовая голова, несносимая...
– А я что говорю? Здесь набедокурит, а защита где? Защита в Петербурге за картами сидит или в книги пишет... Называется Василий Андреевич Жуковский. Господин Карамзин – тоже[28]28
Защита в Петербурге за картами сидит или книги пишет... Называется Василий Андреевич Жуковский. Господин Карамзин – тоже. – Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) – поэт, один из ближайших друзей Пушкина. Видал его ещё ребёнком, бывая в доме родителей Пушкина и у дяди Василия Львовича. Навещал будущего поэта в Лицее. Рано оценил значение его творчества, ещё в 1815 г. заметив, что Пушкин – «это надежда нашей словесности». Также способствовал тому, что предполагаемая ссылка на Соловки была заменена его отправкой на юг. Позже Жуковский ходатайствовал перед царём о возвращении поэта из ссылки, о разрешении издания «Бориса Годунова» и т.д. Дружба связывала поэтов до последнего дня Пушкина. В числе самых близких людей Жуковский не покидал квартиры раненого до последнего его дыхания. Участие Жуковского в разборе бумаг Пушкина помогло сохранить его литературное наследие, поскольку царь намеревался сжечь «предосудительные» сочинения Пушкина. После смерти поэта Жуковский приложил все усилия для его «реабилитации» в глазах правительства. Добился пенсии для вдовы и детей, стал одним из опекунов над его семьёй и имуществом. Он также добился разрешения на продолжение «Современника» и издания Сочинений Пушкина. Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) – писатель, историк, автор «Истории государства Российского». Пушкин видел его ещё в доме своих родителей. Настоящее же знакомство и общение с семьёй Карамзиных началось в 1816 г. и продолжалось в Петербурге. В 1820 г. Карамзин принял ближайшее участие в облегчении участи поэта, которого собирались сослать на Соловки или в Сибирь, взяв с него слово два года ничего не писать против правительства.
[Закрыть].
Значит, так они о нём думали. Так предрекали. Смешно. Но смеха не получилось никакого. Ни вслух, ни внутри себя засмеяться не удалось. Только стало грустно. В который раз за сегодняшний день вспомнил: скоро уезжать. Скоро конец этим дням, через край наполненным шумом и блеском моря, сладостью виноградных ягод, солнцем, проникающим в кровь и высветляющим каждую былинку, шумом дождя, мгновенного и почти одушевлённого...
Всё было здесь хоть и стиснуто горами, а широко. Это шло от моря: Но, может, от характера главы семейства? А скорее всего, от его собственной молодости, от, его собственного восторга перед жизнью, но он этого не знал.
Сейчас, глядя на две сгорбившиеся тёмные фигуры у откоса, он, мгновенно сведя брови, подумал о Кишинёве, о том, что жизнь там будет другая, и не почувствовал к ней любопытства...
– Нашим что? – рассуждал кучер, ещё ниже наклоняясь понурыми плечами. – Сбились в кучу, и горя мало, за таким хозяином не пропадёшь. Весёлая жизнь. Твой – сирота...
– Рассуждай, рассуждай, – заворчал Никита, потянувшись за кисетом. – Сирота! А я при нём кто? – Голос у Никиты стал готовым к ссоре. – Сирота! Моему сироте твои генералы в рот заглядывают, умное слово ловят.
– Ты скажешь.
– Я скажу, а ты – соврёшь.
– Мне что? Моё дело сторона, а по человечеству – жалко.
И тут они разом толкнули друг друга плечами, не петушась уже, а, наоборот, примирённые: по человечеству – жалко.
Новое было в том, что он-то не вспыхнул, не возмутился, а принял эту жалость. И опять всем телом, не теперешним, детским, вспомнил руки с плоскими, широкими ногтями, воду, падающую из кувшина, и запах льняного полотенца, и первый снег под маленькими сапожками. Снег лежал также на плечах белых статуй в соседском саду, снег мел по всем лицейским аллеям, также и по Невскому... Россия – это был снег, и он сам был рад выбраться из заснеженной страны сюда, где небо становилось высоким и радостным сразу после дождя, где блеск, золотой, тёплый, почти осязаемый, лежал на всём и устраивал из жизни праздник. И в конце концов глупо, что те двое жалели его. И как глупо жалели! Будто мальчика, заблудившегося не то в лесу, не то на петербургской слякотной улице.
Пушкин одним прыжком перескочил через низкий куст на тропинку, ведущую к дому. Тропинка была шуршащая, весёлая, и громко, неистребимо кричала огромная, невидимая муха цикада...
В доме стучала посуда, позвякивали ложечки, горничные бегали в пристройку во дворе и обратно. Лунные блики лежали на больших медных кувшинах, стоявших у белой стены. Кувшины были устойчиво-широкие снизу и узкогорлые. Сейчас они напоминали таинственных маленьких человечков: присели на корточки и слушают, как кругло ворочается море или как цикады перепиливают синий, блестящий воздух.
Пушкин остановился в тени большого ореха в нерешительности. Возможно, сам того не понимая, хотел услышать теперь, из совершенно других уст, что-нибудь о себе. Голова бедовая, несносимая. По человечеству – жалко. Неужели и здесь было то же – сочувствие? Собственно говоря, он ведь и тосковал по сочувствию.
Даже, было, принял его там, у откоса, от двух немолодых крестьян, обездоленных – вот как выходило.
Отчего же сейчас сердце забилось, протестуя? Не дай Бог услышать, как Николай или, чего ещё не хватало, кто-нибудь из барышень обеспокоится его судьбой: а как же он, Пушкин, дальше? Как ему без нас? И добр ли Инзов? И нельзя ли хоть письмо к нему, и нет ли в Кишинёве кого, кто мог бы приютить...
Никем не произнесённые, им же выдуманные, ужасные эти слова жужжали в голове, перебивая цикад. Всё в той же тени, не решаясь из неё выйти, топнул ногой – раз, другой, лицо вдруг запылало, он возражал...
– Николай в седле тяжеловат, – сказал совсем другое генерал, и голос его разнёсся по всему двору. – Но конь – хорош. Вообще кони тамошние – что за прелесть. Копыто поставит – пятачок, там и козе тесно, а он вздрогнет только, не страх, Боже упаси, – тебя предупреждает и летит!
– Но Николай говорил: пропасти там – не здешним чета...
– «Николай говорил»! А как – иначе? Не обходить же! – Генерал голосом досадливо отмахнулся. – Я не о том. Доверие между конём и тобой удивительное. Ведь месяц всего тебе служит и знает, что месяц, а предан. Взаимность чувствует наподобие женщины или как дитя. Помнишь, Мари, как тебя вынесла та донская? Пряжка её звали?
– Пряжка...
– Александра надо подождать. Благополучно ли с ним? После дождя в горах опасно. Он в горы пошёл или к морю?
– Пушкин идёт, – вскрикнула Мария, когда он подошёл к ярко освещённой веранде. И все повернули головы к двери.
...А назавтра Мария показала ему удивительное: выпуклую, тугую и прозрачную оболочку. Цикады, оказывается, вылезали из собственной плоти, как змеи или раки. Он стоял, рассматривал огромную муху, вернее, слюдяной слепок с неё. Как вдруг подумал: Карлик, Карла, Нессельроде[29]29
Как вдруг подумал: Карлик, Карла, Нессельроде… – Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862) – граф; управляющий Коллегией иностранных дел, в 1816 – 1856 гг. министр иностранных дел. Встречи его и Пушкина происходили в 1817 – 1824 гг. и 1831 – 1837 гг., когда поэт служил под его начальством. Нессельроде зачислял Пушкина в Коллегию иностранных дел, переводил его на юг в канцелярию И. Н. Инзова, исключал со службы, высылал в Михайловское и т. д.
[Закрыть]!
Мария сухим стебельком травы дотронулась до мухи. Пощекотала её, как живую. Потом повернула детское круглое лицо, засмеялась глазами, спрашивая: страшно?
– В Элладе вашей небось таких тьма была? На каждой ветке сидели. Представляете?
Она часто как бы дразнила его Элладой.
– Представляю. – Пушкин обошёл куст, разглядывая маленькое чудовище. – В Элладе не встречал, а в Петербурге есть один, чуть побольше...
– Кто же? – Девочка сделала такое лицо, будто без слов обещала хранить тайну.
– Карлик один, недоброжелатель.
Теперь и у него в руках была травинка, он ею обводил контуры мухи, как бы сравнивая: голову, насаженную прямо на плечи, общую кургузость, брюшко. Даже лупоглаз был Нессельроде; вытаращенно, вроде этой мухи, смотрел на мир. И перетянут так же (в надежде казаться стройным, что ли?) был статс-секретарь Коллегии иностранных дел, правая рука императора Карл Нессельроде.
– Александр Сергеевич, что же карлик? – напомнила Мария.
– О, карлик вполне договорился с царём тех мест! Царю нравилось, что он такой высокий, когда стоит рядом с карликом. А карлику нравилось, что он стоит рядом...
– А царь тех мест был добр?
Неужели она действительно приготовилась слушать сказку? Так мала?
– Царь тех мест был тучен. Но красив, – добавил он, подумав. – Своему карлику не чета. Ещё царь был забывчив на обещания. А обид не забывал...
Пушкин замолчал, задумался.
Чуть ниже пустого мундирчика, недавно ещё облегавшего тучное тельце, висела большая, начинающая краснеть ягода. Девочка протянула к ней руку, улыбаясь, как будто понимала, о чём он думает. Ничего она не понимала, не могла понять, просто не дано ей было понять той, другой его жизни. И никому из милых, образованных – он даже соглашался – умных барышень не дано было понять.
Ссылка... Перед самим собой, а ещё больше перед сыновьями и дочерьми Раевского принимался вид: изгнанник-то он – добровольный. Просто так взял и покинул Петербург ради краёв романтических.
– Александр Сергеевич, у вас глаза грустные... Отчего?
Вопрос был необыкновенен, а более всего голос, каким спрашивала Мария, почти ещё и не барышня – ребёнок, если не по годам, то именно потому, что могла задать подобный вопрос и смотреть также без жеманства.
– Привык к семейству вашему, а разлука не за горами...
– Как раз: за горами. – Она засмеялась собственному удачному слову. Розовая, батистовая, мелко вышитая по краю косынка соскользнула е плеча, повисла на ветке шиповника. Когда они выручали эту косынку, всё более цеплявшуюся за острые шипы, пальцы их сошлись в мгновенном прикосновении. Покраснели оба. Косынка же продолжала висеть, и Пушкин теперь взялся за дело сам.
Куст отпускал косынку неохотно, пружинился, тянулся. И когда борьба кончилась, оказалось: ветка пуста, огромной мухи или же, наоборот, маленького карлика на ней нет. И к лучшему! Не стоило вспоминать Нессельроде и с ним связанное в этих краях, где всё было – радость и отдохновение. В краях, где он очутился – конечно же по собственному желанию, – подавней тоске увидеть непохожее, хотя бы ту же, слегка перекроенную временем Элладу. В краях, где над горами в утреннем и вечернем тумане появлялась вот эта звезда, сиявшая сначала едва приметно – как теперь.
– Веспер, пастушья звезда, – объяснил он, любуясь вниманием Марии. – С её восходом выгоняли стада. И ждали с пастбищ вот в этот час...
– В Элладе?
– В Элладе.
– И здесь тоже, я видела, Ленту гонят в горы как раз на эту звезду. Выйдет Муса из сарая, посмотрит, поднялась ли до той ветки, и гонит. – Тоненькая ручка, обнажаясь до локтя, показывала на дерево.
Такой он её и запомнил навсегда, хотя потом встречал ещё много раз в своей подвижной и непредсказуемой жизни.
Такой он её запомнил вместе с кустом шиповника, вместе с глинистой, жаркой, почти оранжевой тропинкой и пушистым снопом травы, лезущим вверх из расселины в светлом теле скалы...
И ещё он запомнил боль. Он почувствовал эту боль, подумав о своей другой жизни, где он не был ни спутником, ни другом, ни весёлым молодым человеком, склонным к шутке и выходке. Ни даже поэтом, автором многих стихов, переписанных и затверженных наизусть не одними только барышнями. В той жизни он пребывал ссыльным, поднадзорным, наводнившим богоспасаемый Петербург возмутительными строчками.
ПУШКИН И АЛЕКСАНДР I
I

 накомство с царями началось чуть не с младенчества.
накомство с царями началось чуть не с младенчества.
Он гулял с Ариной по тихому бульвару спотыкливым шагом увальня[30]30
Он гулял с Ариной по тихому бульвару... – Яковлева Арина Родионовна (1758—1828) – крепостная бабушки Пушкина М. А. Ганнибал, няня Пушкина.
[Закрыть], как вдруг почувствовал: всё изменилось. К нему приближался гнев. Может быть, по тому почувствовал, как напряглась и одеревенела рука няньки. А может, увидел очень высокие, очень блестящие сапоги на тонких ногах. Вокруг него сразу оказалось много сапог, но те – тонкие – притопывали особо.
Он дёрнул Арину за руку – уйти. Кто-то стащил с него картуз, голоса были неразборчивы. Он закинул голову: гнев смотрел на него как бы не одними глазами, ноздрями – тоже. И глаза и ноздри были круглы, темны...
На этом приключение кончилось. Родители узнали о нём из рассказа няньки. А он помнил не только то, что пересказывали родители. Приключение приобрело особый вес, особый смысл и стало одним из главных гостевых разговоров, когда Павел I внезапно скончался. От апоплексического удара. Цену этому удару знали, положим, все вокруг[31]31
...когда Павел I внезапно скончался. От апоплексического удара. Цену этому удару знали, положим, все вокруг... – Павел I (1754—1801) – российский император с 1796 г., сын Петра III и Екатерины II. Ввёл в государстве военно-полицейский режим, отличался жестокостью, подозрительностью, самодурством, что вызвало недовольство его приближённых. Был убит в результате заговора.
[Закрыть]...
Нового царя он увидел в день открытия Лицея. На его взгляд, царь оказался не так уж молод. И вовсе не брав. Мундир его к тому же был тише всех других мундиров, Александр Павлович присутствовал на торжестве семейно и не очень охотно. Пушкин это сразу заметил: царь скучал и сидел в креслах с внимательным видом, потому что так надо. Удары рук его ладонь о ладонь были снисходительно-бесстрастны.
Царя в родительском доме звали: то наш ангел, то просто он, проговаривая это слово с особым значением. Наш ангел приезжал в старую столицу, танцевал в благородном собрании, умел достойно ответить Буонапарту. Он проигрывал сражения, например, так глупо – при Аустерлице, ничего не понимал в преимуществе старых родов перед выскочками. Выскочки постепенно оттесняли от него достойных. К тому же царь забывал выполнять обещания. Иногда об этом говорилось так, будто обещания царь давал кому-нибудь из частых гостей. Или лично Сергею Львовичу[32]32
Или лично Сергею Львовичу. – Пушкин Сергей Львович (1770—1848) – отец А. С. Пушкина. В 1796 г. капитан-поручик лейб-гвардии егерского полка, в 1800 г. – в комиссариатском штате в Москве, в 1811-м – военный советник, в 1814-м – начальник комиссариатской комиссии резервной армии в Варшаве. С 1817 г. в отставке. Был тесно связан с литературными кругами, встречался с Д. И. Фонвизиным, К. Н. Батюшковым, Н. М. Карамзиным и др. Воспитанием детей он не занимался, что привело к взаимному отчуждению. С 1814 г. переехал в Петербург. В послелицейский период Пушкин жил в отчем доме. У него не было близости с отцом, однако в последние годы жизни поэта их отношения улучшились.
[Закрыть]. Вся лёгкая, подпрыгивающая фигура отца выражала тогда обиду неподдельную. Он раскидывал руки от локтей в стороны и смотрел на собеседника светлыми непонимающими глазами. Глаза у отца были в ресницах, уже смоченных близкой слезой. Впрочем, через минуту он опять становился: император, его величество или аже ангел, а виноваты – теснящиеся. Тесниться Сергею Львовичу не позволяла гордость – так он говорил.
Домашние отзывы о царе были противоречивы, и мальчик, в первый день Лицея наблюдавший за ним не без любопытства, мог только отметить, что царь потускнел рядом с тем, каким его рисовало воображение. Он также нисколько не был похож на того, в гневе и высоких ботфортах, который велел няньке снять с него картуз.
Но даже такой, вроде бы не похожий на царя, царь был средоточием всего, что происходило во время торжества. Сам министр Разумовский[33]33
Сам министр Разумовский... – Разумовский Алексей Кириллович (1748—1822) – граф; в 1810—1816 гг. министр народного просвещения. Участвовал в организации и управлении Царскосельским лицеем.
[Закрыть] с шеей, от презрительности надвинутой на жабо, полинял. Запинался и проваливался голосом директор Лицея Малиновский[34]34
...директор Лицея Малиновский. – Малиновский Василий Фёдорович (1765—1814) – первый директор Царскосельского лицея (1811 – 1814), дипломат, литератор. Оказал определённое влияние на воспитание Пушкина, что сам поэт отмечал в «Программе автобиографии».
[Закрыть]. Молодой плечистый профессор Куницын[35]35
Молодой плечистый профессор Куницын... – Куницын Александр Петрович (1783—1840) – адъюнкт-профессор нравственных и политических наук в Царскосельском лицее. О нём Пушкин упоминает в «Программе автобиографии». Куницын единственный из учителей, кого Пушкин вспоминал с благодарностью и уважением, чьими лекциями восхищался.
[Закрыть] старательно обращался только к ним, мальчишкам, которых и поучал звонким, слишком звонким голосом... Да и его собственный взгляд сам собой косил в сторону бледного, ничего кроме снисходительной приветливости не выражающего лица.
Потом началась новая война с Наполеоном. Тут всё приобрело другую меру, другую окраску.
Был восторг, когда они глядели на гусар, казавшихся им почти ровесниками. Разница лет стиралась в воображении, во всяком случае не представлялась препятствием. Они смотрели зачарованно: их собственное будущее уходило от них, иногда оглядываясь, беззаботно подмигивая, отнимая всякую надежду на возможность соучастия. Между тем сердца разрывались от реляций, от слухов, от самой этой зыблющейся ленты исчезающего в тумане войска. Их могли забыть: фортуна, муза истории Клио, а всего вернее – начальство, хотя делались приготовления к отъезду куда-то дальше, в глушь, и, может быть, на простых телегах...
Вслед за гусарами, уланами, драгунами шли ратники. У них были тяжёлые, отчуждённые лица, как у лицейских истопников, как у мужиков, копавших канаву за розовым полем, как у тех крестьян, каких они видели у себя в деревнях, если кто имел деревни. Ратники были народ – Россия. Это понималось не по насупленным взглядам или бородам. Это понималось, скорее, по тому, как они шли плотно, тяжело и бесконечно; сама земля, отвечая их шагу, эхом вздрагивала под ногами у лицейских.
Никакого тумана с утра не было в первый день их движения, и под ясным небом серая, непрерывающаяся лента манила за собой ещё тревожнее, чем нарядные строи гусар. Что-то последнее чудилось в непривычном облике ратников, даже пыль, поднимаемая ими, была гуще, тяжелее.
Рядом с Пушкиным тонкий от ненатуральной бодрости голос произнёс:
– Двунадесят языков ведёт! А ведь споткнётся о нашего дядю, лоб себе расшибёт, тиран и супостат.
Пушкин кусал губы, представлял, как повернулась бы жизнь, родись он пятью годами раньше. Ненатуральный голос бесил особенно, ногти впивались в ладони. Вильгельм Кюхельбекер плакал по ночам в обиде за Россию, в обиде на хлипкое своё сложение, в обиде на маменьку, со всей доброй строгостью приказавшую продолжать ученье. От маменьки пришло также письмо, которое он читал лицейским. В письме говорилось, что слухи о Барклае де Толли опрометчивы и злы, он ни в коем случае не изменник, но человек несчастливой судьбы, не понятый, не оценённый.
Кюхельбекера слушали, высоко поднимая брови... (Трудно сказать, что думал о Барклае мальчик Пушкин в 12-м году. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы тут же прочли стихотворение «Полководец», написанное в году 1835-м. Я приведу из него только четыре строки:
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведёт в восторг и в умиленье!
Это ведь не только о полководце, не получившем должного признания. Это и о себе сказано).
...Шум движущегося войска сопровождал лицеистов в утренних прогулках, в ночных снах. Однажды такой же, как все, на своём сосредоточенный казак, сидевший в седле вовсе не без щегольства, оглянулся на них и крикнул:
– Что, соколики, носы повесили? Не боись: выручим!
Он крикнул это, уже отъехав порядочно, оборачиваясь, перегибаясь с лошади, как будто за тем, чтоб быть ближе к ним:
– Выручим! А вы всё одно: не поспели ещё, по домам идите. Там позовут...
Пущин поёжился плечами, засунул руки в карманы:
– Война долгая будет, неужели же не позовут?
Карьера именно военная была для него решена и не в эти дни.
Пушкин стоял рядом нахохлившись. Всё было смутно в душе.
В актовом зале им читали правительственные сообщения о ходе войны и, наконец, самое страшное: о том, что неприятель сентября 3-го числа вступил в Москву. Они стояли (или им так казалось?) ближе друг к другу, чем всегда. Не ломая линию, но будто бы сбившись в кучку: голос Куницына вздрагивал, как ни пытался тот придать ему достойной твёрдости:
– Сколь ни болезненно каждому русскому слушать, что первопрестольный град Москва вмещает в себе врагов Отечества своего, но она вмещает их в себе, пустая, обнажённая от всех сокровищ и жителей. Гордый завоеватель надеялся...
Пустая Москва – это было невозможно. Мальчик перевёл дыхание так громко, что сам испугался. Москва вспоминалась именно полной, тесной от густой пестроты жизнью. Он посмотрел на Куницына, на лист бумаги в его руках: лист вздрагивал, по щеке профессора медленно, будто горошина прокатилась под кожей, прошла судорога.
– ...но он обманется в надежде своей и не найдёт в столице сей не только способов господствовать, ниже способов существовать...
Их собирали в дорогу, готовили грубую тёплую одежду, ждали телег, каких-то окончательных распоряжений. Между тем он всё думал о Москве. Москва горела, французы бежали, покидая её бесславно. Их никуда не повезли, они не изведали другой жизни, суровой, с настоящими лишениями, с заснеженными пустынями, через которые им предстояло пробираться из отрочества в юность, в причастность. В актовом зале они теперь стояли, чуть ли не поднимаясь на цыпочки, будто за то время, пока читалась реляция Кутузова, могли подрасти:
– Храбрые победоносные войска! Наконец вы на границах империи. Каждый из вас есть спаситель Отечества! Россия приветствует вас этим именем. Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идём теперь далее. Перейдём границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его.
На них с весёлого, торжественного портрета смотрел император. У него было совсем молодое, не сомневающееся лицо с ямочкой на подбородке. И на портрете – для них во всяком случае – он был гораздо больше похож на самого себя, чем тот слегка усталый господин, скучавший на торжественном открытии Лицея.
Теперь они, горячась до пота, до толкотни локтями, рассказывали друг другу о нём, что знали и чего не знали. А также о том, чего вовсе не было и быть не могло. Эти издержки восторга не ими одними порождались, они только разделяли настроения общественные. В это время для Пушкина Александр был полнощи царь младой!
Он воображал Александра чаще всего в быстром, но благородном движении. Армия неудержимо, как само возмездие, шла по Европе, царь был во главе её. Он воображал царя на коне, а вокруг были синие дымы, как на любой батальной картине. Вдали же различались маленькие фигурки, чуть ли не в лицейских мундирчиках. Сердце ухало и замирало от зависти... Иногда ему даже снилась тоска – невозможность побежать, вскочить на коня, пришпорить, ощущая сопротивление ветра, дующего в лицо, и весёлое ёканье в утробе коня.
Когда снилась Москва, дым был красный, настоящий, он до слёз выедал глаза. И пахло так, как однажды в детстве, когда в дымоходе вспыхнула сажа. Сонного, его вытащили тогда из постели в крике, в метании, в ужасе. Чёрные лоскутья сажи от московского пожара, казалось, долетали сюда, до прохладных, чистых лицейских садов. Во сне всё было возможно. Над крестами взлетали и кружились галки. Тоже – чёрные.
...Мне не судил таинственный предел
Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!
Стихотворение было заказано Пушкину на случай возвращения государя-императора из Парижа. Оно предназначалось для торжественной встречи, должно было быть прочитано при церемонии, однако Александр пышные торжества отменил.
Вполне победитель, имеющий случай потешить своё самолюбие, он отказался от эффектного явления толпе. Почему? Он возвращался не поправшим врага – это был не его образ. Он явился с радостным, скромно разгорячённым лицом человека, принёсшего долгожданный мир вконец обескровленной Европе.
Так видел он себя, так должны были видеть все. И видели, пока не стала очевидна роль Священного Союза.
Таким он был нарисован и в стихотворении Александра Пушкина, всего лишь неприлежного лицеиста в отроческом мундирчике. Из рукавов длинно высовывались узкие руки...
Однако кто бы мог справиться с задачей лучше?
...И ветхую главу Европа преклонила,
Царя-спасителя колена окружила
Освобождённою от рабских уз рукой,
И власть мятежная исчезла пред тобой!..
У тех, кто читал стихи, чтоб определить, достойны ли, в уголках старческих глаз набегала медленная, сладкая слеза:
– Мальчишка! Но как проникнулся! Как!








