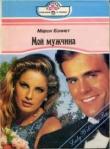Текст книги "Система потоковой передачи: Сборник рассказов Джеральда Мёрнейна"
Автор книги: Джеральд Мернейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
Человек, о котором я читаю сегодня, не интересуется цветом почвы. Он хочет быть уверен, что коренная порода глубока и целостна настолько глубоко, насколько он может себе представить. Он верит в мир, состоящий из бесчисленных слоёв, большинство из которых невидимы, и верит, что разлом в любом из слоёв влияет на все остальные. Он считает, что то, что некоторые называют его психическим заболеванием, – это разлом в одном из тонких, невидимых слоёв мира примерно на уровне его головы. Он считает, что главная причина этого разлома – ужасная трещина в коренной породе далеко внизу.
Мужчина, о котором я пишу, – персонаж художественного произведения, но женщина, написавшая его, – живая женщина, которая морщит лоб, когда пишет или читает. Ещё совсем недавно эта женщина была со мной в этом доме, но теперь её нет, и я не надеюсь увидеть её снова.
Женщина с морщинами на лбу ушла из дома, потому что уже прочитала то, что я пишу. Сегодня утром женщина подошла к моему столику, пока я сидел на склоне холма, разглядывая лиловую гарденбергию и перебирая пальцами коричневатые, пылевые камни. Женщина прочитала мои страницы и поняла яснее, чем я понимаю, зачем я их пишу. Затем она оставила мне сообщение – ясное, недвусмысленное, не закодированное в прозе и, следовательно, серьёзно нарушающее правила Уолдо. А затем женщина передала все свои бумаги и черновики ответственному автору и покинула этот дом.
* * *
Чтобы закончить этот рассказ, мне достаточно было бы написать, что после ухода женщины я отправился на поиски её послания и нашёл его в самом очевидном месте – в ближайшем к библиотеке месте в этом доме. Осталось бы добавить, что один том на жалкой книжной полке художника был странно сложен, словно привлекая к себе внимание…
Книга называется «Беренис Эбботт: шестьдесят лет фотографии» Хэнка О’Нила с предисловием Джона Канадея, издана издательством Thames and Hudson в 1982 году. На передней стороне суперобложки – яркая фотография Джеймса Джойса в возрасте сорока шести лет. На его пальцах отчётливо видны два кольца. На внутренней стороне обложки шариковой ручкой написано имя Нора Ли. У матери моей матери была точно такая же фамилия, но у неё не было книг. В конце книги я нашёл фотографию места под названием Стонингтон, что на острове у побережья штата Мэн.
* * *
Или, может быть, закончу этот рассказ, сказав, что меня всегда привлекали писатели, которые чувствовали угрозу своему разуму. Когда в 1960 году я читал биографию Джойс, написанную Ричардом Эллманном, я внимательно изучал описание безумия его дочери. Мне было интересно, сможет ли Джойс, как он утверждал, уследить за стремительными скачками её мысли.
Однажды вечером в октябре 1960 года я пил в доме человека, который хвастался, что его приветствуют в домах известных художников, расположенных в холмах к северо-востоку от Мельбурна. Поздно вечером, когда мы оба были очень пьяны, он отвёз меня в своём универсале (это была служебная машина, на которой он ездил как торговый представитель) сначала в Элтэм, а затем по холмистым проселочным дорогам к самому странному зданию, которое я когда-либо видел. Позже я узнал, что это место называлось Монсальват, но в ту тёмную ночь 1960 года человек, который меня туда отвёз, сказал мне только, что это поселение художников. Позже я также узнал, что человека, которого я встретил в каменном замке, звали Юстус Йоргенсен, но меня представили ему только как Художника.
Художник имел бы полное право выгнать нас из своего дома, но он впустил нас и обращался с нами очень вежливо. Мы проговорили, должно быть, час, но всё, что я помню, – это то, как я узнал, что Художник был в Париже в 1920-х годах; как я спросил, видел ли он когда-нибудь Джеймса Джойса; как он мне сказал…
что он видел; мой вопрос, видел ли он когда-нибудь дочь Джойс, Люсию, и не показалась ли она ему какой-либо странной; его рассказ о том, что Люсия Джойс была красивой молодой женщиной, не имевшей никаких недостатков, которые он мог бы заметить.
* * *
Я мог бы закончить это произведение одним из двух способов, описанных выше, но, конечно же, не сделал этого. Я связал свою судьбу с Уолдо. Если я и писатель, то писатель Уолдо. Если то, что я пишу, и основано на какой-либо связной теории, то это доктрины, придуманные теми, кто смотрит в туман и бормочет названия островов на чужом краю своей страны.
Итак, всецело доверяя мудрости Уолдо и отмечая, что солнце вот-вот опустится за слабое пурпурно-коричневое пятно, представляющее собой северные пригороды Мельбурна, увиденные из каменного дома художника, расположенного далеко к востоку от моего собственного дома, я заканчиваю, или готовлюсь закончить, это художественное произведение.
* * *
Вся проза, написанная мной в каменном доме, была зашифрованным посланием для некоей женщины. Чтобы передать это послание, мне пришлось представить себе мир, в котором этой женщины не существует, как и меня. Мне пришлось представить мир, в котором местоимение « я» обозначает мужчину, способного представить мир, в котором не существует его самого, а представить его мог только человек, погрязший в теориях Уолдо.
Драгоценный Бэйн
Впервые эта история пришла мне в голову в один моросящий дождливый день в букинистическом магазине в Прахране. Я был единственным покупателем. Хозяин сидел у двери и смотрел на дождь и бесконечный поток людей. Казалось, он только этим и занимался весь день. Я часто проходил мимо магазина и попадался на глаза мужчине; и в тот момент, когда мой взгляд пересекался, я чувствовал, каково это – быть невидимым.
В тот дождливый день я впервые оказался в магазине этого мужчины. (Я покупаю много подержанных книг, но по каталогам. Магазины подержанных книг вызывают у меня недовольство. Даже чтение каталогов достаточно неприятно.)
Но подержанные книги, которые я покупаю, меня не огорчают. Доставая их из пакетов и раскладывая на полках, я говорю им, что наконец-то они нашли себе достойное пристанище. И я часто предупреждаю своих детей, чтобы они не продавали мои книги после моей смерти. Моим детям не обязательно читать эти книги, но они должны хранить их на полках в комнатах, где люди могли бы иногда на них заглядывать или даже немного подержать их в руках и размышлять о них.) Мужчина взглянул на меня, когда я вошёл в его лавку, но потом отвёл взгляд и продолжал смотреть. И всё время, пока я рылся в его книгах, он ни разу не взглянул на меня.
Книги были разложены небрежно, покрыты пылью и заброшены. Некоторые были свалены на столах или даже на полу, хотя их можно было бы легко поставить на полки, если бы продавец позаботился навести порядок в своей лавке. Я осмотрел раздел «ЛИТЕРАТУРА». В руке у меня была одна из тех книг, которые я называл «своими книжными покупками».
блокноты. Это был блокнот с надписью «1900–1940… Несправедливо забытый» .
Сорок лет, охваченных блокнотом, были не просто первыми сорока годами века. Записанные как «1940–1900», они были первыми сорока годами с года моего рождения до времени, которое я считал Веком Книг. Если бы моя жизнь сложилась так, я бы сейчас не прятался от дождя на кладбище книг, а рассматривал бы стены за стенами томов в кожаных переплётах в своём особняке в городе книг. Или сидел бы за своим столом, писатель в расцвете своих сил, глядя сквозь высокие окна на парковый пейзаж в книжной деревне, ожидая, когда же придёт в голову следующее предложение.
Я собрал четыре или пять названий и отнёс их зеваке. Пока он сверял цены, написанные карандашом на первых страницах, я смотрел на него исподлобья. Он был не так стар, как я думал. Но его кожа была серой, напоминавшей мне об алкоголе. Печень у книготорговца почти сгнила, сказал я себе. Бедняга – алкоголик.
В те дни я считал, что сам становлюсь алкоголиком, и постоянно замечал признаки того, как буду выглядеть через двадцать, десять лет, а то и раньше. Если книготорговец замариновал свою печень, то я понимал, почему он так часто сидел и смотрел. Он весь день страдал от того же настроения, которое накатывало на меня каждое воскресенье после полудня, когда я пил по сорок восемь часов подряд и наконец-то останавливался, пытаясь протрезветь и начать читать четыре страницы художественной литературы, которые должен был дочитывать каждые выходные.
В воскресный вечер я обычно бросал попытки писать и осматривал книжные полки. Перед наступлением ночи я обычно решал, что в 1980 году писать прозу в моём стиле нет смысла. Даже если мою работу наконец опубликуют, и несколько человек будут читать её несколько лет, чем всё это закончится? Где будет моя книга, скажем, через сорок лет? К тому времени её автора уже не будет, чтобы расследовать этот вопрос. Он отравит последние клетки своего мозга и умрёт задолго до этого. Из тех немногих экземпляров, которые действительно были куплены, ещё меньше будут стоять на полках. Из этих немногих ещё меньше будут открывать или даже просто просматривать по мере того, как проходили недели и месяцы. А из тех немногих, кто всё ещё жив и действительно читал книгу, сколько ещё кто-то вспомнит хоть что-то из неё?
В этот момент моих размышлений я представлял себе сцену из 2020 года. Это был воскресный день (или, если бы рабочая неделя сократилась настолько,
Прогноз погоды (понедельник или даже вторник, полдень). Кто-то, смутно похожий на меня, человек, потерпевший неудачу в том, что больше всего хотел сделать, стоял в мрачных сумерках перед стеной книжных полок. Он сам этого не знал, но, как оказалось, он был последним человеком на планете, у которого сохранился экземпляр некоей книги, написанной серыми воскресными вечерами сорок лет назад. Этот человек когда-то действительно читал эту книгу, за много лет до того дня, когда он искал её на полках. И более того, он всё ещё смутно помнил что-то об этой книге.
Нет слова, чтобы описать то, что помнит этот человек, – оно так смутно, так едва различимо среди других его мыслей. Но я останавливаюсь (в своих собственных мыслях, как и многие воскресные дни), чтобы спросить себя, что именно из моей книги до сих пор хранится у этого человека. Я успокаиваю себя тем, что то, что он смутно помнит, должно быть, немного отличается от всех остальных смутных «нечто» в его памяти. А затем я думаю о мозге этого человека.
Я очень мало знаю о человеческом мозге. Во всех трёх тысячах моих книг, вероятно, нет ни одного описания мозга. Если бы кто-то подсчитал в моих книгах частотность существительных, обозначающих части тела, слово «мозг», вероятно, получило бы очень низкий рейтинг. И всё же я купил все эти книги, прочитал почти половину из них и защищал своё чтение, потому что верю, что мои книги могут научить меня всему, что мне нужно знать о том, как люди думают и чувствуют.
Я свободно размышляю о мозге человека, стоящего перед книжными полками и пытающегося вспомнить: пытающегося (хотя он этого и не знает) спасти последний след собственного письма – спасти свою мысль от угасания. Я знаю, что это моё мышление в каком-то смысле ложно. Но я всё равно доверяю своему мышлению, потому что уверен, что мой собственный мозг помогает мне думать; и я не могу поверить, что один мозг может так сильно ошибаться относительно другого.
Я представляю себе мозг этого человека состоящим из множества клеток. Каждая клетка подобна келье монаха в картезианском монастыре, окружённой высокими стенами, и небольшим садиком между передней стеной и входной дверью. (Картезианцы почти отшельники; каждый монах принадлежит к монастырю, но большую часть дня проводит за чтением в своей келье или выращиванием овощей в своём огороженном стеной огороде.) И каждая клетка – это хранилище информации; каждая клетка битком набита книгами.
Некоторые книги в тканевых переплётах с бумажными обложками, но большинство – в кожаных. И рукописей гораздо больше, чем книг. (Мне трудно
представляя себе рукописи. В одной из моих книг – в моей комнате, в серый воскресный день – есть фотографии страниц иллюминированной рукописи. Но интересно, как бы выглядела коллекция таких страниц и как бы она была переплетена. И я понятия не имею, как бы хранилась коллекция таких переплетённых рукописей – лёжа, друг на друге?
на боку? Вертикально, рядами, как книги в тканевых переплётах на моих полках? Интересно, какая мебель подойдёт для хранения или демонстрации рукописей.
Итак, хотя я вижу, как каждый монах в своей келье тянется к полке с книгами более поздних времён, когда мне хочется представить, как он роется в огромной части своей библиотеки, я вижу лишь серость: серость монашеской рясы, каменных стен кельи, послеполуденного неба за маленьким окном и серость размытых и непонятных текстов.) В мире очень мало картезианских монахов – я имею в виду мир за моим окном и под серым небом в воскресный день. Но когда я это говорю, я лишь повторяю то, что сказал мне один священник в средней школе почти тридцать лет назад, когда я мечтал стать монахом и жить в библиотеке с небольшим садом и стеной вокруг. Помимо расплывчатого ответа священника, единственная информация о картезианском ордене, которую я знаю, получена из статьи в «English Geographical Magazine» . Но эта статья была опубликована в 1930-х годах, примерно в то время, когда я учился читать в другой жизни, ведущей к Веку книг. Сейчас я не могу посмотреть статью, потому что все мои старые журналы завернуты в серые пластиковые мусорные пакеты и хранятся под потолком. Три года назад я хранил их там вместе с четырьмястами книгами, которые больше никогда не прочту – мне нужно было больше места на полках для последних книг, которые я покупал.
Главное, что я помню об этой статье, – это то, что она состояла из одного текста и ни одной фотографии. Сейчас « Geographical Magazine» наполовину заполнен цветными фотографиями. Иногда я пропускаю краткие, жаргонизированные тексты статей и нахожу всю необходимую информацию в подписях под фотографиями.
Но в журналах 1930-х годов (в сером пластиковом пакете, в сумерках под потолком у меня над головой) было много статей без единой иллюстрации. Я представляю себе авторов этих статей книжными парнями в твидовых костюмах, возвращающимися с прогулок среди живых изгородей, чтобы сесть за столы в библиотеках и писать (авторучками и с редкими зачеркиваниями) великолепные эссе, восхитительные статьи и приятные мемуары. Я ясно вижу этих писателей. Я хорошо их знал.
в годы моей юности, когда прошли 1920-е и впереди маячила Первая мировая война. Когда эти господа-писатели отправляют редакторам свою беллетристику , они не включают в нее никаких иллюстраций. Господа на самом деле хвастаются тем, что не умеют пользоваться фотоаппаратами, граммофонами или другими современными гаджетами, и их читатели любят этих господ за их очаровательную чудаковатость. (Я никогда не учился пользоваться фотоаппаратом или магнитофоном, но когда я рассказываю об этом людям, они думают, что я принимаю позу, чтобы привлечь к себе внимание.) Я не думаю, что картезианцы возражали бы, если бы джентльмен-писатель сделал несколько фотографий их монастыря, поэтому я предполагаю, что автор статьи доверял его словам и предложениям, чтобы ясно описать то, что он видел. Монастырь находился в Суррее, или, возможно, в Кенте. Это меня разочаровало. Когда я впервые прочитал статью, я уже не мечтал стать монахом, но мне нравилось мечтать о монахах, живущих как отшельники в отдаленных местах; А Суррей или Кент были слишком густонаселёнными, чтобы мечтать о мирных библиотеках. Единственный топоним, который я помню из статьи, – Паркминстер. Я только что заглянул в свой «Атлас мира» издательства Times и не нашёл Паркминстера в указателе. (Пока я искал, смутно припомнил, что искал это слово не раз и с тем же результатом.) Следовательно, Паркминстер – это деревушка, слишком маленькая, чтобы её можно было отметить на картах; или, возможно, сам монастырь называется Паркминстер, и монахи попросили автора не упоминать никаких топонимов в статье, потому что не хотели, чтобы любопытные туристы пытались заглянуть в их кельи.
Но, в любом случае, статья была опубликована в 1930-х годах, и, насколько мне известно, картезианцы, их кельи и само слово «Паркминстер» могли кануть в Лету Монастырей, и я, возможно, единственный, кто помнит их или, по крайней мере, то, что о них когда-то писали.
Но когда я думаю о человеке, тянущемся к своим книжным полкам, в серый полдень 2020 года, я вижу широкие гравийные дорожки с деревьями над ними: целые районы дорожек с кельями вдоль дорожек, и в каждой келье – монах, окруженный книгами и рукописями.
Мужчина у книжных полок – последний, кто помнит мою книгу – не только не помнит, что он когда-то читал в моей книге, но и не может вспомнить, где в последний раз видел её на полках. Он стоит и пытается вспомнить.
Мирянин идёт по аллее своего монастыря. Миряне связаны торжественными обетами в монастыре, как и другие монахи, но их обязанности
И привилегии несколько иные. Мирянин не так уж ограничен своей кельей. Каждый день, пока монахи-священники в своих кельях читают, или читают богослужение, или ухаживают за садом, миряне трудятся на благо монастыря в целом: принимают послания и наставления и даже, в ограниченной степени, общаются с внешним миром. Каждый мирянин знает, как добраться до какого-то пригорода монастыря; он знает, какой монах живёт за какой стеной в его конкретном районе. Мирянин даже в общих чертах знает, что хранят монахи-отшельники в своих библиотеках: какие книги и рукописи они читают в течение дня. Мирянин, имея в своём распоряжении лишь несколько книг, представляет себе книги и библиотеки в удобном, кратком смысле. Он учится полностью цитировать названия книг, которые никогда не открывал и никогда не видел, тогда как монах в своей келье может провести год за чтением определенной книги или за копированием и украшением определенной рукописи и думать о ней всю оставшуюся жизнь как об огромном узоре из радужных страниц заглавных букв, закручивающихся спиралью внутрь, и длинных рядов слов, подобных улицам других монастырей, приглашающих его помечтать об их кельях, полных книг и рукописей.
Послушник идёт по монастырской аллее. У него есть поручение, но он никуда не спешит. Это непросто объяснить людям, не знающим монастырей. Монахи за своими стенами наблюдают время иначе, чем люди во внешнем мире. В то время как кажется, что в унылом, сером дне за стенами монастыря проходят лишь несколько мгновений, монах по ту сторону стены, возможно, перелистывал страницу за страницей рукописи с большими интервалами. Эту тайну невозможно объяснить, потому что никому не удавалось одновременно находиться и снаружи, и внутри монастыря.
Итак, послушник никуда не спешит. Он стоит, любуясь овощами и травами в каждом из садов келий, которые ему было поручено посетить.
Когда каждый монах подходит к двери, послушник задаёт ему один или несколько вопросов, но без особой настойчивости. По его словам, послушник снова придёт на следующий день или, возможно, через день. А пока, если бы монах мог обратиться к своим книгам или рукописям за необходимой информацией…
Конечно, здесь не один послушник. Их, возможно, сотни, тысячи, все они шагают или прогуливаются по тенистым улицам монастыря, пока последний из моих читателей проводит пальцем по корешкам своих книг и пытается вспомнить что-нибудь из моей книги. И хотя я думаю о послушнике…
Братья, прогуливаясь в основном по определённому кварталу или району монастыря, я знаю, что есть районы и ещё районы за ними. В одном из таких районов я решаю серым воскресным днём, когда мне нужно решить, начать ли писать или продолжить пить, – в одном из таких районов, в келье с серыми стенами, ничем не отличающимися от всех серых стен на всех улицах во всех районах вокруг, в собрании рукописей, которое лежало нетронутым в течение многих тихих дней, есть страница, где монах когда-то читал или писал то, что хотел бы вспомнить человек в 2020 году. Сам монах забыл большую часть того, что он когда-то читал или писал. Возможно, он смог бы снова найти этот отрывок – если бы его попросили поискать его среди всех других страниц, которые он читал и писал за все годы, что читал и писал в своей келье. Но ни один послушник не приходит попросить монаха поискать такую страницу. За серыми стенами кельи не раздаётся ни единого шага в серые дни.
Мужчина не может вспомнить, что он когда-то читал в моей книге. Он не может вспомнить, куда на полках он когда-то засунул мою тоненькую книжечку. Мужчина снова наполняет стакан и продолжает пить какой-то дорогой яд двадцать первого века. Он не понимает важности своей забывчивости, но я её понимаю. Я знаю, что теперь никто не помнит ничего из того, что я написал.
Поэтому часто по воскресеньям я оставляю свои записи в папке. Не могу заставить себя писать то, что в конце концов превратится в серую кашу в куче рукописей, которую я даже представить себе не могу.
В книжном магазине я расплатился за книги и положил сдачу в карман. Книги всё ещё лежали на столе, куда продавец их сложил, проверяя цены. Он ждал, пока я заберу книги, чтобы он мог продолжить своё разглядывание, но мне хотелось ему что-то сказать. Мне хотелось заверить его, что книги будут в безопасности в своём новом доме. Мне хотелось сказать ему, что некоторые из них – те самые книги, которые я давно хотел – несправедливо забытые книги, которые теперь будут читаться и вспоминаться.
Наверху лежала книга «Драгоценная Бэйн» Мэри Уэбб. Я коснулся выцветшей жёлтой обложки и сказал продавцу, что давно ищу «Драгоценную Бэйн » и собираюсь прочитать её совсем скоро.
Мужчина смотрел не на книгу и не на меня, а на дождь. Повернувшись лицом к серому окну, он сказал, что знает Прешес. Бэйн хорошо. Это была известная книга в своё время. Он читал её, но он...
Он сказал, что почти не помнил об этом, особенно учитывая, что здоровье у него уже не то, что было. Но это неважно, сказал он. Неважно, если ты ничего не помнишь о книге. Главное – прочитать её, сохранить в себе. Всё это где-то там, внутри, сказал он. Всё это надёжно сохранёно. Он поднял руку, словно указывая на какую-то определённую точку на черепе, но затем позволил ей вернуться в положение, в котором она обычно покоилась, пока он смотрел.
Я взял книги домой. Занес названия и имена авторов в свой каталог, а затем поставил каждую книгу на своё место в библиотеке, которая организована в алфавитном порядке по фамилиям авторов.
В следующее воскресенье, когда пришло время перестать пить и начать писать, я, как обычно, подумал о человеке из 2020 года. Он всё ещё пытался вспомнить одну книгу, которую я написал сорок лет назад, но безуспешно. Но когда он отошёл от своих полок и снова сел, чтобы выпить, я подумал о нём, словно он знал, что моя книга всё-таки сохранилась.
Затем я подумал о монастыре и увидел, что небо над ним изменилось. В воздухе разливалось золотистое сияние; оно было не столько жёлтым от солнечного света, сколько тёмно-золотым оттенком обложки несправедливо забытой книги Мэри Уэбб, янтарным оттенком пива или осенним оттенком виски. Небесный свет делал монастырские аллеи ещё более безмятежными. Братья-миряне, переходя из кельи в келью, скорее прогуливались, чем шли. Каждый монах в своей келье, когда брался за определённую книгу или рукопись, был совершенно спокоен и сосредоточен. А когда он поднимал страницу, чтобы рассмотреть её, свет из окна слабо золотисто оттенял замысловатые росчерки пера или подкрашенные инициалы, и он с лёгкостью находил то, что ему было поручено найти.
В тот день, как и во многие последующие воскресенья, я писал, потягивая книгу. Когда я в следующий раз зашёл в книжный магазин, я писал уже полгода по воскресеньям.
Заплатив продавцу за книги, я сказал ему, что я писатель. Я сказал, что писал каждое воскресенье с тех пор, как видел его в последний раз. К следующей зиме я закончу то, что писал. А ещё через зиму мои сочинения будут собраны в книгу. Я хотел, чтобы обложка моей книги была насыщенного золотого цвета, сказал я продавцу, хотя он, казалось, не проявлял к этому особого интереса. Мне было всё равно, какой цвет у моей суперобложки,
Но когда прошло сорок лет, обложка порвалась или потерялась, а моя книга хранилась в дальнем углу магазина, похожего на его, мне захотелось, чтобы золотой цвет ее корешка выделялся среди серых, зеленых и темно-синих тонов всех почти забытых книг.
Я рассказал всё это мужчине, пока он продолжал смотреть на солнечный свет, словно он был всё тем же серым, каким он смотрел, рассказывая мне о книгах, которые никогда не забудет. Но на этот раз мужчина не стал меня успокаивать. Он был последним представителем вымирающей расы, сказал он мне. Лет через сорок таких магазинов больше не будет. Если бы люди в те времена хотели сохранить то, что когда-то было в книгах, они сохранили бы это в компьютерах: в миллионах крошечных схем в кремниевых чипах.
Мужчина поднял руку. Его большой и указательный пальцы образовали клешни, оставив между ними крошечный зазор. Он на мгновение прикрыл пальцы светом снаружи и посмотрел на щель между ними. Затем он опустил руку и продолжил смотреть, как обычно.
В следующее воскресенье я не стал продолжать писать то, что хотел, чтобы получилось книгой с тёмно-золотой обложкой. Я сидел, потягивал и думал о микросхемах и кремниевых чипах. Кремний представлялся мне серым, как серый гранит, когда он мокрый от дождя под серым небом. А микросхема представлялась мне сеткой золотых дорожек на сером фоне. Я видел, что дорожки микросхемы будут иметь рисунок, мало чем отличающийся от монастырских дорожек.
Кольцевые дороги, о которых я думал, казались мне гораздо более далёкими, чем любой монастырь. Но узор был тот же. Я видел лишь тонкие золотистые полосы на сером фоне, но, полагаю, золото исходило от близко расположенных верхушек деревьев по обе стороны длинных аллей, ведущих к кольцу. Погода над кольцевыми дорогами, должно быть, была бесконечным тихим осенним днём, лучшей погодой для воспоминаний.
Я всё ещё не представлял себе, какие люди будут ходить под разливающимся осенним золотом. Но через несколько воскресений после того, как я впервые задумался о циклах, я начал писать о монастыре, где страница текста, возможно, погребена глубоко под стопкой рукописей в серой комнате, но эта страница никогда не будет потеряна и забыта. Пока я писал, я верил, что само моё писание, мой рассказ о монастыре, будет вечно покоиться в безопасности в какой-нибудь невообразимой книжной комнате под золотой листвой в городе циклов.
Этот монастырь, как я написал, был всего лишь монастырем в рассказе, но рассказ был
А значит, и монастырь, и всё, что в нём, были в безопасности. Я видел историю, монастырь, круг, историю, монастырь, круг… бесконечно удаляющиеся в том же направлении, что и вся жизнь, которая должна была привести меня к Золотому веку книг.
Но по мере того, как я писал, я стал понимать, что монастырь, конечно же, не бесконечен. Где-то, по ту сторону монастырской стены, начиналась другая серость: серость земли варваров, безлюдных степей, где люди жили без книг.
Эти люди не навсегда останутся в своих степях: Век Книг не будет длиться вечно. Однажды варвары сядут на коней и поскачут к монастырю, повернув вспять историю, о которой я так часто мечтал.
Я перестал писать. Налил себе ещё и всмотрелся в глубокий цвет своего стакана. Затем я прочитал вслух то, что написал, время от времени останавливаясь, чтобы сделать глоток, и после каждого глотка, глядя на красно-золотой закат в небе, озарявший всё, что я помнил.
Коттеры больше не придут
Мой отец умер четыре года назад, но мне было бы неприятно, если бы кто-нибудь подумал, что идущий впереди меня человек – тот самый друг-отец, в котором я нуждался.
Однако этот человек был младшим братом моего отца, и я им восхищался.
Я восхищался им, во-первых, потому, что он предпочитал смотреть на свою землю, а не заниматься её обработкой. Он доил коров в положенное время, но почти каждый день, когда ему следовало бы быть на пастбище, он облокачивался на садовую калитку и смотрел на ибисов на своей плотине или на ряд скал в двух милях от него, где заканчивалась земля. Или сидел за кухонным столом с раскрытой книгой, прислонённой к чайнику. Он читал книгу, но также наблюдал за мухами среди отбивных костей и за потёками томатного соуса на тарелке у локтя. Время от времени он медленно опускал перевёрнутый стакан в воздух, подгоняя муху. Если ему попадалась муха, он нес её в стакане, подложив под него ладонь, к одной из паучьих сетей на кухонном окне. Он бросал муху в паутину, а затем стоял, уперев руки в бока, и наблюдал.
Идя впереди меня, он насвистывал отрывок из того, что мы с ним называли классической музыкой. Жаль, что я не могу назвать эту музыку. В конце концов, дядя попросил меня её назвать и ухмыльнулся, когда я не смог. Я был молодым человеком из Мельбурна, где в здании муниципалитета проходили живые концерты, а он был деревенщиной, который слушал программы ABC по своему
беспроводной радиоприёмник на батарейках и читавший книги при свете керосиновой лампы.
Я не видел тропинки через загон, по которому мы шли, но человек передо мной время от времени сворачивал, словно следовал по какой-то старой, неторопливой тропе. Утром он сказал мне, что я узнаю что-то важное до конца дня. На плече у него висел бинокль, а в правой руке он нес портативный рацию. Возможно, он уводил меня на милю от дороги только для того, чтобы показать гнездо необычной птицы. Или главным событием дня могло стать то, что он сел рядом со мной на вершине холма, вытащил из кармана брюк сложенный справочник из журнала Age , указал на определённое имя среди лошадей и принялся возиться с рацией, пока я не смог расслышать сквозь треск помех и жужжание насекомых в траве сигнал скачек, проходивших более чем в ста милях отсюда, на лошади, которую мой дядя привёз мне в самый разгар финиша.
Мы шли по чужой ферме: ряд загонов, и ни одного дома не было видно. Стадо годовалых тёлок, разворачивавшихся и уносившихся прочь от нас, казалось, неделями не видело рядом ни одного человека.
С вершины каждого невысокого холма я видел кусты кустарников или болотистую низину с короткой зеленой травой, укрытую зарослями камыша высотой в человеческий рост, и каждая роща или низина казалась тем самым местом, где я буду сидеть несколько лет спустя рядом с молодой женщиной.
Если бы я шёл один по этим загонам в тот день, то молодая женщина была бы той, которую я случайно встретил в кустах или в болотистой лощине. Если бы я шёл один, то в каждой заросли, в каждой болотистой лощине меня бы поджидала молодая женщина, чтобы случайно встретить её, провести с ней минут десять, а потом продолжить путь один по загонам.