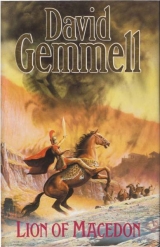
Текст книги "Македонский Лев"
Автор книги: Дэвид Геммел
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
– Ход засчитан, – сказал Ксенофонт. – Командир Леонид потерпел поражение – и, поскольку разместился во втором ряду, сам тоже убит. Сегодня победили Золотые Спартанцы. Полководец Парменион – высший стратег.
Аплодисментов не было, но Парменион не расстраивался. Он устремился к Гермию, который отбросил в сторону темное покрывало и побежал сломя голову обнять друга.
Толпа была поражена. Царь Агесилай сверлил Ксенофонта злобным взглядом, но афинянин только усмехнулся и отвернулся в другую сторону. Потом возобновились перешептывания, когда старые воины принялись обсуждать стратегию. Леонид встал и покачнулся, оступившись на ровном месте. Гриллус подошел было к нему с Покровом Стыда, но Леонид оттолкнул его и убежал со двора.
Старенький илот вышел из тени, тронув плечо Пармениона.
– Господин, там у ворот стоит женщина. Она сказала, что ты должен скорее явиться к ней.
– Женщина? Какая женщина? – спросил Парменион.
– Кажется, дело касается твоей матери, господин.
Все чувство триумфа и радости убежало от Пармениона прочь. Он замер, точно громом пораженный… и тут же побежал на улицу.
***
Толпа умолкла, как только юный спартанец выбежал из ворот. Агесилай поднялся и направился к Ксенофонту, с гневом в темных глазах.
– Этого не должно было случиться! – прошипел Царь.
Ксенофонт кивнул.
– Знаю, господин, – ответил он, понизив голос. – Но никто из нас не ожидал столь плохого выступления Леонида. Он не показал стратегического навыка и оскорбил противника пренебрежением. Но ты Царь, господин. Ты – высший судья в Спарте. Твое право вынести решение – отменять или нет мое судейство.
Агесилай отвернулся, глядя на забытых деревянных солдат, лежащих в песке.
– Нет, – произнес он наконец. – Ты был прав, Ксенофонт. Но будь я проклят, если вручу Меч какому-то полукровке. Вот! Сам отдашь ему клинок.
Ксенофонт взял оружие и поклонился. Царь покачал головой и вышел; толпа разошлась вслед за ним. Когда Афинянин уселся на деревянном крыльце, устремив мысли к Пармениону, его сын Гриллус явился к нему.
– Это было бесчестно, отец, – сказал мальчик.
– Вот именно, – согасился полководец. – Леонид не накрылся Покровом Стыда. Это было недостойно.
– Я не это имел в виду – и ты прекрасно понимаешь. Спартанская армия никогда не позволила бы таким ублюдкам, как скиритаи, объединить с ними ряды. Никто не мог ожидать этого. Битва должна была переиграться.
– Уйди, мальчишка, – молвил Ксенофонт. – И постарайся впредь не судить о вещах, которые плохо понимаешь.
Гриллус остался стоять на месте с покрасневшим лицом.
– Почему ты презираешь меня, отец? – спросил он.
Слова заставили Афинянина содрогнуться.
– Я не презираю тебя, Гриллус. Мне жаль, что ты так думаешь, – Ксенофонт встал и приблизился к мальчику с распростертыми руками, готовый обнять его.
– Нет, не трожь меня! – вскричал Гриллус, отстраняясь назад. – Я ничего от тебя не хочу.
Развернувшись, он выбежал через двор на главную улицу. Ксенофонт вздохнул. Он с таким трудом бился над ребенком, старательно обучая его, пытаясь внушить Гриллусу мысли о чести, верности, долге и отваге. Но все без толку. И Ксенофонт наблюдал, как тот рос, и видел в нем зарождение высокомерия и жестокости, тщеславия и лжи.
– Нет, я не презираю тебя, – прошептал он. – Но и любить тебя я тоже не могу.
Он собирался пойти в дом, как вдруг увидел старика, стоявшего у песчаной площадки и глядевшего на солдат. По обычаю, хорошие манеры побудили Ксенофонта заговорить с ним, и он направился к гостю, пересекая двор.
– Могу ли я предложить тебе освежиться? – спросил он.
Старик посмотрел в лицо военачальника.
– Ты не помнишь меня? – спросил он, поднимая обрубок правой руки.
– Пасиан? Гера Всеблагая! Я думал, ты умер!
– Должен был. Иногда я желаю этого. Они отрезали мне правую руку, командир, оставив меня истекать кровью до смерти. Но я добрался домой. Шестнадцать лет ушло у меня на это, – Пасиан улыбнулся, показывая сломаные, сгнившие зубы.
– Домой, – снова заговорил он хриплым голосом. – Мы расчистили свой путь от персов и укрепились за кругом из валунов. Мы видели Агесилая и главные силы и думали, что они придут нам на выручку. Но они не пришли. В конце концов, мы были всего лишь скиритаями. Мы умирали один за другим. Я убил одиннадцать человек в тот день. Персы были не очень любезны ко мне, Ксенофонт; они отняли у меня руку. Я постарался остановить кровотечение и набрел на крестьянина, который обработал рану кипящим отваром.
– Пройди внутрь, друг мой. Дай мне разделить с тобой хлеб и вино.
– Нет, благодарю тебя. Я пришел только увидеть мальчишку, посмотреть, как он победит.
– Леонида?
– Нет. Другого парня – Савру. Он не спартанец, Ксенофонт, и пусть богам будет стыдно за это.
– Откуда ты знаешь его? Он ведь еще не родился, когда ты ушел в Персию.
– Я встретил его по пути, командир… когда был уже почти дома. Знаешь, я не представлял, каким старым стал, пока не увидел холмы своего детства. Все эти годы я боролся ради того, чтобы добраться домой – и вот добрался, дряхлый калека со сломанной тележкой. Я позвал его на помощь, и он пришел. Отвел меня в дом моего сына. И ни разу не обмолвился, что из-за меня проиграл Большой Забег. Можешь представить себе?
– Он пришел последним, насколько я знаю, – сказал Ксенофонт.
– Он шел первым, до самого города. И мне нечего дать ему за это. Ни вещей. Ни монет. Но я уплачу свой долг, взыскав другой. Дважды я спасал тебе жизнь. Вернешь ли ты мне этот долг?
– Ты же знаешь, что верну, – так же, как, надеюсь, понимаешь, что если бы я был в Персии с Агесилаем, то пришел бы тогда за тобой.
Пасиан кивнул: – Я не сомневаюсь в этом, командир. Как я понимаю, мальчишка не чистокровный, с тощим кошельком и с еще меньшей поддержкой. Помоги ему, Ксенофонт.
– Помогу, обещаю тебе.
Пасиан улыбнулся и пошел к выходу, остановившись, чтобы в последний раз взглянуть на песок.
– Мне понравился этот бой, – сказал он через плечо. – Приятно увидеть спартанцев сконфуженными.
***
Парменион выбежал из ворот на пустынную вечернюю улицу. Он не чувствовал ни палящего солнца у себя на коже, ни боли от синяков и ссадин. Он не видел домов, когда пробегал мимо них, не слышал лая собак, лязгавших челюстями у самых пяток.
Его голова полнилась мучительным воплем, и все, что он мог видеть, – это лишь лицо матери, стоявшее перед его мысленным взором, – теплое и приветливое, спокойное и понимающее.
Она умирала.
Умирала…
Это слово молотом обрушивалось на него снова и снова, и у него темнело в глазах, но он продолжал бежать. Он узнал то, о чем всегда знал. Когда ее красивое прежде лицо осунулось, когда ребра стали выпирать, как у скелета, а глаза потускнели. И все другие знаки крови и боли. Но он не мог принять этого знания, и обращал глаза и мысли прочь.
Он вышел на Выходную Улицу и срезал через рыночную площадь, врезавшись в тучного торговца и сбив того с ног. Проклятия зазвучали ему вдогон.
Вход в его дом был заполнен соседями, стоявшими в молчании. Он протолкался через них и обнаружил Рею, сидевшую рядом с ложем. Врач, Астион, стоял в маленьком внутреннем дворике спиной к комнате. Парменион встал в дверях. Сердце его колотилось, когда Рея обернулась к нему.
– Она ушла, – произнесла женщина, встав и подойдя к Пармениону, обняв его руками. – Ей больше не больно.
Слезы покатились по щекам Пармениона, едва он посмотрел на истощенное тело на кровати.
– Она не дождалась меня, – прошептал он.
Рея на миг сжалась от боли, затем отошла к двери, вежливо выпроводив соседей и друзей и закрыв за ними дверь. Потом она вернулась к кровати и села, взяв маленькую ручку Артемы в свою.
– Давай, – сказала она Пармениону. – Сядь рядом с другой стороны. Попрощайся.
Парменион шагнул вперед и обхватил правую руку матери, и так они немного просидели вместе в молчании. Вошел Астион, но они не увидели его, и он тихо вышел.
– Она говорила о тебе в конце, – сказала Рея. – Она говорила о своей гордости. Хотела дождаться, увидеть тебя, узнать, как ты справился.
– Я выиграл, матушка, – сказал Парменион, сжимая безжизненные пальцы. – Я победил их всех.
Он всмотрелся в лицо Артемы. Глаза были закрыты, черты неподвижны.
– Она выглядит умиротворенной, – прошептала Рея.
Парменион затряс головой. Он не видел умиротворения, только ужасную необратимость смерти, полную неподвижность, удаленность от этого мира. Но рука ее была все еще теплой, а пальцы – гибкими. Сколько раз она унимала его боль, или ободряюще поглаживала по лицу вот этими руками? Он ощутил щемящую боль в груди и ком в горле. Слезы покатились свободнее, капая с лица и разбиваясь о руку матери.
– Она говорила о белом коне, – сказала Рея. – Она видела его на холмах. Он подходил к ней, и она сказала, что ускачет на нем назад в Македонию. В этом, наверное, есть какое-то слабое утешение. Она сказала еще, что видит твоего отца, ожидающего ее.
Парменион не мог говорить, но, собравшись, он прикоснулся к коже лица матери.
– Попрощайся, – сказала Рея. – Простись с ней.
– Не могу, – буркнул Парменион. – Еще нет. Оставь меня ненадолго. Прошу, Рея!
– Я должна подготовить… Я скоро вернусь, – она пошла к двери и остановилась. – Я любила ее. Она была хорошей женщиной и добрым другом. Мне будет ее не хватать, Парменион. В ней совсем не было зла; она заслужила лучшей судьбы.
Услышав, как за ней закрылась дверь, Парменион дал волю своей скорби и непроизвольно зарыдал, а разум заполнился образами. Он помнил своего отца очень смутно, только как необыкновенного темного гиганта, ходящего по дому, но мать была с ним всегда. Когда, по спартанскому обычаю, его в семь лет забирали в бараки к остальным мальчишкам, она держала и не отпускала его от себя, словно его жизнь была в опасности. Он часто бегал в самоволки, лазая по стенам и крышам, чтобы увидеть ее.
Теперь он никогда больше ее не увидит.
– Если ты любила меня, ты вернешься, – сказал он. – Ты никогда не бросала меня.
Он понимал бессмысленность этих слов, но они сами собой исторгались из него.
– Я принес твой трофей, стратег, – мягко произнес Ксенофонт. – Накрой ей лицо, и мы поговорим во дворе.
– Я не могу прикрыть ее лица! – запротестовал Парменион.
Ксенофонт подошел с другой стороны кровати.
– Ее больше нет здесь; она ушла. То, что ты видишь сейчас, – это только одеяние, которое она носила. Нет ничего страшного в том, что ты накроешь ее покрывалом.
Его голос был добр, и Парменион смахнул слезы и посмотрел снизу вверх на Афинянина.
Нежно Парменион поднял белое покрывало и накрыл им застывшее лицо.
– Поговорим немного, – сказал Ксенофонт, выведя подростка во двор и присев на каменное кресло. Сейчас афинянин был одет в длинный темно-синий плащ поверх белой льняной туники и ременные сандалии из превосходной кожи, доходящие ему до икр. И все же он и сейчас выглядел солдатом до мозга костей. Он держал меч Леонида, который вложил в руки Пармениона.
Юноша положил его сбоку, даже не взглянув. Ксенофонт кивнул.
– Он будет значить для тебя много больше в будущие дни. Только дай время. Ты молод, Парменион, и жизнь припасла немало невзгод. Но никто никогда уже не прикоснется к тебе так, как она. Однако ты смышленый парень и знаешь, что все люди умирают. Я говорил с твоей соседкой о матери; она тяжело болела.
– Я знаю обо всех ее болях. Знаю о ее борьбе за жизнь. Я хотел… Я хотел построить что-нибудь для нее. Дом… Не знаю. Но я хотел сделать ее счастливой, дать ей то, чего она желает. На рынке была ткань, которую она очень хотела, окаймленная золотым шитьем; сияющая ткань, из которой можно было сшить платье для царицы, как говорила она. Я украл ее. Но она вернула ткань назад. У нее не было ничего.
Ксенофонт закачал головой.
– Ты слишком мало видишь: у нее был муж, которого она любила, и сын, о котором заботилась. Думаешь, она хотела большего? Хм, да, возможно, хотела. Но этот мир коварен, Парменион. Всё, что может ждать от него мужчина – или женщина – это лишь малую толику счастья. Как сказала твоя соседка, твоя мать была счастлива. Она ничего не знала о твоих… неурядицах… с другими юношами. Она пела, смеялась; танцевала на празднествах. Да, она мертва – и больше не споет. Но также и боли больше не почувствует. Она не состарилась, не увяла и не пережила собственного сына.
– Зачем ты пришел сюда? – спросил мальчик. – Ты мог бы просто отправить меч.
Ксенофонт улыбнулся:
– Конечно, мог. Пойдем со мной в дом, Парменион. Мы поужинаем, и ты расскажешь мне о своей матери. Важно, чтобы мы поговорили о ней и вознесли по ней наши молитвы. Тогда боги узнают, какой замечательной женщиной она была, вознаградят ее прекрасным вином – и платьем из сияющей ткани, окаймленной золотым шитьем.
– Я не хочу ее покидать, – проговорил Парменион.
– Слишком поздно, она уже ушла. Теперь ее должны приготовить к похоронам, и мужчина не должен видеть женские таинства. Идем.
Парменион вышел следом за военачальником из дома, и они прошли в молчании по Выходной Улице и дальше, за рынок, к большим домам спартанской знати.
Дом Ксенофонта выглядел незнакомо без толпы и песчаной площадки во дворе. Узор из фиолетовых цветов был повсюду, и слуга зажег несколько ламп, чтобы осветить двор. Ночь была тепла, а воздух тяжел, и Ксенофонт слушал историю Пармениона о жизни его матери.
Слуги принесли разбавленное водой вино и снедь, и двое мужчин сидели так вместе наедине в ночи. Наконец Ксенофонт провел Пармениона в малую комнату в глубине дома.
– Спи спокойно, мой друг, – сказал военачальник. – Посмотрим, что будет завтра.
Ксенофонт остановился в дверях: – Скажи, молодой человек, – вдруг спросил он, – почему ты пришел последним в Большом Забеге?
– Я совершил ошибку, – ответил Парменион.
– Которую сам допустил?
Парменион вновь увидел лицо старика, отчаяние в его глазах…
– Нет, – сказал он. – Некоторые вещи важнее победы.
– Постарайся запомнить это, – проговорил афинянин.
***
Тамис сидела подле умирающего огня, глядя, как тающие тени танцевали на белых, нависших над головой стенах маленькой комнаты. Ночь была тиха, если не считать сухого шороха листьев, когда ночной ветер что-то нашептывал в деревья.
Старая женщина выжидала, прислушиваясь.
Я не ошиблась, сказала она себе, нисколько. Ветка застучала ей в окно, едва бриз усилился, огонь вытянулся в тонкую линию, затем угас. Она добавила сухих прутьев в пламя и накинула свою тонкую шаль на плечи.
Ее веки тяжелели, усталость растекалась по телу, но она по-прежнему сидела, и дыхание ее было прерывисто, а сердцебиение – сбивчиво.
Когда темень ночи сгустилась, она услышала приближающегося коня: медленный, ритмичный перестук копыт по твердой, выжженной солнцем земле. Со вздохом Тамис заставила себя подняться, взяв с собою посох и пройдя к открытой двери, где остановилась, глядя на силуэты деревьев.
Звук доносился теперь много ближе, однако никакой лошади видно не было. Закрыв глаза своего тела, она открыла глаза духа и увидела высокого, белого жеребца, пересекшего двор, чтобы остановиться перед нею. Это был огромный скакун, почти восемнадцати ладоней в высоту, с глазами опалового цвета.
Тамис вздохнула и сбросила шаль, надев вместо нее накидку из серой ткани и застегнув ее на плечах бирюзовой брошью. Оставив дверь открытой, она вышла в ночь в сторону города, и призрачный конь отправился следом.
Ее мысли были мрачны, пока она держала путь через полупустую торговую площадь, стуча посохом по мостовой. Мать Пармениона была хорошей женщиной, доброй и разумной. И ты убила ее, шепнул голос в ее голове.
– Нет, я здесь нипричем, – сказала она вслух.
Ты позволила ей умереть. Это не одно и то же?
– Многие умирают. В ответе ли я за все смерти?
Ты хотела, чтобы она умерла. Ты хотела, чтобы ребенок страдал в одиночестве.
– Чтобы сделаться сильным. Он – надежда мира. Ему одному суждено одолеть Темного Бога. Он должен стать могучим мужем.
Голос умолк, но Тамис знала, что не была убеждена до конца. Ты стареешь, сказала она себе. Нет никакого голоса. Ты говоришь сама с сбой, и такие споры бессмысленны. «Я говорю голосом здравого смысла», – сказала Тамис. – «А это говорит голос сердца».
И внутри тебя нет места для такого голоса?
– Оставь меня! Я делаю, что д олжно!
Несколько человек сидело рядом в свете луны, развлекаясь игрой в кости. Некоторые из них воззрились на нее, когда она проходила мимо, а один даже поспешно сотворил рукой знак Круга, чтобы оградиться от зла. Заметив жест, Тамис улыбнулась, а потом выкинула этого человека из головы.
Подойдя к дому Пармениона, она закрыла глаза, и ее дух вошел внутрь, проникая в смертный покой, где Артема лежала замотанная в похоронные покровы. Но того, что искала Тамис, здесь не было, и она вернулась в свое тело. Осторожно шла она вдоль залитых лунным светом улиц, сопровождаемая белым жеребцом, пока не остановилась у ворот во двор дома Ксенофонта. Вновь ее дух выплыл, проникая в дом, вверх по лестнице в малую комнату, где лежал Парменион, погруженный в сон.
У постели там стояла тонкая фигура, белая и прозрачная, как скульптура из тумана, бестелесная и мерцающая. Тамис почувствовала внутри этой комнаты запредельной силы чувства: любовь и разлуку, и щемящую боль разбитого сердца. Сон Пармениона заставил его громко застонать, и фигура замерцала. Тамис почувствовала смятение и боль. Тонкая рука протянулась к мальчишке, но не смогла прикоснуться. «Время пришло», – прошептала Тамис.
«Нет», – одинокое слово повисло в воздухе, не отказ, а разочарование.
«Он не сможет увидеть тебя, даже если проснется. Идем. Я отведу тебя».
«Куда?»
«В место, где ты сможешь отдохнуть».
Фигура повернулась назад к кровати. «Мой сын».
«Он станет великим человеком. Он избавит мир от тьмы».
«Мой сын», – повторил призрак, словно не услышал слов жрицы.
«Ты более не принадлежишь этому миру», – сказала Тамис. – «Поспеши попрощаться с ним, потому что близится рассвет».
«Он выглядит таким потерянным», – прошептал призрак. – «Я должна остаться, чтобы успокоить его». Туман сгустился, черты Артемы проступили четче. Она повернулась к Тамис. «Я узнала тебя. Ты ясновидящая».
«Да».
«Почему ты хочешь забрать меня от сына?»
«Ты больше не принадлежишь этому миру», – повторила Тамис. – «Ты… умерла».
«Умерла? Ах да, я помню». Тамис замерла, увидев постепенное зарождение понимания, которое исходило от привидения. «И теперь я никогда не обниму его вновь. Я не вынесу этого!» Тамис отпрянула от негодования в глазах Артемы.
«Следуй за мной», – велела она и вернулась в свое тело. Некоторое время она стояла молча за воротами, пока наконец призрачная фигура не вышла во двор.
«Ты сказала, он будет великим человеком», – сказала Артема. – «Но будет ли он счастлив?»
«Да», – солгала Тамис.
«Тогда я спокойна. Воссоединюсь ли я с его отцом?»
«Не могу сказать. Туда, куда умчишься ты, мне нельзя. Но я буду молиться, чтобы все было так, как ты решила. Доверься коню, ведь только он знает Тропы Мертвых, и он отнесет тебя безопасно».
Туманная фигура вскочила на спину жеребца. «Присмотришь за моим сыном?» – спросила Артема. – «Будешь ему другом?»
«Я буду смотреть за ним», – пообещала Тамис. – «Я прослежу, чтобы у него было все необходимое, чтобы встретить свою судьбу. Теперь отправляйся в путь!»
Жеребец поднял голову и зашагал к кладбищенскому холму. Тамис смотрела вслед, пока он не скрылся из виду, потом пошла назад и села на мраморное сидение.
Но будет ли он счастлив?
Вопрос тяготил ее, превращая печаль в ярость.
«Сильные не нуждаются в счастье. Он познает славу и честь, и его имя будет с трепетом произноситься устами всех племен. Грядущие поколения познают счастье благодаря ему. Не достаточно ли этого?»
Она посмотрела вверх на окно комнаты Пармениона. «Этого должно быть достаточно, стратег, потому что это всё, что я могу тебе дать».
***
Парменион проснулся ночью, разум был неясен и темен. Он сел, неуверен, где находится. Лунный свет сочился в открытое окно. Он взглянул на луну и вновь увидел лицо матери, похолодевшее в смерти. Реальность ударила его больнее любого пинка, полученного от Гриллуса или других, разрушив покой в его сердце. Он скатился с кровати и подошел к окну, которое открывалось наружу, на двор. Он посмотрел вниз на пустую площадь и увидел, что песчаная площадка была уже убрана, и сцена его триумфа вновь стала вымощена булыжником. Он думал о своей победе, но она была ничем в сравнении с его потерей. Детская игра – да как могла она значить так много? Он посмотрел назад, на кровать, изумляясь, что же могло его разбудить. Потом вспомнил.
Ему снился белый конь, скачущий по зеленым холмам.
Он посмотрел на звезды и луну. Так далеки. Так недосягаемы и недоступны.
Как его мать…
Чувство разлуки было невыносимо. Он сел на стул с высокой спинкой и ощутил, как прохладный ночной бриз омывает кожу. Какое имело сейчас значение то, что он выиграл? Один-единственный человек, любивший его, ушел.
«Что будешь делать, Парменион? Куда пойдешь?» – спрашивал он себя.
Он сидел у окна до рассвета, глядя, как поднимается солнце над пиками Парнонских гор.
Дверь за ним открылась, и он обернулся, чтобы увидеть Клеарха, своего судью на Играх. Парменион встал и поднял бровь.
– Нет нужды выражать мне свое уважение, – сказал мужчина. – Я здесь – всего лишь простой слуга. Хозяин дома приглашает тебя разделить с ним завтрак.
Парменион кивнул, и мужчина собрался было уходить, но обернулся. Его суровое лицо потеплело.
– Пожалуй, это ничего не значит, парень, но мне жаль твою мать. Элин умерла, когда мне было одиннадцать; это потеря, которую никогда не забудешь.
– Благодарю тебя, – сказал Парменион. Выступили слезы, но он сохранил твердость лица и последовал за Клеархом во двор, где сидел ожидающий Ксенофонт. Военачальник встал и улыбнулся.
– Надеюсь, ты спал хорошо, юный стратег?
– Да, господин. Благодарю тебя.
– Присаживайся и перекуси немного. Вот хлеб с медом. Их достоинства я оценил во время Персидской кампании; создают хорошее начало дня.
Парменион отрезал несколько ломтей от свежего хлеба и намазал их медом.
– Я отправил весть в бараки, – сообщил Ксенофонт. – Ты не обязан участвовать в сегодняшней муштре. Так что я подумал, что мы могли бы съездить на Илиас сегодня.
– Я плохой наездник, господин, – признался Парменион. – Мы с матерью не могли содержать лошадь.
– Тогда откуда тебе знать, какой ты наездник? Угощайся – а потом посмотрим, насколько ты хорош в седле.
Они закончили завтракать и прошли через дом к длинным стойлам, где обитали шесть жеребцов и пять кобыл.
– Выбирай, – сказал Ксенофонт. – Проверь их всех и выбери скакуна.
Парменион заходил в каждое стойло, делая вид, что изучает коней. Не зная, что именно следует осматривать, он шлепал каждого скакуна, проводил рукой по их твердым спинам. Среди них был серый, с мускулистой шеей и сильной спиной, но он посматривал на Пармениона недовольным глазом, что, как показалось мальчику, обещало много проблем. В конце концов, юноша выбрал гнедую кобылу пятнадцати ладоней в холке.
– Объясни свой выбор, – попросил Ксенофонт, надев уздечку через голову лошади и выведя ее во двор.
– Когда я ее погладил, она лизнула меня. Другие стояли смирно, за исключением серого. Я думаю, он хотел мне руку откусить.
– Он может, – подтвердил Ксенофонт. – Но ты сделал прекрасный выбор. Кобыла добродушна и покладиста. Ничто ее не пугает.
Военачальник положил чепрак из бараньей шкуры на спину кобылы.
– Эта штука не соскользнет, – объяснил он Пармениону, – но помни, что ее следует прижимать своими пятками, а не коленями.
На спину серому он накинул превосходную попону из леопардовой шкуры.
– В Персии, – сказал он, – многие варвары используют седла из уплотненной кожи, пристегнутые ремнями к спине лошади. Но это – для варваров, Парменион. Благородный муж использует лишь попону, а лучше – звериные шкуры.
Воздух был свеж, раннему утреннему солнцу еще недоставало той великой силы, которую оно явит всего через несколько часов. Они провели лошадей через Равнины, и дальше – к круглым холмам к северу от города. Здесь Ксенофонт сложил ладони и подсадил Пармениона в седло; потом военачальник ухватился за холку серого и взобрался ему на спину. Движение было плавным, уверенным и величественным, и Парменион поймал себя на том, что завидует манере старшего мужчины.
– Мы начнем с выгула лошадей, – сказал Ксенофонт, – позволим им привыкнуть к нашему весу.
Он двинулся вперед, обхватив длинную шею своего скакуна.
– Ты очень заботишься о них, – сказал Парменион. – Холишь их, как друзей.
– Они и есть друзья. Существует много глупцов, которые верят, что кнут подчиняет лошадь и заставляет ее повиноваться. Они подчинят ее – вне сомнений. Но лошадь без настроения – безжалостное чудовище. Ответь мне, стратег, – на кого бы ты положился в сражении: на человека, который любит тебя, или на того, которого ты бил и истязал?
– Ответ очевиден, господин. Я бы предпочел рядом с собой друга.
– Вот именно. Почему же это должно быть иначе в случае с лошадью, или собакой?
Они скакали по холмам, пока не выехали на ровную возвышенность, покрытую сухой травой.
– Дай им волю, – сказал Ксенофонт, шлепнув по крупу жеребца. Животное пустилось в бег, кобыла поскакала следом. Парменион обхватил коленями бока лошади и подался вперед. Рокот ветра наполнил его уши, и азарт наездника захватил его. Он почувствовал себя живым, истинно, несказанно живым!
Через несколько минут Ксенофонт направил коня вправо, нацелившись на кипарис, росший на востоке. Там он перевел скакуна на шаг, и Парменион остановился рядом. Афинянин соскользнул на землю и улыбнулся Пармениону:
– Ты хорошо вел ее.
Юноша спешился. – Она хороша. Очень хороша.
– Тогда она твоя. Скажи ей об этом.
– Она поймет?
– Конечно, нет. Но она услышит твой голос и по твоему прикосновению поймет, что ты остался ей доволен.
– У нее есть имя? – спросил Парменион, пробегая пальцами по темной гриве.
– Это Белла, фракийская лошадь с сердцем льва.
Они стреножили лошадей и сели вместе под кипарисом. Парменион вдруг почувствовал себя нехорошо. Зачем он здесь? Что за интерес питает к нему легендарный афинянин? Он не хотел оказаться соблазненным Ксенофонтом, тогда пришлось бы оттолкнуть столь могущественного покровителя…
– О чем ты задумался? – вдруг спросил военачальник.
– Я думал о лошадях, – солгал Парменион.
Ксенофонт покачал головой.
– Не бойся меня, парень. Я твой друг – и не более того.
– Ты что, бог, способный читать мысли?
– Нет, я полководец, а твои мысли легко узнать, ибо ты юн и наивен. Во время сражения с Леонидом ты боролся с выражением триумфа на своем лице. Ошибка была в том, что, превратив черты лица в маску спокойствия, твои глаза все равно лучились честолюбием. Чтобы подавить свои эмоции, ты должен сначала одурачить самого себя и, глядя на ненавистного врага, представлять в уме, что он твой друг. Тогда твое лицо смягчится, и ты сможешь улыбаться естественнее. Не пытайся казаться невозмутимым, ибо это даст врагу повод думать, что ты что-то скрываешь. И, когда можешь, старайся использовать толику правды; это лучшая из всех уловок. Но это уже пища для размышлений на другой день. Ты удивлен, почему вдруг Ксенофонт заинтересовался тобой? Ответ неоднозначен. Я видел, как ты борешься с Леонидом, и твое видение битвы тронуло меня. Война – это искусство, а не наука; и это ты уловил на инстинктивном уровне. Ты изучил Леонида и просчитал его повадки. Ты принял риск – и он прекрасно оправдался. К тому же, ты замечательно использовал кавалерию, – а это большая редкость для Спарты.
– Это не впечатлило аудиторию, – вздохнул Парменион.
– И в том тебе урок, стратег. Ты выиграл, но значимую долю славы отдал скиритаям. Это было неразумно. Если рабские расы однажды уверуют, что они могут быть равны спартанцам, они поднимут мятеж. И тогда такие полисы, как Афины или Фивы, снова объединят силы для вторжения в земли Спарты. Это вопрос баланса сил – вот что понимали воины в толпе.
– Значит, я был неправ? – спросил Парменион.
– В игре? Нет. В жизни? Да.
– Почему в таком случае ты отдал победу мне? – озадачился юноша.
– Ты выиграл битву, – ответил Ксенофонт. – И не имело значения – в игре – то, что в грядущем ты проиграл бы войну.
Военачальник встал и прошел к своему скакуну, и Парменион последовал за ним.
– Ты станешь обучать меня? – не удержался от вопроса юнец.
– Возможно, – сказал Ксенофонт. – А теперь давай покатаемся.
***
Леонид пробежал три быстрых шага и метнул копье высоко в воздух, глядя на кривую дугу, описываемую сверкающим на солнце железным острием. Оружие изящно вонзилось в иссушенную солнцем землю на много локтей дальше, чем броски его соперников. Леонид качнулся на носках, поднял руки, и несколько юношей зааплодировали ему.
Обычно до этой отметки добрасывал наставник их бараков, Лепид, и Леонид обратил глаза к мужчине.
Лепид тряхнул головой и взял свое копье. Он отступил на семь локтей, взвесил оружие, потом побежал вперед и, крякнув от усилия, запустил его. Едва копье вылетело из руки наставника, Леонид позволил себе победоносную улыбку.
Лепид увидел, как копье воткнулось по меньшей мере за три локтя перед отметкой Леонида. Он хмыкнул и с прищуром посмотрел на молодого человека.
– У тебя хорошая рука, – сказал он, тепло улыбаясь, – но ты недостаточно отклоняешь корпус назад при броске. Ты можешь бросить, самое меньшее, еще на восемь локтей дальше. Поработай над этим.
– Я поработаю, господин, – заверил Леонид.
– Теперь я хочу посмотреть, как вы бегаете, господа спартанцы, – сказал им Лепид. – Двадцать кругов по беговой дорожке, если это вас устроит.
– А если нет? – крикнул парень из задних рядов.
– Двадцать пять кругов, – сказал Лепид. Поднялся стон, однако юноши побежали к стартовой отметке. Лепид сел в тенек на деревянный стул и стал наблюдать за подростками. Гриллус вышел вперед, преследуемый Леархом, ну а Леонид устроился на четвертом месте, за Гермием. Лепид почесал плечо, в котором до сих пор сидело под костью острие персидского копья. Сустав смертельно ныл зимой, и даже летом всякое усилие, как, к примеру, бросок копья, вызывало невыносимую боль.
Лепид посмотрел на потных юнцов, пробегающих мимо него. Он завидовал их молодости и энергии, вспоминая свои дни в бараках, когда мечтал отправиться с фалангами маршем на битву. Он заметил мальчишку в самом хвосте бегущих.
– Поднажми, молодой Павсий! – гаркнул он, и парень рванул вперед, пытаясь в общей массе скрыться от критического взгляда наставника.
Сознание Лепида блуждало, и он вновь увидел свою молодость. Тогда Спарта была иной, сказал он себе, более верной принципам, заложенным богоравным Ликургом. Парням из бараков полагалось всего две туники: одна на лето и одна на зиму. Тогда не было кифаредов, выступающих в Мраморном Театроне, не было пьес, не было пиров в домах богатеньких родителей. Одна миска черного супа в день для подростков, и железная дисциплина, подкрепляемая розгами. Народ, рожденный для битв. Он посмотрел на бегунов. Хорошие парни, гордые и сильные, но Леонид имел много туник и теплый плащ от зимнего ветра. И Гермий проводил большинство вечеров дома с родителями, где ел хорошую пищу, запивая ее разбавленным вином. Молодой Леарх имел украшенный золотом кинжал, изготовленный оружейником из Фив, а ленивый Павсий набил свой живот медовым печеньем и бежит теперь со скоростью больного поросенка. Этим ребятам не продержаться на одной миске супа в день.




![Книга Чудовище / The Monster [= Пятый вид: Загадочное чудовище; Воскресшее чудовище; Возрождение] автора Альфред Элтон Ван Вогт](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-chudovische-the-monster-pyatyy-vid-zagadochnoe-chudovische-voskresshee-chudovische-vozrozhdenie-133733.jpg)


