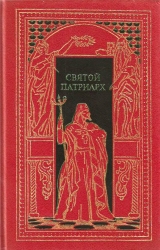
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц)
– Какие обиды были Никону от великого государя?
– Никаких обид не было, – отвечал Питирим за всех
– Я не об обидах говорю! – огрызнулся на него Никон, медленно, как волк, полуоборачивая свою негнущуюся, как у волка же, шею. – Я говорю о государевом гневе! И прежние патриархи от гнева царского бегали – Афанасий Александрийской и Григорей-Богослов[30]…
– Другие патриархи, – перебил его Макарий, – оставляли престол, ино не так, как ты отрёкся, что впредь не быть тебе патриархом: если-де будешь патриархом, то анафема будешь.
– Я так не говаривал, – защищался подсудимый, – а говорил я, что за недостоинство своё иду; а коли б я отрёкся от патриаршества с клятвою, и я не взял бы с собою святительской одежды.
– Когда ставят в священный чин, то говорят «достоин». А ты, как святительскую одежду снимал, то говорил: «недостоин», – настаивал Макарий.
– Это на меня выдумали, – был ответ.
– Никон писал в грамотах своих к святейшим патриархам на меня многие бесчестья и укоризны, а я на него ни малого бесчестья и укоризны не писывал, – продолжал царь, – допросите его: всё ли он истину, безо всякого прилога, писал? За церковные ли догматы он стоял? Иосифа патриарха святейшим и братом себе почитает ли, и церковные движимые и недвижимые вещи продавал ли?
– Что я в грамотах писал – то писал! – нетерпеливо отвечал подсудимый. – А стоял я за церковные догматы… Иосифа патриарха почитаю за патриарха, а свят ли он – того не ведаю; а церковные вещи продавал я по государеву указу…
Царь обвёл взором всё собрание и остановился на Алмазе Иванове.
– Поставь пред собор колодника, – сказал он тихо, но так, что весь собор слышал его слова.
Алмаз Иванов поднялся и неслышными шагами вышел в сени. Все смотрели ему вслед в немом ожидании и страхе. Никон ближе подвинулся к распятию и поднял на него глаза. Питирим что-то шептал своему соседу, показывая глазами на подсудимого.
В сенях послышались шаги, сопровождаемые глухим звяканьем кандалов. Все в недоумении переглядывались.
Скоро дверь растворилась, и в соборную избу вошёл кто-то, закованный в железа по рукам и по ногам. Лицо его носило следы тяжкого изнурения. Увидав Никона и распятие, он упал ниц, зазвенев кандалами. Никон вздрогнул и пошатнулся: он узнал колодника.
То был племянник его – Федот Марисов.
Глава XI. «МАМАЙ В РЯСЕ»
Когда гетман Брюховецкий отказался взять Марисова с собою в Малороссию, откуда этот тайный посланец Никона должен был пробраться в Константинополь к тамошнему патриарху Дионисию, с грамотою Никона и с воззванием к всем патриархам о разборе его распри с царём, любимец Никонов и его ставрофор, Ивашко Шушера, подкупил одного казака за 50 рублей и за пятьдесят золотых – взять с собою Марисова в число прочей свиты гетмана, якобы своего родственника, взятого москалями в плен во время похода воеводы Бутурлина на Львов[31]. Марисов, никем не узнанный, в январе 1666 года выехал из Москвы вместе с Брюховецким и благополучно достиг Малороссии; но в Москве скоро проведали об этом тайном агенте Никона, и к Брюховецкому послан был гонец с наказом – схватить Марисова. Марисов был схвачен и переслан под караулом в Москву вместе с грамотами Никона.
Всё это сделано было в глубочайшей тайне, и Никон ничего не знал, какая судьба постигла его посланца и его грамоты. А в грамотах этих он не поскупился на сильные выражения, на серьёзные обвинения, падавшие лично на царя и на его управление.
Вот почему появление Марисова в соборной избе так поразило Никона. Ему казалось, что он видит перед собою призрак. Да Марисов, изнурённый заключением, пытками и душевными страданиями, и смотрел призраком.
Царь сделал знак Алмазу Иванову. Тот подошёл и подал какие-то бумаги.
– Твои это грамоты? – спросил царь, показывая их Никону.
– Мои, – мрачно отвечал тот.
Марисов поднялся с полу и, снова припав к земле, поцеловал край одежды Никона.
– Грамоты эти ты от Никона получил? – спросил царь Марисова. Тот молчал. – Говори! – повторил царь.
– Прикажи меня казнить, великий государь, а на святейшего патриарха я свидетельствовать не стану, – сказал Марисов с силой. – Отсохни мой язык!
– Скажи одно: кто тебе дал эти грамоты? – настаивал царь. – Скажи – я тебя помилую.
– Не скажу! Загради, Господи, уста мои! – как-то выкрикнул упрямец. – Сокруши гортань мою!
Никон широко перекрестил его и снова оперся на посох. Царь сделал нетерпеливое движение.
– Уведите его! – сказал он, ни на кого не глядя.
Марисова увели. Царь передал бумаги Алмазу Иванову, который, сев на своё место, снова заскрипел пером.
– Чти Никоновы писания! – громко сказал Алексей Михайлович.
Алмаз Иванов, заткнув перо за ухо, стал читать. Трудно было ожидать, чтобы в таком тщедушном теле сидел такой здоровый голос. Он читал грамоту Никона к константинопольскому патриарху. В грамоте подробно описывалось, как его, Никона, силою избрали на патриаршество, как насильно привели в собор, как царь, вместе со всем московским народом, кланяясь до земли и слёзно плача, умолял его, Никона, принять патриаршество, как он, наконец, решился принять посох Петра митрополита с условием, чтобы все его слушались, как начальника и пастыря, как царь сначала был благоговеен и милостив и во всём заповедей божьих искатель, а потом начал гордиться и выситься.
Собор безмолвствовал. Гремел только ровный, звучный голос Алмаза Иванова. Царь стоял потупившись, а Никон держал голову прямо, не спуская глаз с распятия. По лицу Питирима, как змейка, пробегала злая усмешка.
– «Послан я, – звучал голос Алмаза Иванова, – в Соловецкий монастырь за мощами Филиппа митрополита, которого мучил царь Иван несправедливо»…
– Постой! – перебил чтение государь.
Алмаз Иванов умолк. Все взоры обратились на царя.
– Для чего он, – обратился последний к патриархам, – для чего он такое бесчестие и укоризну царю Ивану Васильевичу написал, а о себе утаил, как он низверг без собора Павла, епископа коломенского, ободрал с него святительские одежды и сослал в Хутынский монастырь, где его не стало безвестно[32]… Допросите его, по каким правилам он это сделал?
– По каким правилам я его низверг и сослал – того не помню, и где он пропал – того не ведаю… Есть о нём на патриаршем дворе дело, – поторопился подсудимый.
– На патриаршем дворе дела нет и не бывало. Отлучён епископ Павел без собора, – с своей стороны поторопился Павел, митрополит сарский.
Никон ничего не возражал. Он только сильнее налёг на посох, как бы желая им пронзить помост соборной избы.
А Алмаз Иванов продолжал вычитывать, как по покойнике:…«и учал царь вступаться в архиерейские дела»…
– Допросите: в какие архиерейские дела я вступался? – снова прервал чтение Алексей Михайлович, обращаясь к патриархам.
– Что я писал – того не помню, – отвечал Никон.
– «Оставил патриаршество, не стерпя гнева и обиды», – вычитывал дьяк Алмаз.
– Допросите: какой гнев и обида? – прервал царь.
– На Хитрово не дал обороны, в церковь ходить перестал… Государев гнев объявлен небу и земле, – уже начинал кричать подсудимый.
Патриархи остановили его движением.
– Хотя бы Хитрово человека твоего и зашиб, и тебе то терпеть бы и последовать Иоанну Милостивому, как он от раба терпел, – наставительно сказал Макарий (Паисий всё молчал и изредка взглядывал то на царя, то на Никона). – А если б государев гнев на тебя и был и тебе бы о том с архиереями посоветоваться следовало, и к великому государю посылать – бить челом о прощении, а не сердиться.
Раздался чей-то голос с дальней скамьи. Все оглянулись и увидели рыжую голову, которая усиленно моргала.
– В ту пору я царский чин исполнял, – говорила, заикаясь, рыжая голова (это был Хитрово), – и в ту пору пришёл патриархов человек и учинил мятеж, и я его зашиб не знаючи, а в том у Никона патриарха просил прощения, и он меня простил.
За Хитрово осмелились и другие. Разом послышалось несколько голосов со всех сторон.
– От великого государя Никону патриарху обиды никакой не бывало, пошёл он не от обиды – с сердца! – кричали с боярской стороны.
– Когда он снимал панагию и ризы, то говорил: «аще помыслю в патриархи, анафема буду»! Панагию и посох оставил, взял клюку, а про государев гнев ничего не говорил! – кричала архиерейская сторона.
Все кричали, все усердствовали. Никон, как затравленный волк, только озирался. Но не в его характере было молчать, когда кричали другие.
– Я вас перекричу! – раздался вдруг его резкий, как удар хлыста, голос.
Паисий, сидевший с опущенными глазами, быстро вскинул ими на подсудимого и тихо сказал:
– Никон!
Никон опомнился.
– «Написана книга уложение, – продолжал вычитывать Алмаз Иванов из письма Никона к константинопольскому патриарху, – книга, святому евангелию, правилам святых апостолов, отец и законам греческих царей во всём противная… всех беззаконий, написанной в этой книге, не могу описать – так их много! Много раз говорил я царскому величеству об этой проклятой книге, чтоб её искоренить, но, окромя уничижения, ничего не получил, и меня же хотели убить».
– Постой! – остановил чтеца Алексей Михайлович. – К сей книге, – обратился он потом к Никону, – приложили руки патриарх Иосиф и весь священный собор, и твоя рука приложена…
– Я руку приложил поневоле, – огрызнулся подсудимый.
– «Боярин Семён Лукьянович Стрешнев, – читал Алмаз, – научил собаку сидеть и передними лапами благословлять, ругаясь благословению Божию, и называл собаку Никоном патриархом: мы, услыхав о таком бесчинии, клятве Семена предали…»
Тонкая улыбка скользнула по губам Макария.
– И того тебе, Никон, делать не довелось, – сказал он. – Если б мышь сгрызла освящённый хлеб, нельзя сказать, что она причастилась; так и благословение собаки не есть благословение… Шутить святым делом не подобает, но в малых делах недостойно проклятие, понеже считают его за ничто.
Когда Алмаз Иванов дочёл до того места письма, где говорилось о приезде к Никону князя Одоевского и Паиси я Лигарида, царь остановил чтение.
– Митрополит и князь, – сказал он, – посланы были выговаривать ему его неправды, что писал ко мне со многим бесчестием и с клятвою, мои грамоты клал под евангелие, позорил газского митрополита, а тот свидетельствован отцом духовным, и ставленная грамота у него есть.
– Я за обидящего молился, а не клял, – отвечал Никон. – Газскому митрополиту, по правилам, служить не следует, потому – он епархию свою оставил и живёт в Москве долгое время… Слышал я, что он ерусалимским патриархом отлучён и проклят. У меня много таких мужиков шляется[33]… Мне говорил боярин князь Никита Иванович Одоевский государевым словом, что меня зарежут…
При этих словах Одоевский вскочил с места.
– Таких речей я не говаривал! – протестовал он. – А Никон мне говорил: «коле-де хотите меня зарезать, то режьте» – и грудь обнажал.
Вмешался в спор и Алмаз Иванов, но осторожно:
– Когда Никон, по вестям о неприятеле, приезжал в Москву, то мне говорил, что от престола своего отрёкся.
– Никогда не говорил! – огрызнулся на него Никон. Алмаз Иванов опять уткнулся в бумагу и читал из письма Никона, будто царь посылал к патриархам многие дары.
– Я никаких даров не посылывал, – прервал его царь, – писал, чтоб пришли в Москву для усмирения церкви; а ты (это к Никону) посылал к ним с грамотами племянника своего и дал черкашенину много золотых.
– Я черкашенину не давал, а дал племяннику на дорогу.
По знаку царя Алмаз Иванов опять начал читать. Дочёл до того места, где Никон говорил о своём неудачном ночном приезде в Москву и о высылке его из Успенского собора.
– Никон приходил в Москву никем не званный, – пояснил царь, – и из соборной церкви увёз было Петра митрополита посох, а ребята его отрясали прах от ног своих. И то он какое добро учинил? И ребята его какие учители, что так учинили?
– Ребята прах от ног своих как отрясали – того я не видал; а как приезжали за посохом в Чернёво, то меня томили, а иных хотели побить до смерти.
– До смерти побивать никого не было велено и не биты, – защищался царь.
И снова возобновлялось утомительное чтение Алмаза Иванова. А царь и Никон все стояли; царь, видимо, был утомлён. Патриарх Паисий по временам как бы задрёмывал, и только сухие пальцы его, тихо водившие по чёткам, изобличали, что он не спит.
– «Которые люди за меня доброе слово молвят или какие письма объявят, – читал Алмаз, – и те в заточение посланы и мукам преданы: поддьякон Никита умер в оковах, поп Сысой погублен, строитель Аарон сослан в Соловецкий монастырь…»
– Никита, – оправдывался царь, – ездил от Никона к Зюзину с ссорными письмами, сидел за караулом и умер своею смертию от болезни. Сысой, ведомый вор и ссорщик, и сослан за многие плутовства… Аарон говорил про меня непристойные слова и за то сослан… Допросите: кто был мучен?
– Мне о том сказывали…
– Ссорным речам верить было ненадобно и ко вселенским патриархам ложно не писать.
Никон смолчал. Дьяк Алмаз продолжал:
– «Архиереи по епархиям поставлены мимо правил святых отцов, воспрещающих переводить из епархии в епархию…»
– Когда Никон был на патриаршестве, – опять прервал царь, – то перевёл из Твери архиепископа Лаврентия в Казань и других многих от места к месту переводил.
– Я то делал не по правилам – по неведению.
– Ты и сам на новгородскую митрополию возведён на место живово митрополита Авфония, – некстати вмешался Питирим.
– Авфоний был без ума… Чтоб и тебе также обезуметь! – громыхнул его Никон как бы наотмашь.
Многие так и подпрыгнули на скамьях от этого окрика. Паисий глянул строго и зачастил чётками. Питирим как ошпаренный не нашёлся, что отвечать, и только бормотал: «Это кабан бешеный… Мамай в рясе… Господи!..» Царь покраснел, и краска всё более и более заливала его щёки по мере того, как Алмаз Иванов читал далее. А он читал:
– «От сего беззаконного собора престало на Руси соединение с восточными церквами, и от благословения вашего отлучились, от римских костёлов начаток прияли волями своими…»
– Стой! стой! погоди! – порывисто заговорил царь, повелительно поднимая руку. – Никон нас от благочестивой веры и от благословения святейших патриархов отчёл, и к католицкой вере причёл, и назвал всех еретиками! Что ж это такое?! Только бы его, Никоново письмо, до святейших вселенских патриархов дошло, и нам бы всем, православным христианам, быть под клятвою, и за то его ложное и затейливое письмо надобно всем стоять и умирать, и от того очиститься.
Голос царя сорвался. Сам он дрожал. Весь собор заколыхался сдержанным, глухим ропотом. Многие испуганно крестились словно бы перед ударом страшного грома после молнии. Даже у Паисия, всё время сидевшего неподвижно, статуйно, ходенём заходила седая голова под высоким клобуком.
– Чем Русь от соборной церкви отлучилась? – спросил он строго.
– Тем, – закричал подсудимый запальчиво, – что Паисий газский перевёл Питирима из одной митрополии в другую и на его место поставил другого митрополита я других архиереев с места на место переводил же! А ему то делать не довелось, понеже он от ерусалимского патриарха отлучён и проклят… Да хотя б он и не еретик был, а ему на Москве долго быть и не для чего: я его митрополитом не почитаю, у него и ставленной грамоты нет… Всякий мужик наденет на себя монатью – так он и митрополит! Я писал всё об нём, а не о православных христианах.
Он сам чувствовал, что слишком далеко зашёл – это был конь, закусивший удила… Он спохватился было, хотел увильнуть, но было уже поздно: вырвавшиеся из уст сильные выражения – обвинение в еретичестве всей страны – нельзя было поймать и воротить назад: они потрясли весь собор и погубили неосторожного.
Последовал всеобщий взрыв негодования. Москвичи точно забыли о присутствии царя и патриархов; они одно помнили – что все они оскорблены и опозорены, что им, самому православному под солнцем народу, бросили в глаза укор в неправославии, в еретичестве, в латынстве!.. Это ли не обиды?! Да за один намёк на похлёбство и на потачку со стороны Лжедмитрия ляцкой веры, латынству – Москва сама себя вверх дном опрокинула, в золу обратила этого Лжедмитрия и золою выстрелила на ветер, перетрясла потом, как запылённые онучи, всю русскую землю – из-за одного только слова «латынство»… А тут вся земля и церковь якобы облатынились! Да после этого жить нельзя! Москву осрамили перед всем светом!..
Все повскакали с своих мест, замахали руками. Послышались крики:
– Он отчёл всю Россею! всех нас! Этого нельзя!
– Он назвал еретиками всех нас, православные! Что ж это будет?
– Указ учинить! Али мы собаки латынские! Никон стоял, ошеломлённый общим взрывом, и только оглядывался по сторонам. Царь молчал – он едва держался на ногах от усталости и волнения.
С трудом патриархам удалось утишить бурю; но дальнейшее чтение грамоты Никона – этого поличного – шло уже вяло. Все утомились. Даже у привычного Алмаза Иванова пересохло в горле.
Наконец, грамота кончена. Алмаз Иванов умолк и поклонился. Наступила тишина.
– Бог тебя судит! – горько сказал Никон, обращаясь к царю. – Я узнал ещё на избрании своём, что ты будешь ко мне добр шесть лет, а потом буду я возненавиден и мучен.
Слова эти передёрнули царя.
– Святые отцы! допросите его, как он узнал это на избрании своём?
Никон не отвечал, а только вздыхал, глядя на распятие.
– Он же, Никон, сказывал, что видел метлу звездою, и от того будет московскому государству погибель: пусть скажет, от какого духа он то увидал? – заговорил один архиерей.
– И в прежнем законе такие знамения бывали – на Москве это и сбудется, – мрачно отвечал подсудимый. – Господь пророчествовал на горе Елеонской о разорении Ерусалима за четыреста лет.
Паисий встал: он видел, что царь не в силах больше стоять, и потому, благословив его, указал рукою на его место. Никону же показал знаком, чтоб он уходил.
Поклонившись до земли и проговорив глухим, упавшим голосом: «Простите меня, православные!» – подсудимый вышел вслед за распятием, глубоко поникнул головою.
Глава XII. МОРОЗОВА У АВВАКУМА
В то утро, когда в Москве начался суд над Никоном, враг его, непримиримейший из всех врагов, Аввакум, сидел на охапке соломы, брошенной на земляном полу в углу арестантской келейки подмосковного монастыря Николы на Угреше, и, положив на правое колено измятый клочок синей бумаги, писал что-то деревянною палочкою, макая в стоявший на полу глиняный черепочек.
И Аввакум многое пережил в эти последние два года. Он сидел в заточении то в том, то в другом монастыре, мужественно отгрызаясь от всех своих врагов, вымучился полтора года в тягчайшей ссылке на Мезени, терпя холод, голод и побои, был расстрижен и теперь привезён в Москву тоже на суд вселенских патриархов.
Тюрьма, в которой он теперь томился, представляла кубическую каменную коробку в сажень длины и ширины, с узеньким оконцем за железною решёткою с острыми зубьями. В этой каменной коробке ничего не было – ни стола, ни скамьи, ни кровати; вместо всего этого в угол брошена была охапка соломы, на которой и сидел расколоучитель. По сырым стенам виднелась позеленевшая плесень, местами прохваченная морозом и заиндевевшая; оконце тоже промёрзло так, что если б в него солнце и заглянуло, то оно не в силах было бы пробить своими лучами эту сплошную льдину, в которую превратилось стекло. На одной из стен каменной коробки, в переднем углу, виднелось подобие большого осьмиконечного креста и грубое изображение руки с двуперстным сложением: эти символы Аввакум выцарапал в каменной стене своими когтями, которые отросли у него, как у собаки.
Аввакум много, почти неузнаваемо изменился с тех пор, как мы видели его у Морозовой, а потом у Ртищевых вместе с Симеоном Полоцким. Седые, длинные и курчавые волосы его были острижены, как у арестанта: это была уже не поповская, не иконная голова, а простая колодницкая. Но тем рельефнее теперь выступала её угловатость и ширококостность; в этой ширококостности темени и затылка и в этой сдавленности и вогнутости лобной кости сказывалось железное упрямство мономана, фанатически преданного мрачному, суровому идеалу непоколебимой выносливости. Он был одет в дырявый нагольный тулуп, из-под которого виднелись ноги, обутые в лапти и пёстрые онучи, перевитые мочалками. По временам он задумывался, клал палочку, заменявшую ему перо, на черепок и согревал дыханием закоченевшие от мороза пальцы. Но это, по-видимому, не помогало: по холодной тюрьме распространялся только пар от дыхания, но теплее не делалось.
– Господи! дунь на руце мои дыханием Твоим! – страстно обращался он к кресту, выцарапанному им на стене. – Ты пещь огненную охладил некогда в Вавилоне дуновением Твоим: согрей ныне дыханием Твоим божественным персты мои, да прославлю имя Твоё, многомилостиве!
И он снова нагибался и чертил палочкой по бумаге, разложенной на правом колене. А потом начал бормотать про себя вслух написанное:
«Анисьюшка! чадо моё духовное! аль есмь измождал от грех моих и от холоду в темнице моей и не могу о себе молитвы чисты с благоговенством приносити. Ей! не притворялся говорю, чадо! Не молюся, а кричу ко Господу, скучу, что собачка-пёсик на морозе. Пальцы мои в льдины обращаются, всё развалилося во мне, душа перемёрзла моя, на сердце снег, на устах иней. Поддержи мою дряхлость ты, младая отроковица, стягни плетью духовною душу мою, любезная моя! Утверди малодушие моё, Богом избранная, вздохни и прослезися о мне!»
Он помолчал и снова стал дышать в застывшие ладони. По щекам его текли слёзы…
– Дунь, Господи! согрей меня! Вить солнце и огнь пекельный в Твоих руках! – опять закричал он, страстно глядя на крест.
Потом опять нагнулся к бумаге и стал читать: «Слушай-ка, Анисья! о племени своём не больно пекись: комуждо и без тебя промышленник Бог, и мне, мерзкой псице. Забудь, что ты боярышня, знатного роду; а умеешь ли ты молоть муку? Мели рожь в жерновах, да на сестёр хлебы пеки или в пекарни шти вари, да сёстрам и больным разноси. Да имей послушание к матери Меланин, не рассуждай о величестве сана своего, яко боярышня, богачка и сановница – отрицайся мысли сея и оплюй её! Плюй на всё, что не от Бога!»…
Он положил бумагу в сторону, поднялся с соломы и упал на колени.
– Вергни ко мне солнце сюда. Тебе всё возможно! Дуни летом в темницу мою! – молился он.
За окошком тюрьмы послышался скрип саней, бубенчики и звяканье упряжи…
– Ох! ужли это она? – вскочил он в волнении. – Она! её чепи гремят…
Сани проехали на монастырский двор. Аввакум встал и шагал из угла в угол по своей каменной коробке, то и дело поднимая глаза к выцарапанному в углу кресту.
Через несколько минут за дверью послышался шорох и скрип отмыкаемого ржавого замка. Аввакум лихорадочно прислушивался к этим звукам и крестился. Скоро дверь завизжала на петлях и тяжело раскрылась.
– Входите, матушка-благодетельница, – послышался голос за дверью.
– Господи Исусе Христе Сыне Божий помилуй нас! – зазвучал серебряный голосок, от которого Аввакум вздрогнул.
– Аминь, аминь! трикраты аминь! – крикнул он восторженно.
В дверях показалось белое, зарумянившееся от мороза личико. Оно выглядывало из-под чёрного платка, которым повязана была голова, и казалось личиком молоденькой чернички. Боярыня Морозова – это была она – робко, со страхом и с каким-то благоговением переступила через порог и, стремительно подвинувшись вперёд, с тихим стоном упала ниц перед Аввакумом и, всплеснув руками, припала лицом к лаптям, прикрывавшим его ноги.
– Ох, свет мой! ох, батюшка! мученик Христов! – страстно лепетала она, обнимая онучи своего учителя.
А он, дрожа всем телом, силился приподнять её, тоже бормоча бессвязно:
– Встань, подымись, мой светик, дочушка моя! Дай взглянуть на тебя, благословить тебя, чадо моё богоданное! Сам Бог послал тебя… Вон я, смрадный пёс, молился Ему, Свету, выл до него: «вергни-де в темницу мою солнце, дуни на мя, окоченелого» – и он послал ко мне солнушко тёплое – тебя, светик мой! Встань же, прогляни, солнушко Божье! – И, приподняв её, он крестил её лицо, глаза, голову, плечи, повторяя восторженно: «Буди благословенна – буди благословенно лицо твоё, очи твои, глава твоя буди вся благословенна и преблагословенна!».
А она ловила его обе руки, целовала их, целовала его плечи, овчину, которою он был прикрыт, и страстно шептала:
– Батюшка, батюшка! святой, не чаяла я тебя видеть! касатик мой!
За Морозовой, медленно, осторожно переступая через порог, как бы ощупывая ногами землю и пытливо высматривая из-под чёрного клобука, надвинутого до бровей, маленькими рысьими глазками, вошла в келью старая монашенка с большим узлом на левой руке. Она, гремя чётками, сделала несколько широких крестов в угол и, низко поклонившись Аввакуму, коснувшись двумя пальцами земли, протянула руку под благословение. Аввакум перекрестил её, положил свою горсть на её горсть, как бы вкладывая в эту горсть нечто очень ценное, а монашенка поцеловала его руку.
– Здравствуй, матушка Мелания! здравствуй, звезда незаходимая благочестия, – всё так же восторженно проговорил Аввакум.
Старица Мелания – эта «звезда незаходимая благочестия»– была действительно самым крупным светилом своего века и своего общества: умная, энергическая, с необыкновенным запасом воли и самообладания, неутомимая а преследовании своих идеалов, но в то же время осторожная, замкнутая в себе, когда того требовали обстоятельства, сильная словом, когда она, так сказать, обнажала свой язык, острый, как бритва, и ядовитый, как зубы медянки, смелая и решительная, когда требовался натиск, чтобы сломить препятствия, знавшая всё, что делалось в Москве, проникавшая всюду, как воздух, и, как воздух, неуловимая, – старица Мелания была всесильным и невидимым центром «древляго благочестия»: это был воевода в юбке, воевода невидимых ратей, которые, однако, держали в руках, хотя тайно, всю Москву и далёкие окраины. Старица Мелания была сильнее Никона, которому у неё следовало поучиться борьбе с сильными противниками и уменью побеждать и держать их в повиновении. Она была могущественнее самого Алексея Михайловича, который, сломив Никона, не мог сломить старого дерева – «древляего благочестия», главою которого и игемоном была матушка Мелания. Все тайные приверженцы старины, – а такими почти поголовно были все московские люди, начиная от стоявших у престола и кончая стоявшими у корыта монастырской пекарни, все московские женщины, начиная от царицы Марьи Ильиничны и её ближних боярынь и боярышень и кончая млоденькими черничками, – все находились в негласном «послушании» у матушки Мелании, были её слепыми орудиями, которые «свою грешную волю в конец отсекли, как червивый хвост у собаки». Строгая, фанатичная до изуверства, руководившая всеми, помыкавшая даже такими личностями, как Аввакум, она, однако, не пошла бы с ними проповедовать на площадь, а, как полководец, посылала их в огонь, на виселицы, на костры, а сама оставалась в стороне. И они же, эти безумцы, умирая в страшных мучениях, благословляли матушку Меланию; они же просили палачей или кого-либо из присутствовавших при истязании их и при казни так или иначе довести до сведения «матушки», что они умерли твёрдо, мученически, не поступившись ни одним перстом, ни одною «аллилуйею», ни священным азом.
Матушка Мелания была уже очень стара; но живучесть и энергия светились, как фосфор, в её рысьих глазках, которые ни на кого прямо не смотрели, хотя видели каждого насквозь, будучи, по-видимому, обращены молитвенно горе или сокрушённо долу. Лба её также никто не видал за клобуком, а брови смотрели каким-то навесом над глазами, под которыми эти последние прятались от постороннего взора, как воробьи под крышей от дождя.
После первых приветствий Аввакум усадил своих гостей на соломе, а сам опустился против них на колени.
Морозова с ужасом и дрожью осматривала страшное помещение. Матушка же Мелания одобрительно оглядывала промерзшие стены, шепча как бы про себя: «Радуюсь, радуюсь за Аввакумушку – экой благодати сподобился, счастливчик».
– Ну, что у вас городе слышно, миленькие? – спросил Аввакум.
– Патриархи вселенские приехали; ноне Никона судят, – сказала Морозова.
– Греческие волки приехали нашего медведя судить, – пояснила матушка Мелания.
– Добро! А как они сами, судьи-то, крестются? – спросил Аввакум.
– Щепотью, сама видела, – отвечала матушка Мелания.
– Еретики! звери пестрообразные! – Аввакум так и вскочил.
– А у царицы государыни сказывали, – робко начала Морозова, – что и тебя, света, патриархи судить будут.
– Добро! Я их научу креститься! – восторженно произнёс фанатик, сверкая глазами. – Для того и с Мезени меня привезли сюда – травить греческими собаками. Мало того, что бороду у меня отрезали и власы остригли, как у непотребной девки… вон всего оборвали, что собаки – один хохол оставили как у поляка на лбу… Да добро! мне же на руку: меня возят по градам и сёлам, а я кричу везде, обличаю их, пестрообразных зверей, а люди божии слушают меня до поучаются, да плачут… Ещё не то будет, когда удавить меня повелят, либо сжечи тело моё похотят: крикну я тогда на весь свет и голос до трубы архангела не умолкнет. Я что! – земля, грязь; пущай их тело моё жгут, жилы вытягивают – больненько-таки, да за то венец мученический получу, а деткам своим православным крикну: «Смотрите-де, детушки, вон с каким крестом до Бога иду! и вы-де за мной, не ленитесь!» Что ж они думают меня морозом напужать – вон в какую баньку посадили, мало не скостенел; а как взвыл к Батюшке-Свету: «дунь на меня теплом, пошли солнышко», – Он, Милосердый, и послал, да не одно, а два солнышка – это вас-то, миленькие мои… И тепло мне стало, ох, как тепло!
Фанатик действительно разгорелся внутренним огнём и забыл холод, от которого он за несколько минут перед этим буквально костенел.
– А мы тебе, Аввакумушко, и в сам-деле тёпленького привезли, – сказала мать Мелания, указывая на узел: государыня царица, да вот дочушка твоя духовная, Федосьюшка (она указала на Морозову), наготовили тебе приданого что невесте: и сапожки тёпленьки, и чулочки, рукавички с варежками из козья пуху, да и шубеечку лисью мяконьку.
– Спасибо матушке царице, добра она миленькая, добра, что ангел божий! Да и тебе исполать, дочушка моя! – кланялся он Морозовой. – А я на собор хочу вот так пойти, да и ко Господу в светлу горенку постучусь в сём же одеянии: он, Батюшка-Свет, и нищих принимает.
Морозова благоговейно смотрела на него. Влияние этого человека окончательно преобразило её: она стала вся самоотвержение. Богатый дом свой она обратила в общественную богадельню: странники, нищие, юродивые, больные не выходили из её дому. Она ухаживала за больными и гнойными, сама своими нежными руками обмывала их ужасные язвы, сама кормила их. Нежное, пухлое боярское тело она облекла власяницею, до того колючею, что тело её горело и болело, как от огня.








