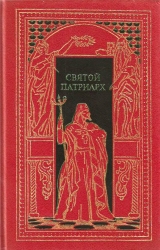
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
– Что и говорить! А поди, тут дело без черкас не обошлось, без хохлов этих!.. У! Зелье народ!
– А вот теперь великий государь сердитует, гневом пышет, говорит: мы распустили узду, крамоле-де в зубы смотрим, – с огорчением пояснил Одоевский. – Ах, боже мой, мы ли не стараемся?! Вон ноне все тюрьмы полны, сколько заново земляных тюрем выкопали, и все полнёхоньки. А крамола, словно гриб после дождя, из земли выскакивает…
За дверями послышалось звяканье кандалов… Бояре встрепенулись.
– Ведут ведьму-ту…
– Хорошенько надо попарить да расправить боярски-те косточки…
В палату ввели, скорее на руках втащили, Морозову. Её с помощью стрельцов привёл Ларион Иванов. Бояре невольно встали, увидав её спокойное лицо, которому они когда-то при дворе и в её собственном доме так усердно кланялись.
За Морозовой ввели Урусову и Акинфеюшку. Сёстры издали поздоровались.
– Здравствуй, Дунюшка! Жива ещё? Не удавили?
– Жива, сестрица. А ты?
– Скучаю об венце… А ты, Акинфеюшка?
– Об странствии соскучилась я… хочу скорее иттить на тот свет, да посошка ещё мучители не дали…
Арестантки разговаривали, как будто бы перед ними никого не было.
– Полно-ко вам! – перебил их Воротынский. – Вы приведены сюда не на поседки, а за государевым делом, для пыток.
– Али ты, князь Воротынский, из холопей в палдчи пожалован? – заметила Морозова. – Велика честь!
Воротынский не нашёлся что отвечать.
– Скора ты! – глянул на непокорную боярыню Одоевский. – Что-то скажешь на дыбе?
– Скажу тебе спасибо, князь Яков; скажу, не забыл-де мою хлеб-соль, как при покойном муже у меня ежеден гащивался, – по-прежнему спокойно отвечала боярыня.
И Одоевский поперхнулся: он вспомнил, как заискивал у этой самой Морозовой, как холопствовал перед нею и её мужем и как действительно Морозовы до отвалу кормили его вместе с другими прихлебателями, льнувшими, как осы к мёду, к царской родственнице и любимице.
Воротынский, который тоже кое-что вспомнил, желая замять свою неловкость, подошёл к Акинфеюшке.
– Ты кто такая? Как твоё имя? – спросил он.
– Мария, – был ответ.
– Как – Мария! В отписке ты именована Акинфеею Герасимовою, Даниловых дворян.
– Была Акинфея… токмо не я, а другая… Я Мария.
– А чьих?
– Тебе на что? Богова, не твоя и не царёва… На том свете не спросят мою душу: Данилова ты али Гаврилова?…
– Покоряешься ли ты царю и собору?
– А тебе какое дело до моей покорности?
– Так мы повелим тебя пытать огнём.
– Пытайте, это ваше дело… Я ничего не украла, никого не убила, никому худа не делаю, токмо люблю моего Христа: за Христа и жгите меня, жиды новые.
Воротынский приказал вести её в застенок. Она сама пошла впереди стрельцов. За стрельцами последовали Воротынский, Одоевский и Волынский. За ними ввели Морозову и Урусову.
В просторном застенке висели привешенные к потолку «хомуты», хитрые приспособления для дыбы и встрясок. По стенам висели кнуты, плети, клещи. На полу, у стен, стояли огромные жаровни, лежали гири, верёвки… На всём этом чернелись следы запёкшейся крови… Огромный горн был полон, в нём тлели и вспыхивали синеватым огнём дубовые уголья… У горна и у хомутов возились палачи с засученными рукавами, в кожаных фартуках, словно кузнецы.
– Оголи до пояса, – указал Воротынский палачам на Акинфеюшку.
Она было вздрогнула, но потом перекрестилась и опустила руки.
– Христа всего обнажили, чтобы ребра прободать и голени перебить, – сказала она как бы про себя.
– Дерзай, миленькая, дерзай! – ободряла её Морозова. – Будешь российскою первомученицею.
Палачи сорвали с Акинфеюшки верхнюю одежду и опустили рубаху до пояса… Она было прикрыла руками девичьи груди, согнулась: но палачи разняли руки и связали их за спиной… Несчастную подняли на дыбу… Она не вскрикнула и не застонала… Сделали встряску, руки несчастной выскочили из суставов…
– Господи! Благодарю тебя! – прошептала мученица.
– Повтори встряску! – хрипло проговорил Воротынский.
Встряску повторили… Удивительно, как совсем не оторвались руки от туловища, от плеч… Несчастная висела долго… Морозова и Урусова глядели на неё и молча крестились.
– Что же оцт и желчь не подаёте? – проговорила с дыбы жертва человеческой глупости.
– Много чести, – злобно заметил Воротынский.
– Копией прободайте…
– Нет, мы плёточкой, любезное дело!
– Худа больно, легка на весу; её дыба не берёт, – глубокомысленно заметил Одоевский.
– Проберёт, дай срок, – успокоил его Волынский.
– А теперь княгинюшку, – злорадно показал палачам Воротынский на Урусову и сам сорвал с неё цветной покров, заметив: – Ты в опале царской, а носишь цветное!
– Я ничем не согрешила перед царём, – ответила Урусова тихо.
Палачи хотели было и её обнажить.
– Не трошь её! – раздался вдруг чей-то грубый голос. Все с изумлением оглянулись. Из отряда стрельцов, стоявших в дверях застенка, отделился один, бледный, с дрожащими губами… То был Онисимко… Морозова узнала его: он целовал её ноги, когда в первый раз заковывал их в железо… Она перекрестила его.
– Благословен грядый во имя господне.
Палачи, озадаченные первым возгласом, опустили было руки, но теперь снова подняли их.
– Не трошь, дьяволы! Она княгиня! – повторил Онисимко, хватаясь за саблю.
– Взять его! – закричал Воротынский.
Онисимку схватили за руки сотники и стрельцы и увели из застенка.
– Идолы! Мало им! Скоро всех детей малых заберут в застенки! – слышался протестующий голос уведённого стрельца.
– Делай своё дело! – прикрикнул на палачей Воротынский.
На Урусовой разорвали ворот сорочки и обнажили, как и Акинфеюшку, до пояса. Она вся дрожала от стыда, но ничего не говорила. Всем, даже стрельцам, стало неловко: слышно было их тяжёлое дыхание, словно бы их поджаривали на полке в бане… У Лариона Иванова даже лицо побледнело и глаза смотрели сурово…
Урусову подняли на дыбу… Она застонала…
– Потерпи, Дунюшка, потерпи, недолго уж!
– Тряхай хомут-от! – командовал Воротынский. И у Урусовой руки выскочили из суставов…
– Мотри и кайся, – обратился Воротынский к Морозовой. – Вот что ты наделала! От славы дошла до бесчестия. Вспомни, кто ты и какова роду! И всё оттого, что принимала в дом юродивых…
– Я и тебя принимала, не ты ли урод у дьявола? – перебила его Морозова.
– О! Ты востра на язык, знаю… да царь-от на востроту твою не посмотрел… Где ныне твоё благородие?
– Невелико наше телесное благородие, и слава человеческая суетна на земле, – с горечью отвечала Морозова. – Сын божий жил в убожестве, а распят же был жидами, вот как и мы мучимся от вас.
– Добро! Равняй себя со Христом-те…
– Я не равняю… отсохни и мой и твой язык за такое слово.
– Добро! Поговори-ко вон с ними, их поучи, мудрая! – указал на палачей, которые усердствовали около Урусовой и Акинфеюшки. – Взять и эту! Покачайте-ко боярыньку на качельцах.
Два палача приступили и к Морозовой. Она кротко взглянула им в лицо и перекрестила того и другого.
– Здравствуйте, братцы миленькие, – так же кротко сказала она, – делайте доброе дело.
Палачи растерянно глядели на неё и не трогались. Она ещё перекрестила их. У одного дрогнули губы, глаза усиленно заморгали; он глянул на стрельцов, на Воротынского.
– Делайте же доброе дело, миленькие! – повторила Морозова.
– Дсброе… Эх! Какое слово ты сказала! – как-то отчаянно замотал головой второй палач.
– Ну-у! – прорычал Воротынский.
Палач глянул на него и ещё пуще замотал головой.
– Воля твоя, боярин… вели голову рубить, – бормотал он. – Али на нас креста нету?
– А! И ты! Вот я вас! – задыхался весь багровый Воротынский. – Вяжите её! – крикнул он на стрельцов.
И стрельцы ни с места… Воротынский, с пеною у рта, бросился было на стрельцов; те отступили… Он к палачам с поднятыми кулаками, и те попятились назад…
– Так я же сам! – И он схватил Морозову за руки и потащил к свободному «хомуту»…
К нему подбежал Ларион Иванов, и они вдвоём связали Морозовой руки за спину.
– Спасибо, что не побрезговали, – как бы про себя сказала она.
Подняли на дыбу и Морозову… В это время Акинфеюшку, вытянутую из «хомута», положили вниз лицом на «ксбылу», нечто вроде наклонно поставленного длинного стола с круглою прорезью в верхней части «кобылы» для головы, чтобы во время истязания кнутом или плетьми пытаемого по спине кнут не попадал в голову, и с кольцами по сторонам для привязывания к ним истязаемой жертвы: руки и ноги несчастной прикрутили ремнями к кольцам, и два палача вперемежку стегали её ремёнными кручёными плетьми по голой спине… Белая, нежная спина пытаемой скоро покрылась багровыми поперечными полосами, а вслед за тем из багровых полос стала струиться тёмно-алая кровь…
– О-о-о! – пырвался из груди Морозовой стон отчаяния при виде мучений своей подруги по страданиям. – Это ли христианство, чтобы так людей учить?
– Мы не попы, – злорадно огрызнулся Воротынский. – Те учат словесами, а мы эдак-ту.
– А Христос так ли учил?
– Мы не Христы; де нам с суконным рылом! Прежде всего сняли с дыбы Урусову. Вывихнутые из суставов руки торчали врозь…
– О! Что вы наделали! – залилась несчастная слезами. – Ох, мои рученьки! Креститься мне нечем… ох!
Палачи взяли её за руки, потянули со встряской. Урусова вскрикнула от боли… но руки вошли в свои суставы… Она с трудом перекрестилась…
Акинфеюшку, с кровавою спиною, отвязали от колец и сняли с «кобылы». Урусова, видя её всю в крови, взяла свой белый покров, брошенный палачами на землю, и стала прикладывать им к истекающей кровью спине Акинфеюшки…
– Милая, голубушка, мученица… это святая кровь…
– Слава тебе, спасителю наш… сподобил меня…
– Бедная, горемычная…
Урусова целовала её руки… Лицо Акинфеюшки выражало блаженство…
– Ох, как мне легко, Дунюшка!
Она взяла из рук Урусовой весь пропитанный кровью покров и, отыскав своего палача, подала ему:
– Возьми, братец миленькой, этот покров, снеси его к брату моему кровному Акинфею, отдай ему и скажи: «Сестра-де тебе своею кровью кланяется…» Он тебя не оставит без награждения.
Когда вынули из «хомута» Морозову, то вывихнутые из суставов и ещё не вправленные руки её с широкими рукавами белой срочки представляли подобие распростёртых и запрокинутых назад крыльев…
Урусова и Акинфеюшка упали перед нею на колени и подняли руки, на молитву…
– Матушка! Ангел! Ангел сущий во плоти…
– И крылышки… точно ангел… ах!
– Крыле, яко голубине… матушка! Сестрица!
Но палачи поспешили превратить крылатого ангела в плачущую женщину…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чи я ж тебе не люблю – не люблю,
Чи я ж тоби черевичкив не куплю – не куплю!
Ой, моя дивчинонько!
Ой, моя рыбко!
Выбивал гопака в Чигирине на улице Петрусь, заметая широкою матнею улицу и площадь, в те самые часы, как в Москве, в Ямской избе, шли пытанья Морозовой, Урусовой и Акинфеюшки…
– Добре, Петрусь, добре! – кричала улица. – А ну, хлопче, ушкварь «гречаники».
И Петрусь «ушкварил».
Гоп, мои гречаники! Гоп, мои били!
Чому ж, мои гречаники, вас свини не или…
А на другом конце улицы дудит дуда на весь Чигирин:
Дуд у Дуды ночував,
Дуд у Дуды дудку вкрав…
– Уж дьяволова же сторонка! Вот сторона! – ворчал между тем Соковнин, которому не спалось под этот полуночный гомон. – И когда они спят, дьяволы чубатые? Ну, сторона! А хорошая сторонка, что ни говори… А что-то на Москве теперь? Что сёстры, э-эх!
Мы сейчас видели, что его сёстры…
Глава XIII. МАЗЕПА ПРАКТИКУЕТСЯ
Если бы Соковнин, которому не спалось в эту чудную украинскую ночь, сидя у окна, мог своим взором проникнуть на противоположную сторону улицы, где из-за тёмной зелени сирени, бузиновых кустов, из-за пышных лип и серебристых и стройных пирамидальных тополей выглядывал гетманский палац, то он увидел бы, что и там, за одним окном, полузакрытым зеленью, обрисовывается женская головка с распущенною косою. В этой простоволосой головке он узнал бы свою землячку, боярыню и панию Брюховецкую, которой эта душная ночь не давала спать… Да и не одна духота гнала от неё сон: улица с неумолкаемой песнью, эти думы и воспоминания о Москве, воспоминания, которые особенно разбередили в её душе рассказы Соковнина, и ещё что-то жаркое, охватывающее её, словно объятиями, волнующее кровь до краски в лице, что-то такое, в чём она сама себе не могла бы признаться, – всё это заставляло её метаться в душной постели, разметать косу, которая давила ей голову своею тяжестью, и наконец привело её к открытому окну, у которого хоть дышать можно было чем-нибудь, дышать этим дыханием ночи и зелени, запахом свежей травы, ароматом цветущей липы…
Вон какие-то звёздочки мигают ей в окно с тёмного неба… Как много их, и не перечесть, словно песок морской…
А какой этот песок морской? Она никогда его не видала, да и моря не видала никогда… Говорят, и конца-краю нет морю, а Киян-море и того больше… И стоит вся земля на этом Киян-море, а не тонет она потому-де, что её, землю-ту, держат на спине три кита… Вот велики, поди, киты-те! На что велика московская земля, а всё ещё не до край света раскинулась! Вон тут черкасская земля и тоже велика гораздо, у, велика! А то ещё Польша, а там Литва, а там турская земля, и цесарская земля, и земля галанская, и земля аглицкая, и земля францовская, да ещё Китай-земля, да Персида, да Ерусалим с святою землёю… Эх, сколько земель! А Ерусалим-град, сказывают, на самом пупе земли стоит… Чудно! Аж стыдно подумать… И всё это киты держат на себе, страшно и подумать! А всё бог… А как киты эти, сказывают, маленько ворохнутся, и от того их вороху трус и потоп на земле бывает.
А звёздочки всё мигают, всё мигают… Одна больше, другая поменьше, а то и в маковку росинку есть звёздочки, и не перечесть их… А все божьи очи это – всё ими бог видит, что на земле делается: и её, вдову горемычную, видит господь у окошечка, простоволосу, да ему что! Простоволоса ли, покрыта ли, всё едино: он на душеньку смотрит, на помыслы… И Гришутку он видит, как спит Гриша в своей постельке, убегался с хохлятами да девчатами, в «кострубоньки» играючи… Чудной такой! «Дурна, – говорит, – мамо, московка!»
А на Москву, поди, другие звёздочки глядят, где этим! Далеко больно Москва-матушка живёт… А что царевна Софьюшка теперь? Спит, поди, и все Наверху, во дворце спят… Спала и она там когда-то, давно, когда в сенных девушках была…
Эк их заливаются полунощницы девчаты! Что им? Молоды, горюшка мало… Вон поют:
Йшли коровы из дибровы, а овечки з поля,
Заплакала дивчинонька, край козака стоя:
Ой, куды ж ты одъизжаешь, сизокрылый орле,
Ой, хто ж мою головоньку без тебя пригорне?…
Так и Ивась её, гетман, отъезжал с войском, и она, провожаючи его в далёкий путь, плакала… Недаром плакала… Так и не вернулся… Вернулся, только не он, а его тело, да и тела нельзя было узнать за кровавыми ранами…
Ой, хто ж мою головоньку без тебе пригорне?…
Да, некому «пригорнуть», некому приголубить…
И молоденькая вдова сама чувствовала, что она вспыхнула… жаром опалило её…
Этот молодой козак, запорожец, что приехал от гетмана с вестями, тоже зовут Иваном, Ивасем, Иван Степанович Мазепа[53], какой хороший из себя, ласковый… Только несчастненький такой: всё утешал молодую вдовицу, говорит: «Хорош-де человек гетман был Иван Мартынович Брюховецкий, так злые люди его погубили…» Таково ласково утешал её, вдовицу Оленушку: «Сам-де я, говорит, не изведал доли-счастья в жизни, никто-де меня не любил, и я-де никого ещё посейчас не любил, а уж третий-де десяток изжил, на свете маючись…» Таково жалко его стало, так бы она и положила его бедную голову на свою сиротскую грудь и поплакала бы вдоволь горючими слезами… А какие у него глаза добрые, и Москву-то он таково любит! «Нигде бы, – говорит, – и жить не хотел, окроме Москвы белокаменной…» И руки у неё так целовал… стыд какой! Она так вся и сгорела, так и пополовела со стыдобушки… И что это с ней сталось? Так вот в душу-то самое, в сердечушко в ретивое так и заполз лаской да печалию своею этот Мазепа… И Гришутка полюбил его, козака этого, всё с ним играл…
Нехай тоби зозуленька, мени соловейко,
Нехай тоби там лёгенько, де моё серденько:
Мени буде соловейко рано щебетати,
Тоби буде зоауленька раненько кувати…
Это голосок Явдошки… Счастливая!
А на Москве-ту, на Москве что, и не приведи бог! И крест стал не крест, и молиться люди не ведают как… За крест в срубы сажают да огнём жгут… А Федосьюшка-ту Морозова, а Урусова Овдотьюшка, господи! Мученицами стали за крест святой… И что с Москвой поделалось? С чего всё это? Знамо, нечистый насеял зла в Московском государстве… И Аввакума протопопа заслали, куда ворон костей не заносит, языки попам да монахам режут… Ах, горькая, горькая родимая сторонушка!.. Люди, сказывает Соковннн Фёдор, в лесах, что звери, прячутся, за рубеж бегут… Ах, Москва, Москва бедная!
А тут, ишь заливается:
Ой вийду я над ярочок, пущу голосочок:
Дзвонн, дзвони, голосочку, по всему ярочку,
Нехай мене то зачуе, що в поли ночуе…
Что она это машет, липовая веточка? Куда манит? Некуда… На родимую сторону запала дороженька, заросла горьким осинничком да разрыв-травой…
А там, за Тясмином, соловушки поют… И у них «улица» своя: и Явдошка такая ж там, и Петрусь… А может, есть меж ними и такая ж горькая сиротинка, как она, Оле-нушка Брюховецкая… Как не быть?! Может, коршун заклевал её соловушка…
Добрый, добрый, ласковый Мазепа… Имя-то какое, Мазепа… Иванушка, Ивась Мазепинька… Кажись, и теперь руке жарко от его губ, и всей жарко, стыдно! Стыдно и хорошо таково…
Никто-то не любил его, бедненького, и он никого не любил также… Бедный Мазепинька!..
А может, и на Москве теперь поют, «просо сеют» девушки:
Уж я просо сеяла – сеяла…
Где петь! Не до пенья ноне на Москве… плачут люди да молются отай, чтобы не увидали злые приставы…
Покатилась, покатилась по небу звёздочка и сгасла… Которая это? Куда покатилась? Где сгасла? Точно она, горькая сиротинка, покатилась с московского неба и сгасла тут, в черкасской земле… Не светить ей больше с московского небушка…
А отсюдова Мазепа, сказывал, поедет с универсалами да с листами от гетмана Дорошенка к тогобочным козакам, и в Полтаве, сказывал, будет, и в Гадяче, и могилке, сказывал, покойного гетмана Брюховецкого поклонится… Добрый он, Мазепинька, добрый…
Просил в сумерки выйти в садочек побеседовать… Тоскует он, бедный, по матушке по своей. «Так, – говорит, – хоть об матушке, об родителях побеседуем…» Нет, стыдно… как можно в сумерки! Ещё кто увидит да осудит… А жаль его, такой добрый…
Она встала и тихонько пошла в глубину комнаты: там в своей постельке что-то возился Гриць и шептал что-то… Она прислушалась; мальчик во сне бормотал:
А в нашего «Шума»
Зелёная шуба.
«Шум» ходит по диброви…
– Ах, дитятко! Всё «Шумом» бредит… наигрался, кажись, так нет – мало: и во сне играет…
Она перекрестила его и, нагнувшись к постельке, тихонько поцеловала горячую головку мальчика…
– Мама!
– Что, сынку? Спи, дитятко.
– Дядя Ивашечко прийде завтра?
– Какой дядя Ивашечек?
– Дядя Мазепа.
Молодая мать опять зарделась, опять ей жарко стало… Она натянула на плечи спустившуюся сорочку…
– Прийде, мамцю?
– Должно, придёт… А тебе на что?
– Вин казав, що на свого коня мене посадить.
– Добро, добро, сынок, спи, господь с тобой.
– Я пойду на конику…
– Добро, добро, баинькай… А-а-а-а…
У кота-кота-кота
Колыбелька золота…
– Не хочу, мамо, московськои… не треба…
– Ну-ну, добро…
– Спивай нашои, мамо, про котика… про нашого, а не про московського котика…
– Добро, добро… спи только…
А-а – котино;
Засни, мала детино.
Ой на кота воркота,
На детину дремота…
Хоть она и знала уже украинские колыбельные песни, наслушалась их вдоволь, но выговором русила их…
– Ни, мамо, спивай другой, як сон ходить.
– Спою, спою… Спи тихохонько…
Ходит сон по долине
В червоненькой жупанине.
Кличет мати до детины:
Ходи, соньку, в колисоньку,
Приспи мою детиноньку…
Гриць, как в воду канул, спал уже: тихое, ровное дыхание обнаруживало, что он заснул безмятежным детским сном.
Мать перекрестила его и снова отошла к окну; сон всё не шёл к ней… Она снова задумалась о Мазепе, о Москве, о тамошней смуте…
«А ко мне нейдёт сон и в «червоненькой жупанине», – думала она, опять глядя на звёздное небо и невольно прислушиваясь к неугомонной «улице». – Сон нейдёт, так Мазепа хотел приттить… ах, срам какой! Ко вдовушке-ту… А вот и Гришутка полюбил его, добрый он, хороший человек, а всё ж стыднехонько мне… хоть, кажись, так бы и кинулась ему на шею, срамница… Что-то он завтра скажет? Говорит, что будет просить за меня гетмана Петра Дорофеича, чтоб на Москву меня отпустил. «Хоть и больно, – говорит, – будет оттого моему сердцу. Точно вы, – говорит, – родная мне, так по душе пришлись, словно бы я вас, как сестру родную, полюбил, жалеючи вас…» Да, добрый он, хороший братец мой родненький, Иванушка-светик… Приди он теперь, так бы, кажись, закрывши глаза со стыда, и повисла у него на шее, слезами бы вся изошла на радости… Такой он добрый! Нет, полно-ка! Не стану о нём думать; буду думать о Москве: что там ноне деется, как людей за крест мучат, как Федосьюшка страждет за веру…
Нет, горька эта думушка… горемычная моя родная сторонушка, вот и ты ноне, как в песне поётся, горем горожена, а слезами поливана…
Ах и не томите же вы моё сердечушко вашими песнями! И без того мне горько-тошно, а они, как нарочито, про меня поют, как из «вишневово садочку зозуленька вылетала» да как она на сине море поглядала, как на том море козаченько потопал да своей горькой жёнушке-вдовушке отповедь сказал:
Да нехай моя жёнушка меня не ждёт,
Да нехай она замуж идёт,
Нехай копает яму глыбоку
Да садовит калину червону…
А! Шутка сказать: пущай не ждёт, пущай замуж идёт…
А! Бог с тобой, родная сторонушка московская, за горами ты высокими, за реками за глыбокими… Уж бы скорее утречко наставало, может он, Ивашечко, Мазепа, придёт, душу мою словом отогреет».
Что-то зашуршало под окном, словно шаги чьи-то… да, шаги, точно шаги, только никого не видать…
Ещё шаги за вишнею… Ходит кто-то…
– Хто се тут? – слышится за кустом чей-то едва уловимый шёпот.
– Се я, ясочко моя, зоре моя вечерняя, – шепчут в отч вет.
– Ох! Як же я ждала тебе, мий голубе…
– Сердце моё, рыбко моя! Иди ж, иди до мене… на рученьки…
– Ох, любимый мий, о-ох!
«Кто бы это был? Петрусь разве с Явдохою? Так нет: вон слышно Петрусев голос, вон как заливается».
Ой, сон, мати, ой сон, мати, сон головоньку клонить.
Ой тож тоби, мий сыночку, тая улиця робить…
«Кому ж бы тут быть в садочку?»
Она прислушивается… что-то стукает: тук-тук-тук, тук-тук-тук… Это её сердце стучит, так, кажется, и подымает горячую сорочку…
– Так ты мене любишь, моя зоренько?
– Коли б не любила, не выйшла б… Чуешь, як моё серденько стукотить?
– Чую-чую, моё золото червоне…
– Ох, о-ох! Полегше, соколику, задушишь мене…
Слышно, как целуются… Молодая вдовушка огнём горит… Вот так бы и она целовала и обнимала Мазепиньку, если б не постыдилась, вышла к нему… Да какой в этом грех? Вот любит же она и целует Гриця своего, отчего б и его, Мазепиньку, не любить?…
– Гетьман другого хотив з листами послать, так я сам напросився, щоб тилько тебе, моя ясочко, повидати…
– Ой, мий соколоньку… А вин же ж не дознается, що мы с тобою любимося?
– Де дознатись? У меня на губах не остануться слиды от твоих губонькив, серденько.
– Ох! А мени сдаеться, що на моих губах так и остануться твои устоньки жаркий…
– А мои вусы остануться?
– О! Який бо ты жартливый…,
А там, на улице, «гукают» да выводят голосно:
Ой, зийди ты, зийди, зирочко ти вечирняя,
Ой, выйди, выйди, дивчинонько моя вирная.
– А я вже думала була, що ты не мене любишь…
– А кого ж, сердце?
– Та нашу ж московочку.
– Ох, лишечко!
– Та вона ж така гарнесенька, русявенька, кирпатенька…
– А ты краща над ней…
«Московочка», опершись на подоконник, так и зарделась от этих слов, как маков цвет… это про неё говорят…
Кто ж бы это? Она, что там целуется с ним, кажется, сама пани гетманова, Дорошенкова жена; а кто он?… Уж не Мазепа ли? Ох! Так сердечушко и упало у Оленушки… Нет, не он, не он! Мазепа сам сказывал, что ещё никого не любил и его, бедненького, никто не любит… Это не он… Вот если б Мазепа её, Оленушку, у гетмана вымолил, да на Москву её отпустили бы, да с нею бы и сам он, Мазепинька, на Москву съехал, вот бы хорошо было… Пущай там за крест люди страждут, бог с ними!.. А каким крестом сам Мазепа крестится? Она что-то не заприметила: должно быть, «пучкой» крестится, как все черкасы… Да что ж из того, что «пучкой»? Черкасы такие ж христиане, да и угодников у них в Киеве сколько! И на Москве стольких нету…
Грицю, Грицю, до роботы!
В Грици порваны чоботы!
Грицю, Грицю, до телят!
В Гриця виженьки болят…
Это кто-то весёлую отхватывает на улице… Гриць, маленький Гриць, так любит эту песню…
– Я понесу тебе на ручках, ягидко моя…
– Ох, куды, куды?…
– Та туды ж… на скошену травку… як на постильку…
– Ох, Ивасю… я боюсь… боюсь…
– Яка ты лёгенька…
– О, який бо ты… любый… ох!..
Оленушка так и перевесилась за окно… Из-за куста мелькнуло что-то белое и красное… Брызнули подковья… сабля…
Он, обхватив её поперёк, как малого ребёнка, несёт через садик, а она обвилась руками вокруг его шеи…
Она, это ясно, пани гетманова, Дорошенчиха… А он, ах, господи! Это Мазепа… Мазепа!..
Сдавив себе горло рукой, Оленушка с глухим стоном упала на свою вдовью постель… А с улицы доносилось:
Постиль била, стина нима, ни с кем размовляти…
Выплакавшись до последней слезинки, молодая вдова уснула только к утру.
Глава XIV. ЦАРЕВНА СОФЬЯ ЗА ГЕОГРАФИЕЙ
А в это утро в селе Коломенском, в царском дворце, о ней, о бывшей княжонушке Долгорукой, а ныне гетманше-вдовице, вспоминали и жалели.
Старая мамка рано взбудила царевну Софьюшку. Не хотелось старой будить царевну, так хорошо спала она, разметавшись в постельке, и так сладко улыбалась да шептала не то «батюшка свет» – царя-батющку, должно, видела во сне, – не то «Васенька-соколик» какой-то; а всё ж надо было разбудить: сама царевна крепко-накрепко наказывала разбудить, «урки-де учить» надо… «И на что это девку урками мучат? – думалось мамушке. – А всё-таки нельзя не разбудить; приказывала: коли-де, сказывала, выучу урки-те, так батюшка-царь обещал взять её с собой действа смотреть».
И царевна сидит у стола, такая розовенькая, иногда позёвывает со сна, крестит свой розовый ротик и всё учит что-то очень мудреное, что задал ей этот Симеон Ситианович.
Перед царевной книга рукописная, а на столе глобус. Царевна то в книгу заглянет, то на потолок с узорами и покачивается.
– Ангул-ангул – угол, аркус – дуга, аксис – ось, екватор – уравнитель… Екватор, екватор, екватор, какой трудный!
Потом, закрыв глаза ладонями, повторяет эти слова наизусть и всё спотыкается на экваторе…
– Евкатор, евкатор, ах, какой трудный!
– Нет, не евкатор, а екватор, екватор… Глянула в книгу, топнула ножкой:
– Нет, не евкатор, а екватор, екватор…
А мамушка сидит у окна с чулком и тихо шевелит губами, считая петли.
– Зона торрида – пояс горячий, или знойный, зона фригида – пояс хладный, или студёный…
– Ишь, диво какое! – удивлённо качает головой мамушка. – Нашли вон пояс горячий… А с чево ему быть-ту горячим?… И чему учат! Не диви бы божественному…
– Ах, мама, ты не знаешь! – защищает царевна своего учителя. – Это пояс в географии, а не такой пояс, какой носят…
– Ну и у этой там егорафьи с чего быть поясу горячу?
Царевна смеётся самым искренним смехом.
– Ах, мамушка, какая ты смешная! «Егорафья»!.. География, а не егорафья…
– Ну, бог с ней, матушка царевна, с этой евграфьей! Вон сестрицы твои, другие царевны, ничему такому заморскому не учены, а всё-таки, бога благодаря, здоровёхоньки живут… Да и то сказать, ты у батюшки-царя любимое дите…
А царевна опять покачивалась над книгой да закрывала глаза ладонями, чтобы запомнить разные премудрости и не ударить лицом в грязь перед батюшкой.
– «Свойства и эффекции, которые земному кругу от течения солнца и звёзд являющегося приключаются, суть: единого места периики суть антиков того места антиподы и антиподов того места антики». Антики, периики, антиподы, ах, как трудно! Антиподы, антиподы, антики…
Она встала и начала ходить по терему, повторяя и прищёлкивая пальцами: «Антики, периики, антиподы, антики, периики…»
Она глянула в окно. Там часовые стрельцы стоят… А пруд такой тихий, по нём лебеди плавают… Увидали её, свою любимицу царевну, и от радости начали крыльями махать… Царевна вся порозовела от этого лебединого привета… Надо их, лебёдушек, покормить… да и учиться надо…
– «Тако единого места антиподы суть антиков того места периики, и перииков антики», – снова уткнулась она в книгу. – «Сие от дефиниции довольно ясно есть и не требует доказания…» Ясно! То-то ясно!.. Ах, мамушка, неясно!
– Что ты, моя золотая! Совсем светло…
– Нет, в книге неясно…
– Ну, глазки, поди, притомила, отдохни…
– Нет, глаза не устали, а не пойму!
– Так у учителя спроси, моё золото.
– Ах, какая ты! – досадовала юная царевна.
И вдруг ей вспомнилась курносенькая, с розовыми щеками Оленушка, княжна Долгорукова, что ныне вдова-гетманша Брюховецкая…
– Что-то она поделывает теперь там, в черкасской стороне?
– Кто, золотая?
– Княжна Оленушка, гетманша.
– В полону она, бедная, сказывают; как убили черкасы её мужа, так Петрушка Дорошонок, сказывают, взял её к себе в полон.
– Ах, бедная! Что ж батюшка не отымет её у Дорошенки? Я попрошу батюшку.
– Да вот Фёдор Соковнин, поди, скоро привезёт от неё весточку, а може, и грамотку.
– Да… А вот сёстры его, бедные, Морозова да Урусова… Я батюшку про них спрашивала, так говорит, закону-де супротивны стали.
– О-о-охте-хте! Где уж супротивны!.. Всё этот Никон…
Царевна как бы опомнилась и снова нагнулась над книгой.
– Ну, мамушка, не мешай мне.
– Что-й-то ты! Кто тебе мешает? Ты мне мешаешь, вон петлю спустила…
– Ну-ну…
Царевна встала и, глядя в потолок, стала спрашивать сама себя так, как её спрашивал Симеон Полоцкой.
– «Дистанции мест пременяются ли?» – «Пременяются: путевая убо мест дистанция овогда большая, иногда меньшая быть может; но истинная и кратчайшая дистанция географическая пребывает тая-жде, разве егода познаеши, что суперфиция земная прервётся или отделится. Места же зде разумеваем пункты земные недвижимые. И тако ежели суперфиция между двоих мест срединоположенная учинится высшая, то будет и дистанция мест учинена большая, а буде низшая, то будет меньшая».
Это она проговорила почти одним духом наизусть, так, что даже вся раскраснелась.
– Ай да умница! Не забыла, – похвалила она себя. – Поцелуй же себя.
И она подбежала к овальному зеркалу, висевшему на стене, и поцеловала своё отражение.
– Ба-ба-ба! – послышался вдруг возглас в дверях терема. – Ай да девка! Сама с собой целуется…
Мамушка вздрогнула и уронила чулок. Царевна отскочила от зеркала. В дверях стоял царь Алексей Михайлович и улыбался своею доброю улыбкою. И ласковые глаза, и розовые щёки – всё так и светилось нежностью.








