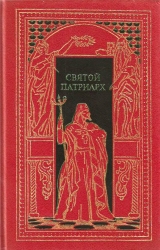
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 37 страниц)
– Коли-де придёт ко мне великого государя милостивая грамота, тогда отпущу, а теперь не пущу никого.
Когда же князь Прозоровский послал к нему с той же просьбой двух пятидесятников стрелецких, то одного из них, «грубиана», Степан Тимофеевич убил, а другого отпустил живым, но ни с чем.
Затем Степан Тимофеевич с своими молодцами опять вышел в море и на этот раз уже громил прибрежные владения шахов персидских, потомков царей Кира, Камбиза, Ксерксов и Дариев[112]. Мало того, он послал в Испагань[113] трёх молодцов в качестве своих послов, которые и были приняты с честью. А между тем сам Степан Тимофеевич успел уже взять город Фарабад[114], разграбить его, сжечь до основания, разорить увеселительные дворцы шаха, – и всё это в ожидании возврата своего почётного посольства. Но молодцов скоро раскусили в Испагани, – и шах отправил против Степана Тимофеевича флотилию из семидесяти судов.
– Плёвое дело! – сказал Степан Тимофеевич своему есаулу, Ивашке Черноярцу. – Ребята! громи их!
И ребята разгромили флотилию. Адмирал, командовавший ею, астиранский хан Менеды, бежал с позором, оставив в добычу Степану Тимофеевичу красавицу тринадцатилетнюю дочку Заиру и сына Рустема.
Когда юную полонянку привели к Степану Тимофеевичу, он, грубый и сильный, человек железной воли и стальных нервов, онемел от изумления: он даже не подозревал, чтобы на земле могла существовать такая поразительная красота! Это смешение чего-то нежного, как лилия, с огнём, с огненным темпераментом, сверкавшим в чёрных огромных глазах, это личико ребёнка с пышною чёрною косою, гибкость и упругость юных членов, невыразимая грация в движениях – всё это отуманило буйную голову атамана. Он полюбил её всею силою своей огневой души: тигр по природе, он сделался кроток и робок с своею пленницей.
– Ребята! – сказал он своим молодцам. – Ежели кто дотронется до неё пальцем, хоть ненароком, не до неё, а хоть до края её одежды, – того я зарежу. Знайте это!
И он убрал её горенку на своём струге с неслыханною роскошью: золото, серебро, жемчуга, алмазы, парчи, атлас – все награбленные сокровища брошены к маленьким ножкам Заиры.
И сам Степан Тимофеевич стал другим человеком. Молодцы не узнавали его. По целым часам он сидел в горенке своей красавицы и выходил оттуда сначала мрачный и задумчивый, а потом всё светлее, и радостнее, и ласковее ко всем. Кровь, которую он прежде проливал, как воду, теперь стала для него противна. Он прекратил разбои. Что-то мягкое и тихое стало проглядывать в чертах энергического лица. Казалось, он теперь стыдился того, что прежде считал своею славою. В нём, казалось, опять проснулся тот человек, который пешком прошёл чрез всю Россию, от устьев Дона до Ледовитого океана, чтоб только помолиться и поплакать над могилами соловецких угодников.
В это лето Каспийское море было очень спокойное – ни бурь, ни ветров, и казацкая флотилия иногда по целым неделям стояла в открытом море неподвижно. В тихие, тёплые вечера казаки часто пели свои грустные, мелодические песни о «тихом Доне», о раздольных степях, о разлуке с милыми.
В это время они часто видели, что их атаман, теперь такой тихий и кроткий, выходил вместе с своею юною пленницей из её роскошной горенки, и по целым часам в стороне от всех они сидели вдвоём, тихо разговаривая или любуясь зеркальною поверхностью моря, в котором отражались звёзды. Заира умела говорить по-русски, потому что с детства за нею ухаживала любимая рабыня её отца, русская полонянка из казачек. В эти тихие вечера, под грустное, мелодическое пение своих молодцов, укрощённый чистою любовью тигр, их «батюшка атаманушка» Степан Тимофеевич, рассказывал Заире о своём родном Доне – что и там такое же голубое небо, как и у них, в Персии, что и звёзды, которые она видела с детства в родной Астирани и в Испагани, такие же и на Дону, над его тихими водами и над широкими полями.
Сначала робкая и часто плакавшая, теперь Заира, по-видимому, свыклась с своим положением. И неудивительно: теперешнюю свою жизнь на море она уже не хотела бы променять на прежнюю, когда она затворницей жила в отцовском серале. Она полюбила своего кроткого и ласкового, подчас бурного в своих ласках, повелителя: он теперь заменил для неё весь мир. Она прежде не знала, что такое любовь, а теперь она полюбила первою, чистою и нежною, как она сама, любовью. Зачем же ей Персия, отец, всё, что не могло ей дать того, что дал ей вот этот самый сильный, как лев, и кроткий, как её египетский голубь, мужчина, этот грозный атаман, победитель её отца и самого шаха? Он повезёт её на Дон; он бросит свои разбои и будет атаманом вольного Дона. Он сам говорил ей это, а она, положив свою детскую головку на его плечо, жадно слушала своего богатыря, как она его называла, а он тихо гладил и целовал её шелковистые волосы. Любовь действительно переродила его.
Вот почему, когда князь Прозоровский выслал против него своего товарища, князя Львова[115], с отрядом стрельцов и когда князь Львов, не уверенный в успехе, послал к Разину парламентёра сказать, что если он возвратит захваченные им на Волге суда и казённые пушки, а также уведённых с собою служилых людей и пленников, то может свободно воротиться на Дон с своими молодцами, – вот почему это страшилище, переродившееся под ласками обожаемой девушки, смиренно склонило перед князем Львовым свою гордую голову: Разин присягнул на кресте и евангелии, что навсегда бросает ненавистные ему разбои, и с своей ватагой явился в Астрахань.
Вместе с есаулом и другими казацкими старшинами Разин сошёл с своего струга и направился в город, прямо в приказную избу. Заира долго стояла на борту атаманского струга и любящим взором провожала приручённого ею тигра: она так любила его!
В приказной избе, где его ждали князь Прозоровский и князь Львов с другими властями города, Разин смиренно положил на стол свой бунчук – «насеку», знак атаманской власти: этим он изъявлял полную покорность.
– Повинную голову не секут, – сказал он кротко со вздохом.
Князь Прозоровский и все бывшие в избе глазам не верили, чтоб это был тот ужасный человек, перед которым все трепетали. Даже во взоре его было что-то мягкое и задумчивое.
«Дивны дела твои, Господи!» – шептал князь Прозоровский, всматриваясь в этого непостижимого человека.
XX. Клевета
Вот почему сегодня, в Натальин день, князь Прозоровский с таким торжеством праздновал именины своей любимицы Натальи: он принимал у себя такого дорогого гостя, которому рад бы был и царь Алексей Михайлович – таким страшным стало на Руси его имя! – и вдруг он – такой покорный, смирный, ласковый, обходительный.
Одно всех удивляло на этом пиру: Разин, который прежде предавался буйному разгулу, которому понятны были только два наслаждения – резня и попойки, – этот Разин теперь почти ничего не пил.
Его угощала из своих рук сама княгиня, мачеха княжны Натальи, взятая мужем обратно из её деревенской ссылки вместе с сыновьями, когда князя послали на воеводство в Астрахань, – и Разин благодарил любезную хозяйку, но пить – почти не пил.
– Аль в монахи постригся, Степан Тимофеевич? – улыбалась княгиня.
– Точно, матушка княгиня, хочу свой маленький скиток завести, – уклончиво отвечал Разин.
Но это не мешало другим гостям пить и веселиться. Пили здравицы – и каждую такую здравицу сопровождали пушечные выстрелы с крепостных башен, потому что за окном, где происходил пир, стояли махальщики с зажжёнными факелами, которыми и передавали сигналы на крепостные башни. Пили за здоровье царя, царицы и всей царской семьи. Пили здравицу всему «тихому Дону» и отдельно – «славному сыну его – Степану Тимофеевичу».
С необыкновенным женским чутьём княгиня Прозоровская догадалась, однако, что происходило в душе их дорогого необычайного гостя, с известием о покорности которого уже поскакал гонец от астраханского воеводы в Москву к царю Алексею Михайловичу. Княгиня заговорила с ним о его молоденькой пленнице.
– Она, чаю, бедненькая, скучает теперь там одна на струге, – сказала она.
– Нет, матушка княгиня, она привыкла, – отвечал Разин.
– А всё ж, чаю, плачет по отцу, по матери.
– Поплакала малость прежде, а ноне нет.
– Ах, глупая я! – спохватилась княгиня. – И невдомёк мне послать ей гостинца.
Разина это, видимо, тронуло. Княгиня же между тем взяла серебряный поднос, наложила на него прекрасных груш, винограду и других, большею частью восточных, сластей: кишмишу, рахат-лукума, изюму, винных ягод и пр.
Тогда Разин подозвал своего персидского толмача, Хабибуллу, который был в числе его послов у шаха, приказал отнести поднос с гостинцем на его струг и вручить от имени княгини Заире Менедовне, как он называл свою пленницу при других.
Чёрные восточные глазки Хабибуллы почему-то блеснули радостью, когда он принимал поднос из рук княгини.
– Кто идёт? – раздался оклик с атаманского струга, когда в темноте на его сходни стала подниматься какая-то тёмная фигура.
– Это ми, Хабибулла с гастынцам, – отвечал гортанный голос.
– А! это ты, Хабибулка! с каким гостинцем? ко мне?
– Нэт, Иван Петровичам, не тебе, а ханым Заир Менеды.
– Какой гостинец?
– Кишмиш, инджир, рахат-лукум, грушам.
– От кого? от батюшки Степана Тимофеевича?
– И от батушка, и от матушка.
– От какой матушки?
– От самово княгин, от матушка воеводиха.
– А что атаман?
– Атаман скучил, ничаво не едил, ничаво не пил, толка хадыл и молчил.
– А наши ребята пьют здорово?
– Ай-ай как пиют! всо большим кавшам.
Это разговаривали посланный Разиным к Заире с фруктами и другими сластями его толмач, персианин Хабибулла, и есаул Разина, Ивашка Черноярец, остававшийся на атаманском струге в качестве охранителя прекрасной персианки.
– А что ханым скучил адын без батушка? – спросил Хабибулла.
– Вестимо, скучает, – отвечал есаул.
– Тэперь нэ будыт скучил.
И Хабибулла направился к роскошно убранной горенке Заиры, откуда светился огонёк.
Заира сидела на богатом персидском ковре с брошенными на него шитыми шелками подушками и играла с маленькой белой собачкой, которую она учила служить на задних лапках.
Робко вошёл в уютную светличку Хабибулла и, припав на одно колено, поставил перед Заирой поднос с фруктами.
– А это ты, Хабибулла, – сказала персианка на своём родном языке. – От кого это?
– От княгини, от супруги воеводы, – отвечал Хабибулла тоже по-персидски и приложил руку ко лбу и к сердцу.
Прелестное личико Заиры зарумянилось. Она поправила на шее нитку жемчугов и в смущении спросила:
– А разве княгиня меня знает?
– Вероятно, знает от батюшки Степана Тимофеевича, – был ответ.
– А что батюшка атаман? – спросила девушка.
– Он скучает – ничего не пьёт, не ест, как ни увивается около него княгиня.
Это известие, видимо, встревожило девушку. Она как-то вся встрепенулась.
– Скучает, говоришь? – с боязнью спросила она.
– Скучает, ханым.
– Отчего же? не болен ли он? ты не заметил? – продолжала тревожно спрашивать девушка.
– Этого, ханым, не заметил, – уклончиво отвечал персианин, – а замечаю только, что у нас, с приездом в Астрахань, что-то не ладно пошло дело.
– А что? разве воевода сердится?
– Нет, ханым, не воевода, а его жена, – загадочно отвечал Хабибулла.
– Что его жена? она сердится? – живо заговорила девушка.
– Да, и сердится, и льнёт к нему, как гурия, – был ответ.
Этот ответ ещё более встревожил Заиру.
– А она молоденькая? хороша собой?
– И молоденькая, и красавица.
Розовые щёчки Заиры мгновенно покрылись бледностью. Она, как раненый тигрёнок, вскочила с ковра. Глаза её горели.
– Говори всё, что знаешь! – схватила она за руку Хабибуллу. – Говори! Он знал её прежде?
– Знал, ханым, – угрюмо отвечал персианин.
– И?.. говори же! говори все! – страстным шёпотом настаивала девушка.
– Что мне говорить!.. Известное дело… Они спознались раньше… воевода стар.
Бедная девушка упала на ковёр и горько заплакала, уткнув своё личико в подушку.
У Хабибуллы глаза сверкнули плотоядным огнём. Он стал перед девушкой на колени и, нагнувшись к ней, страстно шептал:
– Не плачь, ханым, не печалься, звезда Востока. Я отвезу тебя домой, в Персию, к отцу. У меня уже и буса изготовлена и снаряжена – богатое и прочное судно, которое и доставит нас в Персию. Завтра же ночью мы и бежим отсюда. Завтра атаман назначает пир у себя на струге – зовёт к себе в гости и воеводу с женой…
– С женой? – как ужаленная вскочила девушка с подушки.
– Да, с женой, – отвечал соблазнитель. – Так ты сделай вот что, жемчужина Востока: русские любят, чтоб на пиру их угощали жёны хозяев. Ты здесь хозяйка – ты и угощай их завтра. Завтра атаман будет пить, потому что если хозяин не пьёт, то и гости не будут пить. Атаман должен будет пить – и напьётся пьяным. Казаки все перепьются и уснут. Уснёт и атаман как убитый. Тогда я тихонько приеду в лодке и возьму тебя на мою бусу. А чтоб за нами не было погони – я и это устроил. Я подкупил одного персианина, моего приятеля, который послезавтра, когда мы уже будем далеко от Астрахани, придёт сюда на струг и объявит, что ночью он видел, как с атаманского струга какая-то женщина бросилась в Волгу и утонула, что он кричал, чтоб со струга ей подали помощь, но со струга никто не откликнулся – все спали мёртвым сном; что он сам отыскал у берега лодку и бросился искать утопленницу, но так и не нашёл – она пошла ко дну. Так бежим, солнце Востока? Всё равно, атаман разлюбил тебя, променял на прежнюю возлюбленную.
Девушка опять горько заплакала, уткнувшись личиком в подушку. Хабибулла утешал её как маленького ребёнка – гладил её головку, говорил нежные слова, тешил её возвратом на родину.
Неопытная как младенец, она на слово поверила хитрому и своекорыстному обманщику, и её охватило чувство полной беспомощности. Она очутилась одна вдали от родины. Брата её, взятого в полон вместе с нею, Разин давно отправил назад к отцу, так как мальчик очень тосковал по родине. Девушка же с детскою верою и с детскою нежностью привязалась к атаману, который был с ней так добр и ласков – добрее и ласковее отца; она скоро полюбила его первым, беззаветным чувством молодости, сосредоточила на нём весь свой мир, – и вдруг! этот её кумир обманывал её: он любил другую.
Что же ей остаётся? бежать от него? Но она не в силах это сделать: она любит его, он для неё все.
Но вдруг в ней зашевелилось сомнение в искренности слов Хабибуллы. А если он обманывает её для своих целей, чтоб получить богатый выкуп от отца? К ней воротилась надежда, и она со всею страстью южного темперамента бросается на шею Хабибулле.
– Именем Аллаха и его пророка умоляю тебя – скажи: ты пошутил? ты выдумал на атамана? Он не любит этой русской женщины? – порывисто шептала она.
И Хабибулла страстно ласкал её…
Но если б только он видел, что с самого того момента, как он вошёл к Заире, Ивашка Черноярец змеёй подполз к освещённому окошечку Заириной каюты и всё видел, и всё слышал, что там делалось и говорилось, – он окаменел бы от ужаса.
Ивашка знал персидский язык – и всё слышал…
Разин воротился с воеводской пирушки очень поздно. Его встретил есаул Ивашка, и, отведя в сторону, долго шептал ему что-то. Движения, которые делал атаман, слушая своего есаула, и порывистое дыхание его богатырских лёгких обнаруживали, что он глубоко взволнован.
Войдя потом осторожно в горенку Заиры, он, при свете сильно нагоревших восковых свеч канделябры, увидел, что девушка, горько наплакавшись, уснула тут же на ковре невинным сном младенца. На длинных ресницах её ещё блестели слезинки. Рядом с нею спала собачка – и та не проснулась.
Разин стал перед нею на колени и с глубокой нежностью и тоскою долго смотрел на милое личико ребёнка.
Из Астрахани доносился одинокий гул церковного колокола: то на соборной колокольне били полночь. Было тихо кругом. Слышно было только, как журчала волжская вода под килем струга и плескалась около его крутых боков.
Разин с нежностью трижды перекрестил спящую девушку, с глубокой мольбою поднял глаза к небу, встал с ковра, тихо потушил свечи канделябры и неслышными шагами вышел в свою каюту.
XXI. «На ж тебе– возьми!»
На другой день все заметили, что атаман был как-то особенно задумчив. Иногда он встряхивал своей курчавой головой, как бы отгоняя от себя докучливую мысль. То иногда подолгу останавливался у борта своего струга и как бы бесцельно глядел куда-то вдаль, ничего не видя.
Он, однако, с утра отдал приказание своему есаулу, Ивашке Черноярцу, всё приготовить для предстоящего пира, так как он ожидает к себе в гости воеводу, князя Прозоровского, его товарища, князя Львова, и некоторых других представителей власти.
– Чтобы пир был на славу! – сказал он.
Вчерашнее сообщение о подслушанном им у Заиры и о том, что он вообще видел, глубоко поразило Разина. Конечно, он далёк был от мысли, чтобы его маленькая Заира была не искренна, чтобы она обманывала его, – он этого никогда бы не допустил! Она такой ребёнок! так наивна в своих ласках и признаниях, так неопытна. Но это же самое может и отнять её у него, а он так полюбил этого ребёнка. Ведь она же, по-видимому, не понимала вчера, какие чувства заставляли Хабибуллу утешать её, гладить по головке, обнимать; она принимала эти утешения и ласки мужчины, как ласки няни. Но в ней могла проснуться от этих ласк и женщина, как она проснулась в ней от его ласк, – и всё это будет в ней невинно, искренно, и сама она не сумеет дать себе отчёта в своих чувствах. Как ему обвинить её за это? как обвинить ребёнка, который тянется к огню, не зная, что такое огонь!
И как же после этого на такой зыбкой почве основывать своё счастье!
Теперь Разин только в первый раз задался этой мыслью. Конечно, мысль эта в душе казака слагалась в иной форме. Но он в данном случае думал так же логически, как и всякий другой умный человек думал бы на его месте: человеческая логика и в XVII веке доходила до известных умозаключений тем же путём, как и теперь, особенно же в области чувства. А Разин был, бесспорно, умный человек, богато одарённая натура, которая, смотря по обстоятельствам, могла быть направлена и на величайшее добро, и на величайшее зло.
Случайная любовь к такому невинному, чистому созданию, как Заира, повернула его на добро, разбудила в его богатой душе лучшие, благороднейшие её силы. Он разом сделался добр, мягок, возненавидел жестокость, грубость. Он перестал пить.
И вдруг вчерашний случай чуть не разбудил в душе прежнего Разина-зверя. Он шёл в каюту своей милой девочки, чтоб растерзать её за одно прикосновение к презренному татарину-ренегату. Но когда он увидел её невинное спящее личико с остатками слёз на ресницах, он стал перед нею на колени и с материнской нежностью и благоговением стал крестить её.
Что же будет дальше? Неужели для такого непрочного хрупкого счастья он должен отречься от самого себя, проститься со славою, с властью, с громкими подвигами? Он, атаман целого войска и брат казнённого атамана же, – неужели он должен отказаться от всего, даже от мести за позорную смерть брата, и похоронить себя заживо в глухой донской станице или на каком-нибудь хуторке!
А отказаться от неё, от этой милой девочки, от своего счастья, чтоб это милое дитя досталось какому-нибудь презренному холопу Хабибулле, а не ему – так другому! Он чувствовал, что это выше его сил. Он так любил её! Для неё он решился пожертвовать славой, для неё он позорно преклонил свой бунчук перед воеводой, которого он мог когда угодно повесить; он всё для неё бросил. Когда он держал её в своих объятиях, а она, ласкаясь к нему, шептала самые нежные слова, он искренно решился всем пожертвовать для неё.
И теперь уступить её другому! Нет, пусть лучше она никому не достанется: та, которую он ласкал, не должна знать ласк другого мужчины.
Муки иного рода переживала теперь и Заира.
«А что, если в самом деле он любит другую?» – думала она, поздно проснувшись в своей хорошенькой каютке. Хотя, по её восточным понятиям, мужчина мог любить разом нескольких женщин, и она видела это в своём отце, у которого был сераль и который приближал к себе и хорошеньких рабынь, но её чистая привязанность возмущалась одною этою мыслью. «Разве она сама может полюбить кого-либо другого, кроме своего повелителя-атамана? Нет, никогда!»
И она робко выглянула из окошечка своей горенки. Атаман задумчиво стоял у борта струга, спиною к ней. О чём, о ком он думает?
В эту минуту, как бы под влиянием её взгляда, он обернулся. Из окошечка смотрело на него милое личико, – и задумчивое лицо его разом просветлело. Он вошёл в горенку Заиры. И на лице девушки отразилась радость, но она не бросилась к нему на шею, как бывало прежде. Она робко подошла к нему, смущённая, краснеющая; в первый раз по отношению к нему в ней заговорила женская стыдливость. Он молча обнял её, крепко прижал к себе, как бы боясь потерять это нежное существо, и стал ласкать – целовал её головку, глаза. Он чувствовал, что она дрожит в его объятиях. Но ни он, ни она не говорили. О вчерашнем он не сказал ей ни слова – он ждал, не скажет ли она. Но и она молчала. Он заметил, что присланные ей вчера княгинею Прозоровскою лакомства не тронуты. Поднос с фруктами стоял в стороне на столике.
– Ты, кажись, не дотронулась до княгинина гостинца? – спросил он, заглядывая ей в глаза.
– Мне не хотелось, – чуть слышно отвечала она. Но ни слова о вчерашнем.
Он стал наблюдать за нею, обдумывать её поведение. Он видел, что она таится от него. В своей грубой совести он так и решил, что она виновата: молчит – значит боится. Эта совесть не умела подсказать ему, что девушка щадит его спокойствие, что ей жаль видеть человека, которого неминуемо ждёт лютая казнь, хоть человек этот и был для неё неприятен – это Хабибулла.
И он и она со вчерашнего вечера вдруг почувствовали, что между ними уже что-то стояло: это что-то и было обоюдное подозрение – «чёрная кошка».
Он сказал, что сегодня у него будут гости – воевода и другие власти города.
– А она будет? – чуть слышно спросила Заира.
– Кто она? – удивился Разин.
– Воеводиха, княгиня.
– Зачем ей быть? Боярыне это непригоже – на Москве нету такого звычая, – отвечал он.
«Значит, Хабибулла солгал? Может быть, он и всё солгал?»
Девушка крепче прижалась к своему возлюбленному, точно боялась, что у неё возьмут его. Она чувствовала, как стучало его сердце, точно молот.
В это время на струге послышался какой-то говор. Можно было различить, что казаки Разина переговаривались с кем-то на берегу. С берега слышно было: «Хотим видеть батюшку Степана Тимофеевича!»
Разин вышел на палубу. Перед стругом стояла группа стариков. При появлении Разина все сняли шапки.
– Здорово, старички почтенные! – ласково сказал Разин.
– Ты здрав буди, батюшка Степан Тимофеевич! – послышалось с берега. – Мы пришли к тебе с поклоном: рыбный ряд осётром тебе, батюшке нашему, кланяется.
– Спасибо на поклоне! – отвечал Разин. – Милости прошу пожаловать ко мне на струг – выпить по чаре вина заморского.
Старики гурьбой стали всходить по сходням на струг.
– Уж и осетрище изволением божиим попался, батюшка Степан Тимофеевич, – говорил один старик с бородой по пояс, – такого осётра не запомню с тех мест, как царила у нас в Астрахани проклятая Маринка-безбожница с Ивашкою Заруцковым[116]. А ноне трёх таких пымали наши ловцы: дак одного осётра мы спосылаем на Москву великому государю Алексею Михайловичу, а другого – святейшему патриарху, а третьего тебе подносим, батюшка Степан Тимофеевич.
– Спасибо, спасибо за честь, почтенные старички! – благодарил атаман. – А воеводе-то своему вы что поднесёте? – улыбнулся он.
– Воевода и севрюжиной будет доволен, – отвечал старик, тоже улыбаясь. – А ну, ребята, покажьте чуду-юду! – крикнул он ловцам, бывшим в косной лодке близ струга.
Рыбаки с трудом приподняли над водою громадную голову чудовища, которое так билось в воде, что казалось, лодку опрокинет.
– И впрямь чудо-юдо, – говорил Разин.
А в это время Ивашка Черноярец с казаками вынесли из трюма огромный бочонок и серебряные стопы, в которые и стали наливать вино.
Разин стал подавать вино гостям.
– Э! нет, батюшка Степан Тимофеевич, – отказывался старейший из депутации рыбного ряда, – не по русскому звычаю: в священном писании сказано: как доносчику первый кнут, так и хозяину первая чара.
Разин выпил. За ним все. Рыбакам молодцы Разина поднесли зелена вина, осётра привязали к одной из железных уключин струга, и депутация откланялась.
Разин приказал убить и выпотрошить осётра, а потом сварить его в артельном котле.
Между тем на струге расставляли столы и приборы – серебряные и золотые мисы, стопы и т. д.
К полудню начали собираться гости. Разин был необыкновенно приветлив и оживлён. Казаки давно не видали его таким. Это тем более их удивило, что не далее как сегодня утром он был необыкновенно задумчив и грустен. Что было у него на душе – никто не знал; но многих это тревожило. Иные думали даже, что он испорчен и что испортила его эта персидская чаровница-княжна.
Началось угощение. В последнее время, особенно когда среди казацкого войска завелась эта чаровница, атаман почти не пил – совсем стал красной девицей. Но сегодня он пил, как никогда. Щёки его разгорелись, глаза блестели нехорошим огнём. Казаки это видели – они хорошо изучили своего атамана, чего-то побаивались: быть худу… В иные моменты он как бы забывал всё – где он, что он… Глаза его дико блуждали…
Но через минуту он опять овладевал собой, и голос его звучал на всю пристань.
Князь Прозоровский и другие гости ничего этого не замечали и пировали от всей души – ели, пили, смеялись. Всех поразил чудовищный осётр.
– Где это ты, Степан Тимофеевич, достал такова великана? – спросил воевода.
– Шах персицкой мне в подарок прислал за город Фарабад, – загадочно отвечал Разин.
Вдруг точно что осенило его. Он встал и пошёл в горенку Заиры. Через несколько минут он воротился, держа девушку за руку. Он был бледен. Заира одета была в дорогое персидское одеяние – вся в золоте, в жемчугах – драгоценные камни так и горели на ней. Она была поразительно хороша в своём смущении.
Гости ничего не ожидали подобного и все встали при её появлении, подавленные, казалось, блеском чего-то невиданного, ослепительно прекрасного.
– По русскому звычаю, – сказал Разин, – и нижняя челюсть его задрожала, – по русскому звычаю хозяйка должна поднести из своих рук по чаре доброго вина. Вот моя хозяйка.
Все низко поклонились, точно бы к ним вышла царица.
Разин налил вином стоявшие на серебряном подносе стопы, и Заира, не поднимая глаз, стала разносить вино. Руки её дрожали вместе с подносом. Все пили и почтительно кланялись девушке.
Разин потом сел и посадил её около себя.
– Дай Бог тебе, Степан Тимофеевич, счастья и здоровья на многия лета, – сказал князь Прозоровский и встал, – и великий государь не оставит тебя своими милостями.
Помянув имя великого государя, он сел.
– Спасибо, князь, – отвечал Разин. – Я много счастлив, так много, как тот эллинский царь, о котором сказывал мне один святой муж. Счастье того эллинского царя было так велико, что оракул сказал ему: «Дабы тебе не лишиться твого счастья, пожертвуй Богу то, что есть у тебя самого дорогого». И царь тот зарезал любимую дщерь свою – лучшее своё сокровище.[117]
Разин взглянул на Заиру. Он был бледен. А она сидела рядом с ним, всё такая же прекрасная и смущённая.
– Вот моё сокровище! – сказал он, обнимая девушку. Потом он встал, шатаясь, и остановился у борта струга, лицом к Волге. Он был страшен.
– Ах, ты, Волга-матушка, река великая! много ты дала мне злата и серебра, и всего доброго. Как отец и мать славою и честью меня наделила, а я тебя ещё ничем не поблагодарил.
Сказав это, он быстро повернулся, схватил Заиру одной рукой за горло, другою за ноги – и бросил за борт, как сорванный цветочек.
– На ж тебе – возьми!
Что-то яркое мелькнуло в воздухе, послышался плеск воды…
Все в ужасе вскочили. Заира исчезла под водой. Утром рыбаки вытащили из Волги труп Хабибуллы с кинжалом в груди…
XXII. Купанье стольников
Сообщая этот ужасный эпизод из жизни Разина, Н. И. Костомаров полагает, что «этот варварский поступок не был только пьяным порывом буйной головы», с чем, конечно, нельзя не согласиться. «Стенька, как видно, – говорит историк, – завёл у себя запорожский обычай – считать сношения казака с женщиною поступком достойным смерти. Его увлечение красивою персианкою, естественно, должно было возбудить негодование и ропот тех, которым Стенька не дозволял того, что дозволил себе, и, быть может, желая показать, что не в состоянии привязаться к женщине, он пожертвовал красивой персианкой своему влиянию на товарищей».
Так рассуждал историк, приговоры которого всецело обусловливаются тем, что говорят ему находящиеся в его руках материалы или более или менее достоверные источники, документы. Но о подобного рода явлениях, обуславливаемых душевными движениями человека, всего менее говорят документы, как не говорит на суде о своём преступлении тот, кого уличают в нём на основании не вполне ясных улик. У историка в этом случае связаны руки.
Не таково положение романиста. Он должен всё знать, даже то, чего нет и не могло быть в документах: он должен знать душу своих героев, знать их тайные думы и помышления.
И романист объясняет ужасный поступок Разина с Заирой так, как он его объяснил на основании психологической критики, которой он подверг своего героя.
Неудивительно после этого, что Разин, смирившийся было перед властью, положивший свой бунчук к ногам этой власти, подружившийся с воеводою и водивший с ним хлеб-соль, вдруг опять превращается в зверя, ещё более лютого, чем он был прежде.
Астрахань теперь опостылела ему. Здесь он сам разбил своё счастье – и его потянуло домой, на родину, туда, где протекло его детство, когда у него за спиною не было ни воспоминаний, ни ужасных призраков, которые теперь иногда посещали его.
4 сентября Разин покинул Астрахань, чтобы, собравшись за зиму с силой, начать исполнение того, что он на возвратном пути из Соловецкого монастыря обещал Аввакуму, когда навестил его в тюрьме монастыря Николы на Угреше.
Между тем отписки князя Прозоровского из Астрахани о полной покорности Разина вызвали на Верху великую радость, и Алексей Михайлович перед осенним возвращением из села Коломенского в город решился в последний раз вдоволь натешиться купаньем в пруду стольников, запоздавших к царскому смотру.
Наскоро выслушав доклад дьяка Алмаза Иванова по важным делам и положив по ним резолюции, государь вопросительно поглядел на дьяка, который переминался с ноги на ногу и, по-видкмому, ещё что-то хотел доложить, но не решался.
– Что у тебя ещё? – спросил Алексей Михайлович.








