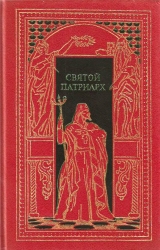
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 37 страниц)
– Кого жалко, золотая?
– Курочку жалко…
– А!.. курочку!.. – все улыбнулись. – Что ж теперь плакать об ней? Вон мы не плачем…
– Нет, и вы плакали.
– Мы плакали о батюшке, об отце Аввакуме, какие он там муки терпел… А тебе батюшку жалко? а? Скажи, золото червонное.
Девочка посмотрела на Аввакума. Тот ласково улыбался ей.
– Что меня, старого-то ворона, жалеть, осударыня царевна! – сказал он, подходя к ней и крестя её головку. – Я вон жив – брожу, а курочка-то умерла.
В это время в комнату вошла, переваливаясь, как не в меру накушавшаяся утка, полная, с ожиревшим лицом и мешковатым подбородком, пожилая женщина. Заплывшие жиром глазки чуть-чуть выглядывали из своих щелей, словно тараканы.
Женщина, увидав Аввакума, тотчас подошла к нему под благословение. Тот осенил её истово, двуперстно, изобразив из своих пальцев сорочий хвост.
– Я-то, старая, царевну ищу, а моя царевна вон где, – заговорила вошедшая женщина, кланяясь хозяйкам в пояс. – Она, моя голубушка, знает, где коломенской пастилой кормят.
– Нету, мамушка, я не ела пастилы, – отвечала девочка.
– Ах мы, скверные! – спохватилась Морозова. – Заслушались слова Божия, а о пастиле-то и забыли… А нам свеженькой, двухсоюзной прислал милый княжич наш, Васенька Голицын. Сбегай, Дунюша, принеси… и батюшку попотчуем, как та курочка черненька, хохлатенька.
– Ах вы, курочки мои золотые, балуете старика, – любовно говорил Аввакум, провожая глазами Урусову.
– А никак ты, царевнушка, плакынькала? – сказала толстая мамушка, вглядываясь в глаза девочки. – Об чём слёзки жемчужны?… а?
– Об курочке, как курочку задавили…
– Это я, старый ворон, каркал… раскивилил царевну, – вмешался Аввакум. – Курочка у меня в Сибири была.
– Осударыня царевна! – послышался вдруг молодой звонкий голос в дверях. – Осударыня царица приказала тебя кликать – учитель пришёл.
Это была молоденькая дворская сенная девушка с розовыми щеками.
– Какой учитель? – встрепенулся Аввакум, обращаясь к маленькой царевне.
– Симеон Ситианович, – бойко отвечала девочка.
– А! Симеон Полоцкий[14]… хохол… умник белорусский, – брезгливо заметил Аввакум. – Чему же это он учит тебя, государыня царевна?
– И письму, и цифири, и великим хитростям, – быстро заговорила девочка, – псалтырь виршами, и небо мне показывает, и планиды… есть планида Крон, есть планида Ермий, и звёзды веществом чисты, образом круглы, количеством велики, явлением малы, качеством светлы, а земля черна и кругла – она есть центр всего мира…
Девочка захлёбывалась от торопливости, желая разом выложить все свои знания. Личико её разгорелось, глаза блестели. А Аввакум, слушая её, только головой качал.
– Ну, научат добру эти хохлы, научат…
Глава IV. СТЕНЬКА РАЗИН У НИКОНА
Тяжёлое, очень тяжёлое было это время – шестидесятые годы XVII столетия, к которым приурочивается наше повествование, – такое тяжёлое время, что едва ли и переживала когда-либо подобную годину святая Русь, хотя она уже и вынесла на себе и двухсотлетнее татарское ярмо, и лихолетье «смутного времени», и великое моровое поветрие; в эти тяжёлые шестидесятые годы русская земля раскололась надвое – разорвалось надвое русское народное сердце, надвое расщепилась, как вековое дерево, русская народная мысль, и самая русская жизнь с этих несчастных годов потекла по двум течениям, одно другому враждебным, одно другое отрицающим.
И расколол русскую землю и русскую жизнь надвое не Никон, которому приписывают это расчленение великого царства раскольники, и не Аввакум, которого история считает первым заводчиком, так называемого, «раскола» или «старообрядчества», – нет, клином, расколовшим русскую землю и русскую мысль надвое, был просто типографский станок – это величайшее измышление человеческого ума, – станок, привезённый в Москву теми, которых батюшка Аввакум называл «хохлами» и о которых он говорил маленькой царевне Софьюшке, что они «научат добру»…
Дело было так. Привезли «хохлы» в Москву этот пагубный станок, уставили на печатном дворе, и началось в Москве печатанье церковных, богослужебных и иных душеспасительных книг. А до этой поры на Москве и по всей русской земле были книги писаные. В писаных книгах, само собою разумеется, было много описок, неточностей, разноречий: по одному списку в символе веры значилось – «его же царствию не будет конца», а по другому – «несть конца», в одной книге об Иисусе Христе говорится – «рождена, несотворенна», а в другой – «рожденна, а не сотворение», и ввиду этого разноречия одни принимали этот аз, а другие отметали его. Было много и других подобных спорных вопросов. Типографский станок должен был примирить все эти споры: печать намерена была держаться чего-либо одного – и она нашла этот аз излишним. Люди, привыкшие слышать от купели своей в символе веры этот аз, восстали за него.
– Нам всем, православным христианам, – говорили эти сторонники аза, – подобает умирать за один аз, его же окаянные враги (это «хохлы») извергли из символа там, иде же глаголется о Сыне Божием Иисусе Христе – «рожденна, а не сотворенна»: велика зело сила в сём азе сокровена.
К сторонникам аза принадлежал и знакомый уже нам благообразный старец, протопоп Аввакум, вынесший ужаснейшие семь лет ссылки в Даурии и рассказывавший в предыдущей главе нашего повествования о своих страданиях в сибирской стороне боярыням Морозовой и Урусовой и маленькой царевне Софьюшке.
Когда «хохлы» привезли в Москву типографский станок, то в числе «справщиков» к нему был приставлен и Аввакум, или, говоря современным языком, Аввакум назначен был одним из редакторов для печатания на Гуттенберговском станке церковных книг; но когда Никон, под влиянием образованных «хохлов», вроде Епифания Славинецкого, и хитрых греков, вроде Арсения, начал коренное исправление в печати богослужебных книг, и когда благочестивый Аввакум с товарищами объявили, что аз они скорее умрут, чем позволят выбросить его в корректуре символа веры, и при этом не послушались решения целого совета, или собора святителей, то их и подвергли разным наказаниям и ссылкам.
Затем, когда упрямый и властолюбивый Никон, в гневе на царя, оставил патриарший трон и удалился в свой монастырь, сторонники аза в большинстве случаев были возвращены из ссылки. Возвращён был из Сибири и Аввакум. И вот после этого мы и видели его в беседе с Морозовою и Урусовою в вечер вторичного возвращения Никона из Москвы в свой монастырь.
Это и есть начало раскола в русской земле, величайшее в истории внутреннего развития русского народа событие совершилось таким образом из-за простой корректуры, вызванной всё тем же пагубным станком Гуттенберга.
Такие мысли, как волны под давлением порывистого ветра, обуревали поседевшую голову Никона, когда он, на другой день после неудачной поездки в Москву, стоял во время обедни в своей Воскресенской церкви и прислушивался к монотонному чтению иподиаконом апостола.
«Литеры малые, да слова, да препинательные знаки, да перстное сложение – эку бурю подняли оные литеры! – на весь мир буря… А всё сей станок печатный»…
Так бессвязно думал он, напрасно силясь вслушаться в чтение иподиакона. Как изменился он со вчерашнего дня! Словно бы выдержал необыкновенный пост или тяжкую болезнь.
Но, как он ни был занят своими думами, он не мог не заметить какого-то неизвестного человека, который стоял у правого клироса перед изображением Спасителя, несущего крест, и горько плакал. По виду он не казался москвичом, да и костюм его отличался от обыкновенного московского платья. Никону виднелся несколько его профиль с характерным широким носом, подстриженный довольно высоко, толстый, как у вола, затылок; такая же шея и широкие плечи; вся коренастая, невысокая фигура его казалась крепкою, точно выкованною молотом на наковальне.
Всю обедню незнакомец молился и плакал: Никон видел, как он припадал головою к полу, долго не поднимал её, и как при этом вздрагивали от плача его могучие плечи.
«А должно, большое горе на душе у него», – невольно думалось патриарху: ему самому, разбитому и поруганному, понятнее теперь становилось всякое человеческое горе.
После обедни незнакомец подошёл к нему под благословение; необыкновенно добрые и, по-видимому, робкие, с какою-то скрытою, неуловимою мыслью глаза произвели на патриарха невольное впечатление. В глазах этих было что-то чарующее, покоряющее своей мягкостью, в которой сказывалась сила.
– Ты не здешний? – спросил его Никон, поднимая правую руку для благословения.
– Не здешний, великий государь владыко, – смело отвечал незнакомец.
– Не называй меня великим государем, – Остановил его патриарх, – прошло моё государствование.
Незнакомец смотрел на патриарха, по-видимому, не вполне понимая его.
– Я токмо патриарх, а не великий государь, – продолжал Никон с дрожью в голосе, – великий государь у нас один – царь Алексей Михайлович… А ты откуда и кто таков родом?
– Я с Дону казак, святой владыко, Степаном называюсь, по-нашему Стенькою, а по прозванию Разиным… Был на Дону на атаманстве, а теперь иду молиться – душу спасти[15].
– Доброе дело, – сказал патриарх и благословил его. – Куда ж ты идёшь молиться?
– Кланялся я на Москве московским святителям, а теперь иду поклониться соловецким, да к тебе, великий патриарх, зашёл просить твоего благословения всему тихому Дону.
– Благое твоё намерение, – ласково и задумчиво сказал Никон, – я рад тебе, Степан, заходи ко мне, я с тобою поговорю.
Разину на вид казалось лет около пятидесяти, а может быть, и меньше. В широкой, окладистой бороде его серебрилась резкая проседь. Невысокий лоб разрезывался надвое длинною характерною морщиною. Лобная кость казалась сильно выдавшеюся над глазами. В выражении лица читалось что-то задумчивое, невысказываемое.
Патриарх вышел из церкви, а Разин остался, чтобы приложиться к иконам и отслужить панихиду по новопреставленной рабе божией девице Дарье. За панихидой он плакал ещё неутешнее, чем за обедней. Кто была эта новопреставленная Дарья – это знал один только Стенька.
После панихиды к нему подошёл посланный от патриарха – это был его неразлучный крестоноситель, Иванушка Шушера – и позвал в патриарший кельи.
Никон писал что-то, когда ввели к нему Разина. Патриарх указал ему место на скамье, а сам остался в кресле с высокою спинкою, на которой вышит был малиновый крест, как бы осенявший голову патриарха.
– Я рад тебя видеть, Степан, – снова сказал патриарх приветливо, вглядываясь в красивые глаза гостя. – Что у вас на Дону слышно?
– Слухов у нас, владыко святой, ходит не мало, а всё больше слухи московские, – отвечал Разин.
– Какие же такие московские слухи?
– О московском настроении ходят слухи – на тебя-де, великого патриарха, гонение неправое от бояр: таковы у нас слухи.
– И то правда, – сказал Никон, сверкнув глазами, – боярам я поперёк горла стал – не давал им воли, так они наплели на меня великому государю многие сплетни безлепично, и оттого у меня с великим государем остуда учинилась на многие годы. Я сшел с патриаршества, дабы великий государь гнев свой утолил, а они без меня пуще распалили сердце государево. Теперь меня, великого патриарха, хотят судить попы да чернецы, да епископы – дети собираются судить отца… А у меня один судья – Бог!
Патриарх чувствовал, как раскрывались в его душе свежие раны, и голос его крепчал всё более и более.
– Теперь я стал притчею во языцех: бояре надо мной издёвки творят, моё имя ни во что ставят, из Москвы и из святых московских церквей меня, великого своего патриарха, выгоняют, аки оглашённого; ни меня до царя не допускают, ни царя до меня. Враги мои, не зная над собою страха, играют святостию, кощунствуют. Вон теперь Семенко Стрешнев что чинит с своею собакою – и сказать страшно. Он, вор Семенко, научил своего пса сидеть на задних лапах, а передними – благословлять!
– Благословлять! Собаку научил благословлять! – невольно вскрикнул Разин и вскочил с места. Глаза его загорелись – он в этот момент совсем не походил на прежнего, тихого, с кротким выражением глаз Разина. – Это боярин научил собаку?
– Да, боярин Стрешнев, на ушке у царя он… И называет эту собаку Никоном-патриархом – Никонкою… Когда соберутся у него гости, и он зовёт ту собаку: «Никон-ко! Никонко-патриарх! поди, благослови бояр…» И бессловесный пёс кощунствует, ругается над нами и над благословением божиим… Вот до чего мы дожили…
Никон встал и в волнении заходил по келье, стуча посохом.
– Так мы тряхнём Москвою за такое надругательство над верою, – мрачно сказал Разин.
Он был неузнаваем. Прекрасные глаза его остоячились, нижняя челюсть дрожала.
– Они хуже бусурман, – глухо продолжал он. – Мы с них сдерём боярскую шкуру на зипуны казакам, а то у нас на Дону голытьба, худые казаки давно обносились.
Он как бы опомнился и снова моментально ушёл в себя, только глаза его вопросительно обратились на патриарха.
– Теперь хотят судить меня судом вселенских патриархов, – продолжал Никон также несколько более спокойным голосом. – Я суда вселенских патриархов не отметаюсь-ей! не отметаюсь! Токмо, за что судить меня? Если за один уход с престола, так подобает и самого Христа извергнуть – он много раз уходил страха ради иудейска… А я сшел с престола, бояся гнева царёва и козней боярских: они хотели многим чаровством опоить меня, да и опоили бы, только Бог меня помиловал – безуем камнем да индроговым песком отпился от того чаровства.
Он остановился. Разин стоял, глубоко опустив голову.
– Садись, Степан, что ты встал? – сказал патриарх, как бы намереваясь переменить разговор.
Разин молча сел и продолжал о чём-то думать.
– Так как же, Степан, когда ты в Соловки думаешь идти? – спросил Никон.
– Пойду ныне же, чтоб к весне на Дон воротиться, – отвечал Разин раздумчиво.
– А у нас не поживёшь?
– Поживу, помолюсь, коли милость твоя ко мне будет.
– Живи, у нас место найдётся, и корм будет.
– Спасибо, святой патриарх.
Потом, немного помолчав, Разин спросил:
– А твоё великое благословение на Дон будет?
– Я Дон благословлю иконою, – отвечал патриарх.
– А что мы казацкою думою надумаем – и то благословишь?
– Коли на добро православным христианам и во славу Божию, то будет и моё благословение. По тебе сужу, что донские казаки не суть рабы ленивые у Господа – молятся неленостно.
– Плоха наша молитва, – отвечал Разин грустно, – не высоко подымается.
– Для чего не высоко?
– Должно, грехи не пущают до неба – не доходит до Бога, – продолжал Разин как-то загадочно.
– Не дело говоришь, Степан, – строго заметил патриарх, – Бог и высоко, и низко живёт – до него всё доходит.
Разин молча покачал головою и вздохнул.
– У тебя, Степан, я вижу, горе есть на душе, – сказал Никон, зорко вглядываясь в своего собеседника.
Разин молчал, только рука его, брошенная на колено, задрожала.
– А кто виною печали твоей? – с участием спросил патриарх.
– Те же, что и твоей, владыко святой, – ещё загадочнее отвечал гость.
– Ноли бояре?
Дверь в келью отворилась, и на пороге показался Иван Шушера, бледный, испуганный.
– Ты что, Иванушко? – тревожно спросил патриарх. – Что случилось?
– Бояре со стрельцами приехали.
– Спира воинская… взять меня хотят, яко Христа в саду Гефсиманском, – сказал он, вставая во весь свой рост. – Слуги Анны и Каиафы идут за мною[16].
Разин также вытянулся и выхватил из-под полы кафтана огромный нож.
– Что это? – тревожно спросил Никон.
– На бояр, – сипло отвечал гость.
Никон вздрогнул.
– Нет, не буди Петром… вложи нож… Всяк, иже нож изъемлет, от ножа погибнет, – торопливо говорил патриарх.
Разин был страшен. Казалось, что волосы на голове у него ходили – так двигалась кожа на его плоском, широком черепе.
– Вложи нож, Степан, вложи! – повторил Никон, слыша шум в сенях.
Разин спрятал нож.
– Так к нам на Дон – мы не выдадим, – сказал он угрожающим голосом, – мы их разтак…
В дверях показалось иконописное лицо Одоевского, а за ним харатейный лик дьяка Алмаза Иванова.
– Анна и Каиафа, – громко сказал патриарх, откидывая назад голову, – кого ищете? Се аз есмь…
– Комедиант! – проворчал про себя Алмаз Иванов. – Эки действа выкидывает.
Но, увидав лицо Разина, замолчал и попятился назад, к дверям, откуда высовывались бородатые лица стрельцов.
– Иди с Богом, сын мой, – сказал Никон, благословляя Разина. – Помолись обо мне.
Разин вышел, косо посматривая на стрельцов и меряя их с головы до ног своими большими глазами.
– Эки буркалы, – проворчал один стрелец со шрамом через всю щёку. – Н-ну глазок!
Глава V. АВВАКУМ И БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА
Боярыня Морозова, которую мы видели в беседе с Аввакумом и которую беседа эта так сильно потрясла, принадлежала к самой знатной боярской семье в Москве. Она была снохою знаменитого боярина Бориса Морозова, того Морозова, которого тишайший царь считал не только своим «приятелем», но почитал «вместо отца родного». С своей стороны и Борис «сему царю был дядька и пестун, и кормилец, болел об нём и скорбел паче души своей, день и ночь не имея покоя». А боярыня, молодая скромница Федосьюшка, была что глазок во лбу у этого царского пестуна и кормильца: Федосьюшка, вышедши на семнадцатом году замуж за Глеба, брата Борисова, недолго жила с мужем, который умер в молодых летах, оставив после себя единственную отраду молодой вдове – сынка Иванушку. На этом-то Иванушке и на его молоденькой матери пестун царский и сосредоточил всю свою нежность. Любили молодую боярыню и при дворе: и ласковый царь отличал её перед всеми боярынями и боярышнями, и царица души не чаяла в «леповиде и лепослове» Прокопьевне – молодая боярыня действительно была «леповида» – существо необыкновенно миловидное, и «лепослова» – потому что она была умна, много читала и прекрасно говорила «духовными словесы».
Но нерадостна была в то время жизнь молодой боярыни. Ещё с мужем она могла чувствовать некоторую полноту жизни; при муже она была менее отчуждена от мира, менее казалась затворницей. А вместе со вдовством для неё наступала как бы жизнь без жизни, бесцельное прозябание и преждевременное старчество. Громыханье посуды от утра до вечера, звон ключей от зари до зари, плетенья да вязанья, беседы с ключницами да мамушками и – как верх эстетического наслаждения – пенье песен сенными девушками – вот вся жизнь боярыни, каков бы ни был её темперамент, каковы бы ни были годы и её личные стремления.
Но не для всех женских характеров такая жизнь даёт полное духовное удовлетворение… Морозова была из таких женщин, для которой громыхание золотой и серебряной посуды да звон ключей не составляли идеал жизни – и она искала большего, более ценного для ума и сердца, чем золото. Богатые духовные силы её требовали духовной работы; горячее молодое сердце искало любви не к одному сынку Иванушке, который ещё был так мал, – искало борьбы, самопожертвований, идеалов. А идеалы она знала только по книгам – идеалы святителей, мучеников, высокие образцы христианской любви. Кругом себя и во дворце она видела только будничную сторону жизни, внешние дрязги этой жизни, несмотря на её блеск и роскошь – и везде она чувствовала пустоту. Пустоту эту, как червоточину, она чувствовала и в себе, в своём сердце. Чтобы задавить этого червяка в душе, залить пустоту, в которой чахло её тёплое, отзывчивое сердце, – она вся окунулась в наслаждение своим богатством, своим высоким положением. Она окружила себя блеском и роскошью. Она поставила свой дом, и без того пышный, гремевший на всю Москву, поставила на царскую ногу; одной ей, её прихотям услуживало в доме до трёхсот человек прислуги; одно мановение её беленькой ручки, игравшей жемчугами да яхонтами, приводило в движение всю эту ораву челядинцев, которые стремглав спешили исполнить волю и прихоть, какова бы она ни была, своей доброй, ласковой, сердечной боярыньки-света. Когда она выезжала из дому в своей богатой, «драгой и устроенной мусиею и сребром и с аргамаки многими» карете, запряжённой двенадцатью лошадьми, «с гремячими чепьми», то за нею следовало «слуг, рабов и рабынь» сто, двести, а то и все триста, «оберегая честь её и здоровье», а народ бежал толпами, хватая на лету алтыны и копейки, которые выбрасывала в окно кареты маленькая ручка боярыни. Сам тишайший царь, встречаясь иногда с блестящим поездом своей «пучеглазенькой Прокофьевны», как он называл Морозову, приветливо ей кланялся, снимая свою шапку – «мурманку». А бояре и князья так издали сымали шапки и кланялись ей в пояс, стараясь хоть мельком взглянуть в блестящие из-под фаты глаза красавицы.
Но и это не удовлетворило её, не наполнило её души довольством, не заняло пустоты, в которой сохло её молодое сердце. Она искала идеала… Одно время ей думалось, что она нашла этот идеал человека: то был Никон. В своём гордом удалении от царского и святительского блеска, в своём вольном изгнании он казался ей мучеником. Вся его прежняя жизнь – от босоножия, когда маленьким Никиткой он голодал и зяб без лаптей на морозе, до святительского клобука и посоха Петра митрополита, когда Никитка, ставший патриархом Никоном и «великим государем», гремел с амвона на истинного великого государя, – вся эта жизнь представлялась ей в ореоле и величии апостольства. Но, когда, после неоднократных тайных посещений его в Воскресенском монастыре и после продолжительных бесед с ним, она нашла в нём сухого эгоиста и самолюбивого, властолюбивого и мстительного черствеца, – она горько оплакала этот мираж своего идеала.
И вдруг судьба столкнула её с Аввакумом. Этот мощный ум, эта несокрушимая воля, хотя, по-видимому, мягкая и тягучая, как золото, в делах добра и железная в других случаях, эта великая, страстная, но детски наивная вера не только во всепроникаемость божественной любви и всепрощения, но и в обряд, в букву, в последнюю йоту веры – всё это глубоко потрясло восприимчивую душу молодой, пылкой женщины. Ей казалось, что она очутилась лицом к лицу с апостолом, мучеником, с тем первообразом и идеалом истинного человека, которого она в своей пылкой фантазии видела в фиваидских пещерниках, в столпниках, в обличителях нечестивых римских царей. Разве Сибирь – не та же страшная Фиваида, над которой она задумывалась при чтении житий святых? Разве сибирские земляные тюрьмы – не те же языческие узилища? А он, Аввакум, по всему этому прошёл – прошёл босыми ногами по льду и по горячим угольям. И он не очерствел, не застыл в своём высокомерии, как Никон; он молился и плакал и радовался своим страданиям, – да мало того – каждый день молился за других, часы и заутреню служил, будь то в земляной тюрьме на соломе, в обществе мышей и тараканов, будь то в снежных сугробах, в лесу, на воде, на работах.
– Ох, батюшка-свет! святитель наш! Да как же ты службу-то служил при этих-то трудах да мучениях? – невольно воскликнула молодая боярыня, возвращаясь с сестрой из дворца и захватив с собой в карету своего дорогого гостя.
– А всё также, дочушка моя золота-яхонтова: идучи, бывало, дорогою, зимой, или нарту с детками и курочкой своей волоку, или рыбку ловлю, зверя промышляю, или в лесу дровца секу, или ино что творю, а сам правильно в те поры говорю, пою молитвы, вечереньку либо заутреньку мурлычу себе, что прилучится в тот час, и плачу, и веселюсь, что жив, что голос мой в пустыне мёртвой звучит, птички божьи моё моленье слышут, и за птичек молюсь, и за деревцо – всё, ведь, оно и божье, и наше… А буде в людях я, и бывает неизворотно, или на стану станем, а товарищи-то не по мне, моления моего не любят, – и я, отступя людей, либо под горку, либо в лесок – коротенько сделаю: побьюся головою о землю, либо об лёд поколочусь, об снег, а то и заплачется – и всё сладко станет, коли голова об землю поколотится, либо слеза горючая снег прожжёт. А буде по мне люди – и я на сошке складеньки поставлю, правильца проговорю, молитовку пропою, в перси себе постучу, а иные со мною же молятся, плачут, а иные кашку варят – и тоже маленько молятся. И в санях едучи, пою себе да веселюсь, и в тюрьме лежа, пою да кандалами позвякиваю, а кандальный-то звон, тюремный, светики мои, слаще Богу звону колокольного: звонок, голосист звон-от тюремный!.. Везде, пташки мои, молюсь и пою, а хотя где и гораздо неизворотно, а таки поворчу, что собачка перед Господом, повою до неба праведного…
Аввакум ещё более очаровал сестёр, когда вместе с ним они из дворца приехали в дом Морозовой. Целые ряды челяди выстроились по лестнице и в сенях и низко кланялись, когда проходили боярыни: иные кланялись до земли; другие хватали и целовали её руки, края одежды. Аввакум следовал впереди хозяйки, благословляя направо и налево, словно в церкви.
При входе во внутренние покои навстречу боярыне вышла благообразная, бодрая старушка с прелестным белокурым ребёнком на руках. Ребёнок радостно потянулся к Морозовой, которая с нежностью выхватила его из рук старушки и стала страстно целовать.
– Ванюшка! веселие моё! цветик лазоревый!
Затем, как бы спохватившись, она быстро поднесла ребёнка к Аввакуму. Щёки её горели, по всему лицу разлито было счастье.
– Батюшка! благослови мово сыночка – наследие моё. Аввакум истово перекрестил ребёнка, сунул легонько свою костлявую, загрубелую руку к раскрытому ротику мальчика и, ласково, добро улыбаясь ему, стал гладить курчавую его голову.
– Весь в матушку-красавицу, токмо русенек – беляв волосками гораздо… А подь ко мне на ручки…
И протопоп протянул к ребёнку растопыренные ладони. Ребёнок смотрел на него пристально, с удивлением и, видя улыбку под седыми усами, сам улыбался.
– Подь же к деде на ручки, подь, цветик, – поощряла его мать, вся сияющая внутренним довольством и любуясь добрым, нежным выражением лица сурового учителя.
– Иди-ка, боярушко, иди, миленький! – говорил этот последний.
Ребёнок пошёл на руки к Аввакуму. Мать вскрикнула от радости и перекрестилась. Перекрестилась и старушка. Все жадно и восторженно смотрели, как ребёнок, взглянув в глаза Аввакума, потом обратясь к матери и к нянюшке, стал играть седою бородой протопопа.
– Ай да умник! ай да божий! – ласкал его протопоп. – А Бозю любишь? а? любишь, боярушко, Бозю?
– Маму люблю, – отвечал ребёнок, оборачиваясь к матери.
Морозова только руками всплеснула и припала к ребёнку, целуя его в плечо и вместе с тем страстно припадая губами к руке Аввакума, лежавшей на этом плече.
– А Бозю любишь? – настаивал Аввакум.
– Няню люблю, – снова невпопад отвечал ребёнок.
– А Боженьку? – вмешалась мать, начиная уже краснеть от стыда и волнения. – Боженьку…
– Дуню тётю.
– Ах, Господи! Ванюшка!
Аввакум поднёс ребёнка к киоте, которая так и горела дорогими окладами икон, залитых золотом, жемчугами, самоцветными камнями.
– Вот где Бозя! – сказал он. – Глянь, какой светленький.
Ребёнок поднял ручку и стал махать ею около розового личика, прикладывая пальчики то к маковке, то к плечу и глядя на няню: «смотри-де – как хорошо молюсь».
Старушка няня, мать и «тётя Дуня» улыбались счастливо, радостно. Но Аввакум тотчас воззрился на пальчики ребёнка: так ли-де, истово ли, мол, переточки складывает, не никонианскою ли-де еретическою щепотью?
– Ну-ко, ну-ко, боярушко, покажь переточки, как слагаешь крестное знамение…
– Ручку сложи, – подсказала мать.
Ребёнок не сложил, а разжал левую ручку, а правой стал тыкать в левую ладонь… «Сорока-сорока, кашку варила, на порог скакала», – лепетал он, весело глядя в добрые глаза протопопа.
Мать вспыхнула и застыдившимся лицом уткнулась в ладони. Даже суровый протопоп не выдержал – рассмеялся.
– Вот-те и перстное сложение! Ах ты никонианец, еретик ты эдакий! А? вон что выдумал-по-никоновски молиться: «сорока-сорока – кашку варила…» Истинно по-никоновски!
– Матушка! срам какой! Владычица! – застыдились боярыни.
– Никонианец… никонианец, – добродушно говорил протопоп, – поди, чу, и табачище уже нюхает…
Старушка няня готова была сквозь землю провалиться.
– Чтой-то ты, батюшка, грех какой непутём говоришь! – защищалась она. – У нас и в заводе-то этого проклятого зелья не бывало… Вона, что сказал!
А Аввакум между тем старался сложить пухлые, точно ниточками перевязанные пальчики ребёнка в двуперстное знамение; но как ни силился – не мог: пухлая ладонька или разжималась совсем, растопыривая пальчики как бы для «сороки», или сжималась в кулачок.
– Ну, мал ещё – глупешенек, мой свет, невинный младенец, – говорил протопоп, передавая ребёнка матери. – Подрастёт – научим перстному сложению и в лошадки ещё поиграем.
Аввакум окончательно покорил сердца молодых женщин. Морозова от волнения не спала почти всю ночь. Ей постоянно представлялась далёкая, студёная и мрачная Сибирь и какая-то страшная, неведомая, ещё более далёкая Даурия, по которым бродил и мучился благообразный, святой и добрый старичок, страдал за перстное сложение… «Ах, какой он добрый да светлый!.. Ванюшка-то как его полюбил – всё брадою его святою играл, словно махонький Христосик-свет играл брадою Симеона-богоприимца… Ах, нашла я мой свет, нашла! Пойду я за ним, как блаженная Мария египетска[17]я… Ох, Господи, сподоби меня, окаянную… Аввакумушко! светик мой, батюшка».
Так металась в постели молодая женщина, охваченная волнением и жаром: то страстно шептала молитвы, то с такою же страстью сжимала свои нежные пухлые руки и била себя в полные перси. Она несколько раз вставала с постели и босыми ногами пробиралась к киоте, бросалась на пол и горячо, сама не зная о чём, молилась и радостно плакала. Опомнившись, что она повергается перед Христом простоволоса, в одной сорочке, сползающей с плеч, она стыдилась, вспыхивала сама перед собой и закутывалась в шёлковое из лебяжьего пуха одеяло; но вспомнив, что и Марию египетскую она видела на образах простоволосою, даже без сорочки, прикрытую только своей косою, она успокоивалась и снова падала ниц перед иконами…
«Ах, какой он светлый!.. И Ванюшку благословил… Ах, сыночек мой!.. А он сороку-то, сороку…» – бормотала она бессвязно.
Затем неслышными, босыми ногами прошла она в соседнюю комнату, где, освещаемый тусклым светом лампады, спал, разметавшись в постельке, её Ванюшка. В комнате было жарко, и ребёнок весь выкарабкался из-под розового одеяльца. Он улыбался во сне, а между тем и сонный выделывал ручками что-то вроде «ладушки»: молодая мать догадалась, что это он во сне проделывал «сороку», – и, счастливая, восторженная, не вытерпела, чтоб не поцеловать его босые ножки…
– Что ты, сумасшедшая, делаешь? – раздался за ней испуганный шёпот.
Она вздрогнула и обернулась: за нею стояла старая няня и грозилась пальцем.
– Что ты, озорная! – накинулась няня на растерявшуюся боярыню. – Испужать, что ли, робёнка хочешь, калекой сделать?
– Я тихонько, нянюшка, – оправдывалась пойманная на месте преступления молодая мать.








