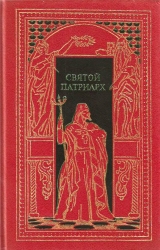
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 37 страниц)
Царевна Софьюшка стала уже совсем взрослою девицей и зорко присматривалась к тому, как её больной братец, царь Федюшка, «государствует», чтоб и самой после него «посударствовать», не забывая в то же время зорко присматриваться и к красивому, статному княжичу Васеньке Голицыну.
Симеон Полоцкий, «расплодив в Москве продувных хохлов, что тараканов», лежал уже в сырой земле на кладбище Заиконоспасского монастыря, велев посадить на своей могиле вербу, чтоб она напоминала ему и в могиле его далёкую, дорогую Украину. Царевна Софья часто посещает его могилу, тем более что там она в первый раз поцеловалась с своим княжичем Васенькой…
Мамушка её продолжает вязать чулок и спускать петли и сослепу уже не видит и не слышит, как Софьюшка царевна бегает иногда в селе Коломенском в сад, к пруду, на свидание со своим Васенькой.
Мать Мелания по-прежнему неуловима и втихомолку готовит ту страшную драму, которая разразилась «стрелецким бунтом» и бритьём всей России.
Ондрейко Поджабрин, стрелец, нет-нет да и вспомнит те «буркалы», которые он видел когда-то в келье Никона в Воскресенском монастыре, а потом на плахе на Лобном месте.
Ласточкино гнездо, пощажённое Никоном, чернеется по-прежнему на переходах патриарших келий. В нём выводится уже семнадцатое поколение потомков той ласточки, которую кормил мухами Никон. Куда бы они ни улетали на зиму, а весной опять возвращались к старому гнезду, как бы вспоминая Никона.
А что сталось с нашими украинцами и украинками?
Петрушко Дорошонок, ныне воевода Пётр Дорофеич, тоскует в «московской неволе», в селе Ярополче Волколамского уезда, и вспоминает о милой Украине и о своей хорошенькой, но ветреной жёнке, оставшейся в Чигирине…
А жёнка, совсем не стареющаяся, продолжает слушать «веснянки» и «скакать через плот с молодшими», начиная с Мазепы и кончая юным бунчуковым товарищем Остапиком.
Мазепа, обманув Брюховецкую, утопив потом своего благодетеля Дорошенко и начав уже копать яму другому благодетелю, гетману Самойловичу, шибко идёт в гору и шибко продолжает «скакать в гречку» со всякою смазливенькою женщиною, будь то украинка, полька и даже московка.
Маленький Гриць Брюховецкий, играя в «Шума», простудился и отдал богу свою младенческую душу, твердя в своей мёртвой постельке: «Ах, мамо, яко бо ты московка…»
Мама-«московочка» не пережила своего Гриця; так она и не видала своей родной сторонки, Москвы белокаменной, а, умирая, благословила Украину, где её все любили.
Петрусь продолжает усердно мазать чоботы дёгтем и женихаться со своею Явдохою. Когда он узнал, что москали дёгтем не мажут сапог и «вси переказились» из-за того, как креститься, двумя или тремя пальцами, он только рукой махнул: «От, дурни москали!..»
За чьи грехи?
I. Царское сиденье
В Грановитой палате[61], в столовой избе, у великого государя с боярами «сиденье».
Это было 5 мая 1664 года.
С раннего утра, которое выдалось таким ярким и тёплым, обширная площадь около дворца запружена каретами, колымагами и боярскою дворовою челядью с осёдланными конями в богатой сбруе. Экипажи и кони принадлежат московской знати, нахлынувшей во дворец к царскому сиденью: обширное постельное крыльцо, словно маковое поле, пестрит цветною и золотою одеждою площадных стольников, стряпчих и дворян московских.
Эта пёстрая и шумная толпа поминутно расступается и поклонами провожает знатных и близких бояр, которые через постельное крыльцо проходят прямо в царскую переднюю. Это уже великая честь, до которой стольникам, стряпчим и дворянам высоко, как до креста на колокольне Ивана Великого.
Но и передняя уже давно полна: кроме бояр, в ней толпятся, по праву, окольничие, что удостаиваются великой чести быть иногда «около» самого государя, равнодумные дворяне и думные дьяки.
Наконец, в самой столовой избе, в «комнате», – высшая знать московская, самые сановитые бородачи. Тут же и великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец. Он сидит в переднем углу, на возвышении со ступенями. Под ним большое золочёное кресло. Столовая изба так и блестит золотом и серебром изящной, а чаще аляповатой московской работы: на одном окне, на золотом бархате, красуются рядом четверо серебряных часов-курантов; у того же окна – серебряный стенной «шандал»; на другом окне – большой серебряник с лоханью, а по сторонам его – высокие рассольники; на третьем окне, на золотом бархате – другой серебряный рассольник да серебряная позолоченная бочка, «мерою в ведро». На рундуке, против государева места, и на ступенях постланы дорогие персидские ковры; около столпа, упирающегося в потолок столовой избы, – поставец: на нём ярко горят под лучами весеннего солнца всевозможные драгоценные сосуды – золотые, серебряные, сердоликовые, яшмовые.
Едва царь уселся в кресло, как на постельном крыльце произошло небывалое смятение. Послышался смешанный говор, из которого выделялись отдельные голоса:
– Хохлы! хохлатые люди едут!
– Это черкасы, гетмановы Ивана Брюховецкого[62] посланцы на отпуск к великому государю.
– Смотрите! смотрите! каки усищи!
– И головы бриты, словно у татар.
– Только у татар хохлов нету, а эти с хохлами. Действительно, из-за карет и колымаг, запружавших дворцовую площадь, показалась небольшая группа всадников. Это и были гетманские посланцы, всего пять человек. Их сопровождал стрелецкий сотник, а почётную свиту их составляли три взвода стрельцов от трёх приказов, только без пищалей, как полагалось по придворному церемониалу. Своеобразная, очень красивая одежда и вся внешность украинцев, столь редких в то время гостей на Москве, не могли не поражать москвичей. Высокие смушковые шапки с красными верхами, лихо заломанные к затылку и набекрень; выпущенные из-под шапок, словно девичьи косы, чубы-оселедцы, закинутые за ухо и спускавшиеся до плеч; длинные, ниспадавшие жгутами, чёрные усы; яркие цветные жупаны, отороченные золотыми позументами; такие же яркие, только других, ещё более кричащих цветов шаровары, пышные и широкие, как юбки, и убранные в жёлтые и красные сафьянные сапоги с серебряными «острогами» и подковами, – всё это невольно бросалось в глаза, вызывало удивление москвичей.
Посланцы сошли с коней и направились к постельному крыльцу.
– Потеснитесь малость, господа стольники и стряпчие! Дайте дорогу посланцам его ясновельможности гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого и всего войска запорожского низового, – говорил стрелецкий сотник, проводя посланцев чрез постельное крыльцо.
– Добро пожаловать, дорогие гости! – слышались приветствия среди толпившихся на крыльце.
Посланцы вступили в переднюю, а из неё введены были в столовую избу пред лицо государя. Их встретил думный дьяк Алмаз Иванов. Бояре, чинно сидевшие в избе и почтительно уставившие брады свои и очи в светлые очи «тишайшего», так же чинно повернули брады свои и очи к вошедшим. Полное, добродушное лицо царя и особенно глаза его осветились едва заметною приветливою улыбкой.
Посланцы низко поклонились и двумя пальцами правых рук дотронулись до полу. Это они ударили челом великому государю, по этикету. Но все молчали.
Тогда выступил Алмаз Иванов и, обратясь к лицу государя, громко возгласил:
– Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель! Запорожского гетмана Ивана Брюховецкого посланцы, Гарасим Яковлев с товарищи, вам, великому государю, челом ударили и на вашем государском жалованье челом бьют.
Посланцы снова ударили челом.
– Гарасим! Павел! – снова возгласил дьяк, обращаясь уже к посланцам. – Великий государь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованьем: тебе, Гарасиму, – атлас гладкий, камка, сукно лундыш, два сорока соболей да денег тридцать рублёв.
Герасим ударил челом на государском жалованье и поправил оселедец, который, словно девичья коса, перевесился с бритой головы на крутой лоб запорожца.
– А тебе, Павлу, – продолжал дьяк, обращаясь к Павлу Абраменку, товарищу Герасима, – тебе – атлас, сукно лундыш, сорок соболей да денег двадцать рублёв.
И Абраменко ударил челом.
– А вас, запорожских казаков (это дьяк говорил уже остальным трём запорожцам, стоявшим позади посланцев) и твоих посланных людей (это опять к Герасиму) царское величество жалует своим государским жалованьем от казны.
И остальные ударили челом.
Царь, сидевший до этого времени неподвижно в своём золотном одеянии, словно икона в золотой ризе, повернул лицо к Алмазу Иванову и тихо проговорил:
– Сказывай наше государское слово.
И дьяк возгласил заранее приготовленную и одобренную царём и боярами речь.
– Герасим! Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, велел вам сказати: приезжала есте к нам, великому государю, к нашему царскому величеству, по присылке гетмана Ивана Брюховецкого и всего войска запорожского с листом. И мы, великий государь, тот лист выслушали, и гетмана Ивана Брюховецкого и всё войско запорожское, за их службу, что о нашей царского величества милости ищут, жалуем, милостиво похваляем и, пожаловав вас нашим царского величества жалованьем, велели отпустить к гетману и ко всему войску запорожскому. И посылаем с вами к гетману и ко всему войску запорожскому нашу царского величества грамоту. Да к гетману ж и ко всему войску запорожскому посылаем нашего царского величества ближнего стольника Родиона Матвеевича Стрешнева да дьяка Мартемьяна Бредихина. И как вы будете у гетмана, у Ивана Брюховецкого, и у всего войска запорожского, и вы ему, гетману, и всему войску запорожскому нашего царского величества милость и жалованье расскажите.
Проговорив это, Алмаз Иванов, по знаку царя, приблизился к «тишайшему» и взял из рук его грамоту, и тут же передал её главному гетманскому посланцу, который, почтительно поцеловав её и печать на ней, бережно уложил в свою объёмистую шапку.
Затем дьяк, опять-таки по знаку царя, обратился снова к послам:
– Гарасим! Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас, посланцев гетмана и всего войска запорожского, к руке.
«Гарасько-бугай», как его дразнили в Запорожье товарищи за его воловью шею и за такое же воловье здоровье, тихо, но грузно ступая по полу своими жёлтыми сафьянными сапожищами с серебряными острогами, приблизился к ступеням, которые вели к государеву сиденью, осторожно поставил ногу на первую ступень, как бы боясь, что она не выдержит воловьего груза, потом на вторую и, перегнувшись всем своим массивным корпусом, бережно приложился к белой, пухлой, «як у матушки игуменьи» (подумал он про себя), выхоленной царской руке, словно к плащанице. За ним приложились и остальные посланцы. Только последний из них, Михайло Брейко, поцеловав царскую руку и почтительно пятясь назад, оступился на ступеньке и грузно повалился на пол у подножия государского сиденья.
– Оце лихо! николи с коня не падав, а тут, бачь, упав! – невольно вырвалось у него.
Наивность запорожца рассмешила «тишайшего», а за ним рассмеялась и вся столовая изба.
Молодец, однако, скоро оправился и стал на своё место, а дьяк Алмаз снова выступил с отпускной речью.
– Гарасим! – возгласил он. – Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованьем – в стола место корм.
Посланцы в последний раз ударили челом на государеве жалованье – на корму – и удалились.
– Какие молодцы! – весело сказал Алексей Михайлович, когда за казаками затворилась дверь. – С таким народом любо жить в братской приязни и любительстве.
В это время из-за широких боярских спин, с задней скамьи, поднимается стройный молодой человек и выступает на середину избы. Одежда на нём была богатая, изысканная, какую носила тогдашняя золотая молодёжь. Из-под кафтана тёмно-малинового бархата ярко выделялся зипун из белого атласа с рукавами из серебряной объяри; к вороту зипуна пристёгнута была высокая, шитая, разукрашенная жемчугом и драгоценными камнями «обнизь» – род стоячего воротника. Кафтан, скорее кафтанец, на нём был такой же щегольской: запястья у рукавов кафтанца были вышиты золотом, по которому сверкали крупные зерна жемчуга, а разрез спереди кафтанца и подол оторочены были золотною узкою тесьмою с серебряным кружевом; шёлковые шнуры с кистями и массивные пуговицы с изумрудами делали кафтанец ещё наряднее.
При виде нарядного молодого человека Алексей Михайлович приветливо улыбнулся. Тот истово ударил челом – по-божески: поклонился до земли и коснулся лбом пола.
– А – это ты, Иван Воин, – приветствовал его государь.
Молодой человек поднялся с полу и откинул назад курчавые волосы. Лицо его рдело от смущения, хотя он и ответил улыбкой на улыбку царя.
– На отпуск пришёл? – спросил последний.
– На отпуск, великий государь, – был ответ.
Алексей Михайлович обратился к Алмазу Иванову.
– Всё готово к отъезду?
– Всё, государь, – отвечал дьяк, – всё в посольском приказе.
– И грамоты к послам, и наша царская казна?
– Всё, великий государь, как ты указал и бояре приговорили.
– Хорошо. Поезжайте же (Алексей Михайлович обратился к молодому человеку) – поезжай с Богом, да кланяйся от меня отцу. Простись со мной – и ступай с Богом.
Молодой человек поднялся к царскому сиденью и горячо поцеловал государеву руку. Алексей Михайлович поцеловал его в голову, как родного сына.
– Учись у отца служить нам, великому государю, – сказал он в заключение.
Молодой человек вышел из столовой избы весь взволнованный.
II. А соловей-то заливается!..
Вечером того же дня, с которого началось наше повествование, по одному из глухих проулков, выходивших к Арбату, осторожно пробиралась закутанная в тёплый охабень высокая фигура мужчины. Лёгкая соболевая шапочка так была низко надвинута к самым бровям и ворот охабня так поднят и с затылка и выше подбородка, что лицо незнакомца трудно было разглядеть. По всему видно было, что он старался быть незамеченным и неузнанным. По временам он осторожно оглядывался – не видать ли кого-либо сзади. Но переулок, скорее проулок, был слишком глух, чтоб по нём часто могли попадаться пешеходы, особливо же в такой поздний час, когда Москва собиралась спать или уже спала.
Но северные весенние ночи – предательские ночи. Они не для тайных похождений: ни для воров, ни для влюблённых. Впрочем, глядя на нашего незнакомца, смело можно было сказать, что это не вор, а скорее политический заговорщик или влюблённый.
По обеим сторонам проулка, по которому пробирался таинственный незнакомец, тянулись высокие каменные заборы, с прорезями наверху, оканчивавшиеся у Арбата и загибавшиеся один вправо, другой влево. И тот, и другой забор составляли ограды двух боярских домов, выходивших на Арбат. При обоих домах имелись тенистые сады, поросшие липами, клёнами, берёзами и высокими рябинами, только на днях начавшими покрываться молодою яркою листвой. Из-за высокой ограды сада, тянувшегося с правой стороны, по которой пробирался ночной гость, неслись переливчатые трели соловья. Незнакомец вдруг остановился и стал прислушиваться. Но не трели соловья заставили его остановиться: до его слуха донёсся через ограду тихий серебристый женский смех.
– Это она, – беззвучно прошептал незнакомец, – видно, что ничего не знает.
Он сделал несколько шагов вперёд и очутился у едва заметной калитки, проделанной в ограде правого сада. Он ещё раз остановился и прислушался. Из-за ограды слышно было два голоса.
– Только с мамушкой… Господи благослови!
Тихо, тихо щёлкнул ключ в замочной скважине, и калитка беззвучно отворилась, а потом так же беззвучно закрылась. Незнакомец исчез. Он был уже в боярском саду.
Русские женщины, особенно жёны и дочери бояр XVI и XVII века, жили затворницами[63]. Они знали только терем да церковь. Ни жизни, ни людей они не знали. Но люди – везде и всегда люди, подчинённые законам природы. А природа вложила в них врождённое, роковое чувство любви. Любили люди и в XVII веке, как они любят в XIX и будут любить в XX и даже в двухсотом столетии. А любовь – это божественное чувство – всемогуща: перед нею бессильны и уединённые терема, и «свейские замки», считавшиеся тогда самыми крепкими, и высокие каменные ограды, и даже монастырские стены!
А если люди любят – а любовь божественная тайна, – то они и видятся тайно, находят возможность свиданий, несмотря ни на какие грозные препятствия.
Недаром юная Ксения Годунова, заключённая в царском терему и ожидавшая пострижения в черницы, плакалась на свою горькую долю:
Ино мне постритчися не хочет.
Чернеческого чина не сдержати,
Отворити будет темна келья —
На добрых молодцов посмотрити…
Хоть посмотреть только! Да не из терема даже, а из монастырской кельи…
– Воинушко! свет очей моих! – тихо вскрикнула девушка, когда, сбросив с себя охабень и шапку, перед нею, словно из земли, вырос тот статный молодой человек, которого утром мы видели в столовой избе и которого царь Алексей Михайлович назвал Иваном Воином.
Девушка рванулась к нему. Это было ещё очень юное существо, лет шестнадцати – не более. На ней была тонкая белая сорочка с запястьями, вышитыми золотом и унизанными крупным жемчугом. Сорочка виднелась из-за розового атласного летника с широкими рукавами – «накапками», тоже вышитыми золотом с жемчугами.
– Вот не ждала – не гадала…
Пришедший молчал. Он как будто боялся даже заговорить с девушкой и потому обратился прежде к старушке-мамушке, вставшей со скамьи при его появлении.
– Здравствуй, мамушка, – тихо сказал он.
– Здравствуй, сокол ясный! Что давно очей не казал?
Пришедший подошёл к девушке. Та потянулась к нему и, положив маленькие ручки ему на плечи, с любовью и лаской посмотрела в глаза.
– Что с тобою, милый? – с тревогой спросила она.
– Я пришёл проститься с тобой, солнышко моё! – отвечал он дрогнувшим голосом.
– Как проститься? Для чево? – испуганно заговорила девушка, отступая от него.
– Меня государь посылает к батюшке и к войску, – отвечал тот.
Девушка как подкошенная молча опустилась на скамью. С розовых щёчек её медленно сбегал румянец. Она беспомощно опустила руки, словно плети.
Теперь она глядела совсем ребёнком. Голубые её с длинным разрезом глаза, слишком большие для взрослой девушки, смотрели совсем по-детски, а побледневшие от печали губки также по-детски сложились, собираясь, по-видимому, плакать вместе с глазами.
– Для тово я так давно и не был у тебя, – пояснил пришедший, – таково много было дела в посольском приказе.
Девушка продолжала молчать. Губы её всё более и более вздрагивали. Пришедший приблизился к ней и взял её руки в свои. Руки девушки были холодны.
– Наташа! – с любовью и тоской прошептал пришедший.
Девушка заплакала и, высвободив свои руки из его рук, закрыла ими лицо.
– Наташа! – продолжал он с глубокой нежностью. – Если ты любишь меня…
При этих словах девушка быстро встала как ужаленная…
– А ты этого не знал? – глухо спросила она, вся оскорблённая в своём чувстве этим «если».
– Прости, радость моя! Моё сердце кровью исходит, ум мутится, – быстро заговорил пришедший, – сил моих нету оторваться от тебя… Коли ты любишь, ты всё сделаешь.
Девушка вопросительно посмотрела на него. Но он, по-видимому, не решался продолжать и стоял, потупив голову, словно бы прислушиваясь к соловью, который изливал свою безумную любовь в страстных трелях любовной мелодии.
– Наташа! обвенчаемся ныне же, сейчас! – и поедем вместе к батюшке! – вырвалось у него признание, как порыв отчаянья.
Девушка, казалось, не поняла его сразу. Только глаза её расширились.
– Я уже и священника знакомого условил, – продолжал пришедший, – я уже совершенен возрастом – могу делать, что Бог на душу положит; а мне Бог тебя дал, сокровище бесценное! Мы обвенчаемся и поедем к батюшке – он благословит нас: он знает тебя.
Безумная радость блеснула в прекрасных глазах девушки, но только на мгновенье. Русая головка её, отягчённая огромною пепельного цвета косою, опять беспомощно опустилась на грудь.
– А мой батюшка? – с тихим отчаяньем прошептала она, – как же без батюшкова благословенья?
– Твой батюшка опосля благословит нас.
Девушка отрицательно покачала головой.
– Бежать отай из дому родительского… отай венчаться без батюшкова – без матушкова благословенья… да такого греха не бывало, как и свет стоит, – говорила она словно во сне.
Молодой человек опять взял её холодные руки.
– Не говори так, Наташа. Вон в польском государстве – сказывал мне мой учитель, из польской шляхты – в ихнем государстве молодые барышни всегда так делают: отай повенчаются, а после венца прямо к родителям: повинную голову и меч не сечёт. Ну – назад не перевенчаешь – и прощают, и благословляют. Так водится и за морем, у всех иноземных людей.
Девушка грустно покачала головой.
– Али я бусурманка? али я поганая еретичка? – тихо шептала она. – Беглянка – сором-от, сором-от какой! Как же потом добрым людям на глаза показаться? Да за это косу урезать мало – такого сорому и греха и чернеческая ряса не покроет.
– Наталья! не говори так! – недовольным голосом перебил её молодой человек. – Это всё московские забобоны – это тебе наплели старухи да потаскуши-странницы. Мы не грех учиним, а пойдём в храм Божий, к отцу духовному: коли он согласен обвенчать нас – какой же тут грех и сором?.. А коли и грех, то на его душе грех, не на нашей. Ты говоришь – сором! – сором любить, коли сам Спаситель сказал: «Любите друг друга, любитесь!» Но сором ли то, что мы с тобою любилися в этом саду, аки в раю, сердцем радовалися! Ах, Наташа, Наташа! ты не любишь меня…
Девушка так и повисла у него на шее.
– Милый мой! Воин мой! свет очей моих! я ли не люблю тебя!
– Ты идёшь со мной?
– Хоть на край света!
– Наташа! идём же…
– Куда, милый? – не помня себя, спохватилась девушка.
– В церковь, к венцу.
– К венцу! – Девушка опомнилась. – Без батюшкова благословенья?
– Да, да! ноне же, сейчас, со мной, с мамушкой!
– Нет! нет! – И девушка в изнеможении упала на скамейку.
Молодой человек обеими руками схватился за голову, не зная, на что решиться.
А соловей заливался в соседних кустах. Песня его, счастливая, беззаботная, рвала, казалось, на части сердца влюблённых. Мамушка сладко спала на ближайшей скамье, свесив набок седую голову.
– Наташа! ласточка моя! – снова заговорил молодой человек, нагибаясь к девушке и кладя руки на плечи ей. – Наташечка!
– Что, милый? – как бы во сне спросила она.
– Всемогущим Богом заклинаю тебя! святою памятью твоей матери молю тебя! будь моею женой – моим спасеньем.
– Буду, милый мой, суженый мой!
– Так идём же – разбудим мамушку.
– Нет! нет! не тяни моей душеньки! Ох, и без того тяжко… Владычица! сжалься.
– Так нейдёшь?
– Милый! суженый – о-ох!
– Последнее слово – ты гонишь меня на прощанье?
– Воинушко! родной мой! не уходи!
Девушка встала и протянула к нему руки. Но он уклонился с искажённым от злобы лицом.
– О! проклятая Москва! ты всё отняла у меня… Прощай же, Наталья, княженецка дочь! – словно бы прошипел он. – Не видать тебе больше меня – прощай! Жди другого суженого!
И, схватив охабень и шапку, он юркнул в калитку и исчез за высокой оградой.
Девушка протянула было к нему руки – и упала наземь, как подрезанный косою полевой цветок.
А соловей-то заливается!..
III. Батюшка и сынок
Молодой человек, собиравшийся похитить девушку из родительского дома и так презрительно отзывавшийся о московских обычаях, был сын известного в то время царского любимца Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина[64], по имени Воин.
Воин представлял собою только что нарождавшийся тогда в московской Руси тип западника. До некоторой степени западником был уже и отец его, любимец царя, Афанасий.
За несколько времени до того Нащокин послан был на воеводство в Псков, в его родной город. А по тогдашним обычаям московским воеводство – это было в буквальном смысле «кормление»: такого-то послали воеводою туда-то «на кормление», другого – в другой город, третьего – в третий, и всё это – «на кормление»; и вот для воеводы делаются всевозможные поборы, и хлебом, и деньгами, и рыбою, и дичью; даже пироги и калачи сносились и свозились на воеводский двор горами.
Нащокин первый восстал против этих «приносов» и «привозов». По тому времени это уже было «новшество», нечто даже богопротивное с точки зрения подьячих и истинно русских людей.
Мало того, Нащокин перевернул в Пскове вверх дном весь строй общественного управления, урезав даже свою собственную, почти неограниченную, воеводскую власть.
Ему жаль было своего родного города, когда-то богатого и могущественного, гордого союзника и соперника «Господина Великого Новгорода». Как пограничный город, стоявший на рубеже двух соседних государств – Швеции и Польши, Псков ещё недавно богател от заграничной торговли с этими обоими государствами. Войны последних лет почти убили эту торговлю. Между тем вся экономическая жизнь города и его области сосредоточилась в руках кулаков, богатых «мужиков-горланов», положительно не дававших дышать остальному населению страны.
– Я не хочу только кормиться от моей родины, – я сам хочу её кормить! – говорил новый воевода в съезжей избе во всеуслышание.
– Как же ты её, батюшка воевода, кормить станешь? – лукаво спрашивали «мужики-горланы».
– А вот как, господо старички: с примеру сторонних, чужих земель…
– Это с заморщины-то, от нехристей? – ухмылялись в бороды лукавые старички.
– С заморщины и есть: за морем есть чему поучиться. Так вот я и помышляю в разуме, что как во всех государствах славны те только торги, которые без пошлины учинены, то и для Пскова-города я учиню такожде: быть во Пскове-городе беспошлинному торгу раз с Богоявления по день преподобного Евфимия Великого, сиречь по 20-е число месяца януария; другой раз – с вешнего Николы по день мученика Михаила Исповедника[65].
– Так, батюшка воевода, так! Да какая же нам-от с той беспошлины корысть будет, да и казне-матушке? – лукаво спрашивали горланы-мужики, по-нынешнему консерваторы.
– А вот какая корысть! То, что вы ноне, стакавшись промеж себя, продаёте втридорога молодшим и чорным людям и рольникам, то у иноземных гостей они купят за полцены.
– Что ж, батюшка воевода, – это корысть токмо подлым людишкам, смердьему роду, а казне-ту-матушке пошлинная деньга плакала, – твердили своё старые лисицы.
– И казну не обойду, – отражал их доводы ловкий воевода. – Ноне, ведомо вам буди, по всей матушке Русии торговые люди плачутся на иноземных гостей: гости-де, стакавшись промеж себя, как и вы вот, мошной своей – а у них мошна не вашей чета! – мошной своей всех наших торговых людей задавили. Вы сами не левой ногой сморкаетесь…
– Хе-хе-хе! – отвечали на шутку воеводы старики. – Шутник ты!
– Нет, я не шучу; а вы сами ведаете, что иноземные гости, чтобы проносить ложку с русской кашей помимо ваших ртов, стакались с вашим же братом, которые победнее, задают им деньги вперёд, на веру, а то и по записи, и на эти-то деньги ваш брат, который победнее, и скупает на торгах, и по пригородам, и по сёлам товар малою ценою – и всё это им же, толстосумым гостям. Вот от такого-то неудержания русские люди на иноземцев, на их корысть, торгуют ради скудного прокормления и оттого в последнюю скудость приходят, а которые псковичи и свои животы имели, то и они от своих же сговорщиков с немцами для низкой цены товаров – также оскудели.
– Правда, истинная правда, боярин, – соглашались старички и удивлялись: —И откуда это ты, боярин, в нашем торговом деле таково стал дотошен?
– Откуда? Я не из княжеского роду, не из богатых бояр: знавал и я, почём ковш лиха, да ноне цены тому ковшу не забыл.
– Так-так… Да как же ты, боярин, этого ковша изведёшь, чтобы нас то-есть немцы не заедали?
– А вот как: чтобы не было такого тайного сговора с немцами, чтобы маломочные псковичи не брали у них в подряд денег и не роняли цены русским товарам, вы, старички и молодшие, лучшие торговые люди, распишите сами, по свойству и по знакомству, во Пскове-городе и по пригородам, всех маломочных людей, распишите их по себе, и ведайте их торговлю и промыслы, а во место того, что они брали деньги у немцев и на них работали, на их колеса воду лили, будем давать им ссуду из земской избы. Когда таким изворотом маломочные люди на земские деньги накупят товару, то пущай везут его во Псков, к примеру, в декабре месяце, сдают товар в земскую избу, в амбары, где и записываются все подвозы в книги, а вы, лучшие люди, должны принимать тот товар каждый у своего, кто за кем записан, и давать им цену с наддачею для прокормления, и чтобы к маю месяцу они накупали новых товаров – к самому Никольскому торгу; после же торгу вы, лучшие люди, продавши товары свалом иноземцам, должны заплатить маломочным людям ту цену, по какой сами продали.
– Ну и дока же наш воевода, – твердили после этого псковичи.
Но Нащокин в своих преобразованиях пошёл ещё дальше, урезав свою собственную власть, и опять-таки по образцу западному – «с примеру сторонних, чужих земель».
Собравши в земской избе всех «лучших людей» Пскова, он держал к ним такую речь:
– Господо псковичи, лучшие люди! уверились ли вы, что я хочу добра Пскову-городу?
– Уверились! уверились! – послышались голоса. – В торговом деле ты уже утёр носа немцам.
– Спасибо! Так сотворите теперь сами доброе дело Пскову-городу и пригородам. Доселе воевода судил вас во всех делах и обидах; но воевода не всеведущ; вы свои дела и обиды лучше знаете. Так выберите из себя пятнадцать человек добрых людей на три года, чтобы из них каждый год сидело в земской избе по пяти человек. Эти пятеро выборных должны судить посадских людей во всех торговых и обидных делах, а ко мне, к воеводе, отводить только в измене, разбое и душегубстве. Ежели же случится тяжба между дворянином и посадским, то судить дворянину – кто будет у судных дел – с выборными посадскими людьми. Пошлины же с судных дел, решённых пятью выборными, держать в земской избе для градских расходов. Люба ли вам моя речь? – закончил воевода.
– Люба-то, люба, только дай нам малость подумать, – был ответ.
– Думайте, думайте.
За этими думами Псков разделился на две партии: меньшие люди все примкнули к «новшеству» Нащокина, «лучшие» – упёрлись на старине, что для них было выгоднее.
Так и в ином другом Нащокин шёл несколько впереди своего века. За это его и не любили старые бояре и подьячие.
Оттого, когда сегодня утром молодой Нащокин, Воин, шёл из столовой избы через переднюю, его провожало злобное шипенье приверженцев старины:








