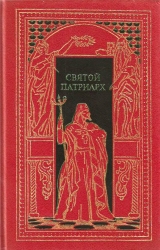
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 37 страниц)
– Пустое, государь: так – челобитьишко одно, – отвечал Алмаз Иванов, – жалобишка непутёвая.
– На кого? – спросил государь.
– На твоих государевых воевод, на симбирских да на саратовских с товарищи.
– А чья жалоба?
– Твоих государевых оброшных людишек.
– А ну-ко, вычти, – сказал с неохотой «тишайший», позёвывая: ему так хотелось купать стольников.
– «Великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, – начал, прокашлявшись, Алмаз Иванов, – всеа Русии самодержцу и многих государств государю и обладателю…» «Облаадателю» с одним азом, государь, прописка…
– С одним азом? – строго спросил царь.
– С одним – точно: «обладателю» – во место «облаадателю», государь, – отвечал дьяк.
– А кто учинил прописку?
– Писал, государь, подьячей не у дел Юшка Иванов.
– Так укажи бить Юшку батоги нещадно, – решил Алексей Михайлович[118].
Надо заметить, что в царском титуле слово «обладатель» всегда и обязательно писалось с двумя а после первого л; «облаадателю».
– Читай дальше, – приказал государь. Алмаз Иванов продолжал:
– «Бьют челом сироты твои государевы, симбирские и саратовские татаровя мурзишки и сотничишки и мордовские и чувашские людишки, а во всех их место Багай Кочюрентеев сын да Шелмеско Шевоев сын: велено нам, сиротам твоим государевым, по твоему государеву наказу, твоя государева пашня пахати за твой государев ясак. И мы, сироты твои государевы, твою государеву пашню пахали многие годы – рожь и ячмень и овёс сеяли. И мы твою государеву пашню пашучи, лошади покупали, животишки свои и достальные истощали. А за твоей государевой пашнею ходячи, одежонку всю придрали, и женишка и детишка испроели, и нынече, государь, помираем голодною смертию. А одежонки нам, государь, сиротам твоим государевым, купити не на што и нечим, и мы, государь, сироты твои государевы, погибаем нужною смертию, волочася с наготы и с босоты. А в осеннюю пору, государь, мы ж, сироты твои государевы, на гумна возим твой государев хлеб, и в клади кладём, и молотим. Да в летнюю пору, государь, и в зимнюю ездят в Астрахань твои государевы воеводы, и дети боярские, и казаки, с твоими государевыми делы к Москве и с Москвы, и они, государь, емлют нас в подводы и с судами в летнюю пору, и в зимнюю пору с лошадьми и саньми, и у нас, государь, у сирот твоих государевых, в подводах ездячи и ходячи, голодною смертию и нужною с волокиты лошадёнки помирают. А которые, государь, из нас татаровя и иные людишки по дорогам у Волги жили, и они, государь, от подвод разбегаются, живут по лесам в незнаемых местах. И у нас, государь, у сирот твоих государевых лучших людишек, у мурзишок, у сотничишков, в подводах людишки и лошадёнки помирают; а другие бегают по лесам от твоих государевых посланников потому: они, государь, посланники твои и воеводы нас, сирот твоих государевых, всякими пытками пытают, и поминки с нас всякие емлют, и нас, сирот твоих государевых, грабительски грабят – коровёнка и куры, и гуся и утку, и рыбу, чем мы сироты твои государевы сыты бываем, емлют насильством же, грабежом, государь, сымают с нас, сирот твоих государевых, с плеч шубы и зипуны, и порты и лапти, а у кого, государь, из нас сирот твоих государевых и портов нет, и тех, государь, морят голодом до смерти, а иных, государь, емлют себе в холопи, а жён, государь, и девок…»
Алексей Михайлович нетерпеливо махнул рукой:
– Скоро конец?
– Скоро, государь.
И Алмаз Иванов, пробежав глазами челобитную, продолжал:
– «А мастеров, государь, у нас в нашей бусурманской вере нету, ни дровишек, государь, усечи нечим, ни на зверя, государь, засеки сделати без топора не мошно и нечим, а обуви, государь, без ножа сделати не мошно же. И нам, государь, сиротам твоим государевым, с студи и с босоты и с наготы голодною смертию погибнуть, и нам, сиротам твоим, жити стало невозможно, и впредь, государь, погибнуть».
– Слышал! – нетерпеливо перебил докладчика Алексей Михайлович. – Ну?
Дьяк продолжал чтение:
– «Милосердный царь государь, пощади сирот своих, покажи милость, не помори сирот своих напрасною смертию, вели нам, сиротам своим, по-прежнему покупати у русских людей топоры и ножи и котлы, чтоб мы сироты твои государевы в конец не погинули и с студи и с босоты и наготы не померли, впредь бы твоего государева ясаку не отстали. Царь государь, смилуйся, пожалуй».
Алмаз Иванов кончил и вытер вспотевший лоб ширинкой. Алексей Михайлович вздохнул с облегчением.
– Ну, слава Богу! – сказал он, зевая и крестя рот рукой, «чтоб зевотой не вошёл в рот и в утробу нечистый». – Передай челобитье в думу: коли буду сидеть с бояры, тогда разберу и указ учиню. А теперь пойду на крыльцо: там, чаю, стольники заждались мово купанья. Да на их счастье и день тёплый выдался.
И царь двинулся на крыльцо.
У крыльца уже давно толпилась дворская челядь – стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы. На самом же крыльце, на площадке, имели право дожидаться только бояре, думные люди и другая знать.
Появление царя вызвало бурю поклонов, земных и поясных. Всё заколыхалось, сдержанно кашляло, робко сморкалось «в персты», по «Домострою», «вежливенько, дабы не рычать носами»[119].
После скучного доклада лицо «тишайшего» просияло при виде порядочной группы стольников, стоявших в стороне от прочих. Это были те, за которыми числилась провинка: они опоздали к утреннему царскому «смотру» – к выходу. Их и ожидало купанье в пруду.
– Ну, Алмаз, вели начинать действо, – обратился государь к Алмазу Иванову.
Последний подал знак жильцам, которые стояли около провинившихся стольников: это были «купальные».
«Купальные» подхватили под руки стоявшего впереди молодого стольника, высокого и стройного, и повели к «ердани» – к купальной открытой сени.
– Многая лета великому государю! – едва успел крикнуть стольник, как «купальные» толкнули его в пруд «прямо мордой».
Стольник скрылся под водой, но через несколько секунд вынырнул и, ловко держась на воде, клал поклоны, ударяя лбом о поверхность воды.
– Ай да ловок Еремей! – послышались одобрительные возгласы среди бояр. – И на воде великому государю челом бьёт.
– И точно ловок! ах, язва!
А стольник, видя произведённый им эффект, поднял правую руку и возгласил:
– Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние твоё! Победы благоверному государю нашему Алексею Михайловичу на супротивныя даруяй…
– Ах, язва! и вода ево не берёт.
Алексею Михайловичу, видимо, понравились проделки стольника.
– Похваляю, похваляю, Еремей! – милостиво улыбался он.
Еремей вышел из воды и, оставляя за собою мокрый след и низко кланяясь, приближался к царю. Тот пожаловал ловкого стольника к руке.
– Похваляю, похваляю, – продолжал Алексей Михайлович, – жалую тебя двумя обедами.
Все с завистью смотрели на счастливца: его ожидала карьера по службе. Шутка ли! два обеда разом!
Между тем «купальные» тащили уже другую жертву царской потехи. Это был старенький, сухенький и тщедушный стольничишко, которому плохо везло по службе. Он никогда не опаздывал к царскому смотру потому, что, с одной стороны, был холопски усерден к службе и верен, «аки пёс», с другой – он боялся воды, так как во всю свою жизнь не купался, предпочитая холодной речной воде паровую баню с веником; но сегодня, на беду, опоздал, за своею глухотою не расслышав боя часов на одной из кремлёвских колоколен.
Он весь дрожал со страху, крестился и жалобно просил:
– Царь государь! смилуйся, пожалуй! я отродясь не плавал… я немощен… у меня утин в хребте…
Это тешило «тишайшего», и он смеялся, а бояре вторили ему почтительным ржанием.
«Купальные», подстрекаемые общим весельем, взяли свою жертву за ноги и за руки и, раскачав в воздухе, бросили далеко в пруд. Тщедушное тело бултыхнуло в воду и пошло ко дну. На поверхности всплыли пузыри…
Ждут, а он не показывается. Ещё ждут – нет его, только пузыри вскакивают.
– Ишь, старый, словно тебе выхухоль в воде живёт, – слышалось меж боярами.
– Что выхухоль! настоящий соболь…
А соболя всё нет. Алексей Михайлович начинает тревожиться.
– Он шутит, государь, – успокоивают его бояре, – ишь проказник!
Но проказника всё нет – и вода в пруду сравнялась – гладко, как зеркало.
– Ищите его! вымайте из воды! – тревожно заговорил государь. – Ох, Господи!
Все засуетились, но никто не смел броситься в воду. Слышались только возгласы, оханья. Все столпились у пруда, разводили руками, топтались на месте, как овцы…
Вдруг кто-то протискивается сквозь толпу, крестится и с размаху бросается в пруд.
– Еремей! Еремей Васильевич Сухово! – послышались радостные голоса.
Это был действительно он. Смельчак быстро доплыл до того места, где скрылся под водою старенький стольник, и нырнул. Через несколько секунд он вынырнул, держа в одной руке за шиворот утопленника и поддерживая его беспомощную лысую голову над водою, и скоро достиг «средины».
– Не клади на земь! не клади! – послышались возгласы.
– Дайте охабень! на охабени качайте! отойдёт!
– Ах, Господи! ах, Господи! – повторял Алексей Михайлович, глядя на посиневшее лицо утопленника.
Несчастного положили на охабень, качали шибко, сильно. Жалкое маленькое тело в мокрой одежде беспомощно перекатывалось по охабню, руки и ноги болтались как плети, посиневшее лицо как бы о чём-то просило…
Но его так и не откачали…
XXIII. Роковое пожатие руки
В то время, когда Алексей Михайлович выслушивал доклады дьяка Алмаза Иванова, а потом купал своих стольников, его любимица, царевна Софья Алексеевна, затеяла прогулку в лес по грибы. Она воспользовалась прекрасным, тёплым сентябрьским днём и тем обстоятельством, что царская семья и весь двор на днях должны были переехать из села Коломенского в Москву.
Теперь Софья Алексеевна была уже не подросток-девочка, а настоящая девица – «большая»: ей уже семнадцать лет, и она выросла, пополнела и вполне развилась физически.
В это утро, по обыкновению, она училась с Симеоном Полоцким, который никак не мог удовлетворительно объяснить ей, отчего это бывает снег. Хотя он объяснял по-учёному, но ужасно туманно, и это раздражало царевну.
– Егда пара восходит на воздух, – толковал он, – и ветр далече проженет, и та пара отолстеет, обаче же не может в камень смерзнутися, понеже тамо есть мгла посреди: всё же строится судьбами Всесотворшего, и идёт снег, дождь и град, роса и иней, мразь и зной, воздухом и солнцем, обаче же токмо един. Он всесильный творец весть.
– Ах, Симеон Ситианович, – зевала царевна, – лучше пойдемте в лес по грибы: вон какое вёдро – хорошо, зело хорошо; а то скоро в город переедем.
Конечно, учитель охотно согласился прогуляться в лесу с своей хорошенькой ученицей, и они, захватив корзинки, отправились небольшим обществом в рощу, примыкавшую к дворцу села Коломенского: с ними пошли за грибами и старая царевнина мамка, и случайно бывшая во дворце у царицы молоденькая Ордина-Нащокина, Наталья Семёновна, урождённая княжна Прозоровская.
Читатель, может быть, помнит, что княжну Прозоровскую, постригшуюся было с отчаянья, мы видели в последний раз три года тому, когда она вдруг неожиданно явилась в монашеском одеянии к Воину Ордину-Нащокину и решительно заявила, что в монастырь она больше не возвратится.
Происшествие это в своё время наделало много шуму в Москве, особенно в придворных сферах. Сделалось известным, что инокиня Надежда, урождённая княжна Наталья Прозоровская, отпросилась у игуменьи пойти в Успенский собор, во время службы, с кружкою для сбора пожертвований на святую обитель. Её отпустили с одной почтенной старицей. Но в соборе, среди литургии, молоденькая инокиня Надежда попросила старицу подержать на минуту и её кружку, пока она поставит свечку Николе Чудотворцу, – и тотчас же исчезла! Из собора она поехала прямо к тому, кого она давно любила, – к своему Воину.
Многих хлопот стоило родителям их спасти юную беглянку от жестокого наказания по «Номоканону» и по монастырскому уставу[120]. Только личное участие царя в судьбе молоденькой преступницы и его любовь к старику Нащокину отвратили от её пылкой головки суровую кару. Притом же Алексею Михайловичу проходу не давала его «непоседа», царевна Софьюшка, которую он иногда называл «запорожцем в юпке». Она с утра до вечера нудила над ухом: «прости да прости Наташу Прозоровскую»…
И пришлось простить. Но её, конечно, по тогдашнему выражению, «обнажили от ангельского чина», другими слонами – расстригли.
Потом любящаяся парочка сочеталась браком, и с той поры молодая Ордина-Нащокина, жена Воина, глубоко привязалась к царевне Софье Алексеевне за её заступничество пред отцом и при всяком удобном случае являлась во дворец.
Все шли с корзинками в руках, и Симеону Полоцкому дали огромную корзину, потому что он хвастался, что у них в Полоцке он считался первым «грибонаходчиком».
Дорогой говорили о том, что занимало тогда умы московского общества – о бывшем патриархе Никоне и о заключении его в Ферапонтовом монастыре, о ссылке протопопа Аввакума в Пустозерск, в земляную тюрьму, наконец, об изъявлении Разиным покорности.
– А что он после того, матушка царевна, сделал! Не приведи Бог, – заметила молодая Ордина-Нащокина.
– А что такое, Наташа? – спросила Софья Алексеевна.
– Да вот что, государыня царевна. Вечор от батюшки с Астрахани гонец пригнал с гостинцами мне от родителя – груши да виноград. Дак сказывал гонец: была-де в полонянках у Разина царская дочь, персицкого царя – красавица! ни в сказке сказать, ни пером написать. И полюбись, матушка, та царская дочь атаману Разину – уж так любил её, так любил! – и берег как зеницу ока. Пришло, – говорит, – атаману Разину пора-время говеть, и на духу его батюшка пытает: «что-де у тебя, раб Божий, дороже всего на свете?» – А так и так, батюшка, – говорит Разин: дороже мне всего, – говорит, – царска дочь. – «Кинь, – говорит батюшка, – кинь её в море, как кинул царь Соломон свой драгоценный перстень. Ежели, – говорит, – Бог примет твою жертву, то на третий же день рыба-кит, аки Иону, возвратит тебе царевну»[121].
– Ну, и что ж? – в волнении спрашивала царевна. – Кинул?
– Кинул, государыня, – отвечала Ордина-Нащокина.
– Господи! – всплеснула руками Софья Алексеевна. – Ну, и как же было дело?
– Да так: был, – говорит, – у атамана Разина пир большой, у него на струге: был у него, – говорит, – в гостях и мой батюшка. Вышла, – говорит, – из своей светлицы к гостям и царска дочь – вся в золоте да в камнях самоцветных, поднесла гостям по чаре, как закон велит. А Разин и говорит к гостям: «вот моё сокровище!» это на царскую-то дочь. – «Царь Соломон, – говорит, – бросил в море своё сокровище – драгоценный перстень, а я – её!». Да с этими словами схватил её поперёк и словно золот перстень бросил в море!
Все пришли в ужас от этого рассказа, дошедшего до Москвы уже в искажённом варианте.
– Ну и что ж – рыба-кит не принесла её на третий день? – спросила Софья Алексеевна.
– Не принесла, матушка царевна.
Симеон Полоцкий полагал, что это просто бабья сказка, и потому больше думал о грибах, чем о царской дочери и её участи.
– А вот сыроежка! вот и белый гриб! – радостно воскликнул он, нагибаясь, чтоб сорвать грибы.
Скоро и все увлеклись грибами.
В это время у опушки леса показались два всадника. По всему видно было, что это соколиные охотники, потому что у каждого из них на рукавице сидело по соколу – один в красной шапочке, другой в голубой.
– Да это никак князь Василий Васильевич Голицын[122]? – заметила Ордина-Нащокина.
– Он и есть, – подтвердил Симеон Полоцкий. Царевна Софья Алексеевна почему-то при этом вся вспыхнула.
– Должно, с соколиной охоты едут, – как бы нехотя сказала она.
Всадники подъезжали всё ближе и ближе, и вдруг один из них, остановив лошадь, соскочил с седла, передал и лошадь и своего сокола другому всаднику, что-то наказал ему и торопливо пошёл к грибоискателям.
Это был действительно князь Василий Васильевич Голицын, мужчина средних лет, широкоплечий и достаточно плотный. Он издали узнал Софью Алексеевну и, приближаясь к ней, почтительно снял шапку.
– Здравствуй, князь Василий! – ласково сказала царевна.
– Будь ты здрава, государыня царевна, – поклонился Голицын. – Грибным делом тешишься?
– Точно, – отвечала Софья, скользнув глазами по всей фигуре собеседника.
Голицын поздоровался и с другими.
– А князь Василий был на соколиных ловах? – спросила царевна.
– Грешным делом, государыня… Что ж я смотрю! – спохватился он. – Позволь, государыня, я хуть кошницу буду носить за тобой.
– И то дело, – согласилась царевна.
Все занялись исканием грибов, изредка перекидываясь словами: «ай да рыжик!» – «а у меня волнушка!» – «грузди!». Усерднее всех лазил по кустам Симеон Полоцкий, желая поддержать свою старую репутацию.
Молодая Ордина-Нащокина, не сильная насчёт грибной части, боясь набрать мухоморов вместо рыжиков, держалась профессора по грибной части – старой мамки и не отходила от неё.
Софья же Алексеевна, порывистая, нетерпеливая, быстро переходила от одного места к другому, и Голицын должен был следовать за ней. Она вся раскраснелась от ходьбы, и грудь её высоко поднималась. Часто взор её скользил по лицу Голицына, но как-то украдкой, стыдливо. Она испытывала какое-то радостное волнение вблизи этого сильного мужчины, и её всё дальше и дальше тянуло в глубь рощи.
Они давно потеряли всех из виду и, кажется, забыли о грибах.
– Вон гриб, государыня! – сказал Голицын, нагибаясь.
Нагнулась и Софья Алексеевна – и глаза их встретились. Что-то горячее сказалось с обеих сторон в этих глазах, и когда рука Голицына потянулась было к грибу, она ощутила не гриб, а другую руку – руку царевны. Руки соединились порывисто, судорожно. Но теперь они не смели взглянуть друг другу в глаза, хотя и чувствовали, что в этот момент они составляют одну душу, одно существо…
– Ау! ау! – послышался голос Ординой-Нащокиной.
– Я не могу откликнуться, – шептал в волнении князь Голицын, – не хочу!
– И не надо, – прошептала и Софья, вставая и не выпуская из руки руку Голицына.
Из-за ближних кустов показался Симеон Полоцкий. Он торжествовал – в корзине у него были всевозможные грибы.
– А вы? – обратился он к царевне и к князю Голицыну.
– Мы нашли всего одни гриб, – отвечал последний.
– А Симеон Ситианович помешал нам сорвать его, – добавила Софья, лукаво глянув на Голицына.
– Ау! ау! ау! – повторились ауканья Ординой-Нащокиной.
– Ау! ау! – отвечала царевна, думая про себя: «Теперь пущай её идёт».
Софья Алексеевна давно уже чувствовала влечение к Голицыну, часто встречая его во дворце. Ещё девочкой она видела в нём образец мужчины, а чем старше становилась, тем очевиднее для неё самой росло в ней нежное и тревожное чувство к тому, кого она в душе называла «Васенькой».
И вот сегодня она в первый раз почувствовала, что одно прикосновение его сильной, мускулистой руки дало ей столько счастья и чего-то такого сладостного, чего она ещё ни разу не испытывала в жизни. Это прикосновение точно обожгло её, и между тем ей хотелось, чтобы он не выпускал её руку, ей хотелось чувствовать её теплоту, её силу, её близость.
Все пошли дальше, продолжая искать грибы и уже не разбиваясь на отдельные единицы. Софья Алексеевна теперь стала внимательнее к своему делу, и в корзинку её, которую продолжал носить Голицын, всё чаще и чаще попадали то рыжики, то сыроежки, то и настоящие белые. Она рассказала Голицыну о варварском поступке Разина с своею хорошенькой пленницей, и Голицын тоже принял было это за сказку, если бы рассказ царевны не поддержала молодая Ордина-Нащокина, сказав, что гонец, привёзший эту весть из Астрахани, ещё не выехал из Москвы обратно и может лично подтвердить всё сообщённое князю.
Но пора наконец было возвращаться и по домам. Когда они выходили из рощи, у опушки её, на дороге, ведущей в Москву, Голицына ожидал его сокольничий с лошадью и соколом. Голицын простился и вскочил на коня, взглянув последний раз на царевну.
Софья долго провожала его глазами.
Весь этот день и она и он постоянно вспоминали, как руки их встретились там, в роще; но они, конечно, не могли предвидеть, какие кровавые последствия в будущем проистекут для России и для них самих из этого рокового пожатия одной руки другою.
XXIV. В куль да в воду
В то время, когда в Астрахани и в Москве происходили описанные нами события, как известно, заключён был с Польшею Андрусовский мир[123].
Виновником этого гибельного для Малороссии мира был старый наш знакомый, Ордин-Нащокин-отец. Этим постыдным миром Малороссия разрезывалась пополам, так сказать – по живому телу: вся правобережная Украина, Волынь и Подолия, отдавалась Польше вместе с величайшею святынею русского народа – Киевом!
Мало того! Ходили слухи – и небезосновательные, – что Ордин-Нащокин советовал царю совсем уничтожить казачество, как корень всех смут внутри государства и как начало всех несогласий и недоразумений с соседними государствами: долой Запорожье! долой донское и яицкое войско!
Когда эти слухи проникли на Запорожье и на Дон, тогда всё казачество подняло голову.
– Лучше жить в братстве с турками, чем с москалями! – крикнул на полковничьей раде Брюховецкий, потрясая в воздухе гетманскою булавой.
Это он выкрикнул в Гадяче. Подобный же возглас раздался и на Дону, на небольшом острове Кагальнике.
– Я вырежу до-ноги всё московское боярство и всех господ и поставлю над Русской землёю один казацкий круг! – сказал Разин, когда к нему на Дон явились посланцы от Брюховецкого.
Посланцы эти – наши старые знакомые, которых мы видели, в первой главе нашего повествования, в Столовсй избе Грановитой палаты, на отпуске у царя Алексея Михайловича: это – Герасим Яковенко или «Гараська-бугай», Павло Абраменко и Михайло Брейко, тот самый великан, который растянулся во весь рост на ступенях державного места и восклицанием – «оце лихо! николи с коня не падав, а тут, бач, упав!» – вызвал общий смех.
Посланцы привели от гетмана в подарок Разину прекрасного белого арабского коня под богатым чапраком, а для казацкого круга пригнали сто превосходных черкасских волов, рога которых перевиты были красными, голубыми, алыми и зелёными лентами.
– Уж и хохлы дошлые! Словно красных девок волов своих лентами изнарядили! – удивлялись донцы, любуясь прекрасными волами.
Стан Разина в это время, как сказано выше, находился на острове Кагальнике. Стан был обнесён высоким земляным валом, на котором в разных местах поставлены были пушки очень внушительных размеров. За валом вся площадь острова, то есть внутренняя часть острова, состояла из массы небольших курганов с торчавшими из них плетёными трубами: это были земляные избы или «курени», в которых помещались казаки Разина и он сам.
– Тебе бы, батюшка Степан Тимофеевич, особый куренёк срубить, – говорил ему есаул Ивашка Черноярец, когда рыли землянки для войск.
– У Христа и норы лисьей не было, а он был царь над царями, – отвечал Разин.
Гетманских послов Разин принял без всяких излишних церемоний, которых он терпеть не мог, говоря, что они служат «для отводу глаз дуракам», и только приказал стрелять из всех пушек, когда послы с берега садились в лодки, чтоб ехать на остров, и когда пристали к острову.
Присланных гетманом волов оставили на берегу, конечно, на время, для корму, а коня перевезли на остров и торжественно провели перед выстроившимися казаками.
Разин тотчас же собрал «круг». В кругу стояли: Разин с своим есаулом и три гетманских посла. В руках у Разина была богатая атаманская «насека» или бунчук.
Гарасим Яковенко несколько отступил от товарищей вперёд и подал Разину «лист» от гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого и всего войска запорожского низового к господину атаману Степану Тимофеевичу Разину и всему вольному войску донскому. Разин взял «лист» – пакет, поцеловал печать, бережно разломал её и, вынув из пакета бумагу, подал её есаулу.
– Вычитай, что пишет нам ясновельможный гетман и всё славное запорожское войско низовое, – сказал он, несколько преклоняя бунчук в знак почтения к посольству.
В послании говорилось о нестерпимых утеснениях, делаемых Москвою и её воеводами Украине, об отдаче Киева и всех печерских угодников полякам, о намерении уничтожить всё казачество.
Казаки не дали есаулу дочитать послание до конца.
– Не бывать этому! – кричали они, хватаясь за сабли, точно бы враг стоял перед ними налицо.
– На осину всех бояр! в куль да в воду! – кричали другие.
Посланцы Брюховецкого объяснили, что заводчиком всего этого у царя – Афонька Ордин-Нащокин.
– Он и сына свово, проклятого Воинку, подсылал к нам лазутчиком, – пояснял великан Брейко.
– А наши казаки выкрали его у ляхов. Мы думали, что оно что-нибудь доброе, а оно вон что – змеиное отродье! – добавил «Гараська-бугай».
– Мы его и в Москве найдём! – кричали казаки.
– И батюшку и сынка в один куль! – добавляли другие, «Майдан» долго волновался, пока Разин не махнул бунчуком. Всё утихло.
– Атаманы-молодцы и всё вольное войско казацкое! – возвысил голос Разин. – Москва хочет утопить нас в ложке воды, отобрать от нас казацкие вольности…
– Этому не бывать! – опять послышались крики.
– Не бывать! – подтвердил и Разин. – Мы сами зажгем московское государство с двух концов: мы с Волги, запорожские казаки и татары – с Днепра, и тогда посмотрим, кто кого в крови утопит!
– Любо! любо! Только не мы утонем! – кричали казаки.
Между тем на кострах, разведённых ещё с утра, на пищальных шомполах уже жарились огромные куски черкасской говядины, а из войскового подвала выкатывались бочки с вином.
Скоро на майдане начался пир.
И донские, и запорожские казаки все были горазды выпить, а потому гульня была жестокая.
Чей-то голос вдруг затянул:
«Как у нас на Дону,
Во Черкасском городу»…
– К бесу Черкасский город, – раздались другие голоса, – там Корнилка Яковлев заодно с Москвою! В воду всех согласников![124]
Тогда другой голос запел:
«Как у нас на Дону,
В Кагальницком городу!»
– Любо! любо! в Кагальницком городу!
Пьяные голоса перебивали один другого, никто никого не слушал. А какой-то казак с вырванною ноздрей, взявшись в боки, приседал пьяными ногами и приговаривал:
«А как наш-то козёл
Всегда пьян и весел,—
Он шатается,
Он валяется»…
Ему вторила другая пьяная, тоже вырванная ноздря – из «сибирных», которая, приставив сложенные ладони ко рту, дудела как на дудке:
«А-бу-бу-бубу-бу-бу,
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу,—
Труба точёная,
Позолоченая!»
Между тем Разин, который в это время разговаривал с запорожскими послами, вспомнив что-то, встал на ноги (он сидел и пировал с послами на разостланном персидском ковре) и крикнул таким голосом, который всех заставил очнуться.
– Атаманы-молодцы! слушать дело! – поднял он бунчук. – Привести сюда бабника с бабой!
Несколько казаков бросились к небольшой земляной тюрьме и вывели оттуда рослого, широкоплечего и мускулистого казака и молоденькую девушку-казачку. За ними ещё один казак нёс длинный рогожный куль, в котором отчаянно метался и мяукал кот.
Приведённый из земляной тюрьмы молодой казак смотрел кругом смело, вызывающе, дерзко. Юная же подруга его была бледная, как мел, и едва стояла на ногах. Молодость и миловидность её были таковы, что даже грубые, зачерствелые черты убийц при виде её смягчались.
Несчастные обвинялись в тяжком для «казака в поле» преступлении. Тренька Порядин – так звали молодого казака – нынешней ночью стерёг на войсковом лугу казацких коней. Когда же дозорные казаки обходили ночью войсковой табун и проверяли варту, то застали Треньку Порядина с этой девушкой, с Палагой Юдиной, с соседнего хутора. А по казацкому обычаю, «казак в поле» за сношение с бабой подвергался смертной казни: «в куль да в воду», притом вместе с бабой, если она поймана, и вдобавок – с котом, который бы их царапал в куле.
Когда вины несчастных были сказаны есаулом в казацком кругу перед гетманскими послами, Разин сказал:
– Вершите, атаманы-молодцы! в куль да в воду! Говоря это, он не сводил глаз с трепетавшей девушки.
В его душе вдруг встал другой милый образ, так бесчеловечно погубленный им. За что? за чью вину? И уже никогда, никогда этот милый образ не явится ему наяву, как он часто является ему во сне и терзает его душу поздним, напрасным раскаяньем. И его разом охватила такая тоска, такая душевная мука, что он сам, кажется, охотно бы пошёл в этот куль и в воду…
– В куль да в воду! – повторили голоса в кругу, иные видимо неохотно.
Осуждённый посмотрел в глаза своему атаману таким взглядом, что даже Разин смутился.
– Тебя, вора, в куль да в воду! – глухо произнёс осуждённый. – Ты не по закону жил с персицкою княжной, бусурманкой, а Палага – моя законная невеста…
Глухой ропот пронёсся как ветер по майдану. Разин страшно побледнел и пошатнулся, словно бы от удара. Слёзы и судороги сдавили ему горло…
– Он прав… он прав, братцы! – рыдая говорил он. – Вяжите меня в куль… я не отец вам… я не жилец на этом свете… Ох, смерть моя!.. вяжите меня!..
Разин упал на колени и положил бунчук на землю.
– Простите меня, братцы! – И он кланялся в землю. – А теперь вяжите… вот мои руки… в куль да в воду!..
Он говорил точно в бреду. Весь майдан онемел от ужаса…
Наконец некоторые из казаков опомнились, бросились к своему атаману, подняли его…
– Батюшка! отец наш! не покидай нас, сирот твоих, – умоляли они его, – без тебя мы пропали.
Стон прошёл по всему майдану. Разина обступили, целовали его руки, плакали… Плакал и он… В плаче этом слышалось глубокое отчаяние.
Но потом он быстро подошёл к осуждённому и горячо обнял его:
– Прости меня, Тренюшка! прости, родной мой! И ты меня прости, Палагеюшка!
Он поклонился девушке в землю. Та бледная, всё ещё растерянная и трепещущая от ужасного над нею и её возлюбленным приговора, силилась поднять валявшегося в её ногах страшного атамана.
– Прости! прости меня! – повторил Разин. – За твой девичий стыд! за моё окаянство – прости!
– Бог всех простит! Бог всех простит! – раздались отдельные голоса на майдане, а за ними в один голос закричало всё войско: – Бог всех простит! Бог всех простит!
Эта картина, полная глубокого драматизма, произвела сильное впечатление на запорожцев.
В конце концов, осуждённые были помилованы и как почётные гости посажены в круге, а ни в чём не повинный кот, выпущенный из куля, с сердитым фырканьем вскочил на ближайшую развесистую вербу и злобно глядел оттуда своими круглыми, горевшими зелёным огнём глазами.
XXV. Жена Разина
Посольство Брюховецкого к Разину, как известно, ни к чему не привело. Гетман правобережной Украины, Дорошенко, в несколько недель покорил под свою власть всю левобережную Украину, и Брюховецкий своею же чернью – «голотою» – в несколько минут был забит палками и ружейными прикладами, «как бешеная собака», по выражению летописца[125].








