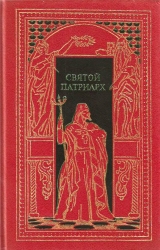
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 37 страниц)
– Ну-ну! Не мешай ты, Дуня, – волновалась Морозова.
– Он и увидал меня.
– А ты его?
– И я его.
– Ну, какой же он из себя?
– Я со страху и не разглядела… чёрный… бритый… глаза…
– А сказывают, он своей земле, у черкас, всё одно что царь, – заметила Урусова.
– И батюшка сказывал, – потвердила Оленушка.
– А каким крестом он крестится, милая? – спросила серьёзно Морозова.
– Батюшка сказывал, что по-нашему, – отвечала невеста.
– Ой ли, светик! – усомнилась Морозова. – Вон протопоп Аввакум сказывал, что они, черкасы-то, щепотью крестятся.
– А как же у них, в Кеиве, угодники-то печерские почивают? – усомнилась с своей стороны Урусова. – Коли бы они были не нашей веры, у них бы угоднички не почивали.
– Так и батюшка сказывал, – подтвердила Оленушка.
Видно, что «батюшка» для неё был авторитет неоспоримый: что сказал отец – то свято и верно. Притом же и само сердце подсказывало ей, что не в щепоти дело. Оно билось и страхом чего-то неведомого, и какою-то тайною радостью. Да и то сказать: гетман был и не страшен, как сразу ей показалось; она ахнула от нечаянности и стыда: шутка ли, мужчина, да ещё черкашенин, увидал девку на улице! и девка глазела на него – срам да и только! А она успела заметить, что этот черкашенин молодцом смотрит – такие усы, да бороды нет; а то все бояре, которых она видела, – все бородатые, и все на батюшку похожи… Только одно страшно – сторона далёкая, незнакомая…
И в голове Оленушки сама собой заныла горькая мелодия свадебного причитанья по русой косе:
Уж вставайте-ко, мои подруженьки,
Уж вставайте-ко, мои лебёдушки,
Заплетите-ко мне русу косыньку,
Русу косыньку, мелку-трубчату,
Не во сто мне прядей и не в тысячу,
Заплетите мелку-трубчату,
Уж впервые ли и в остаточки…
И Оленушка снова заплакала, закрыв лицо белым рукавом.
В комнату вбежала маленькая царевна и бросилась к Морозовой.
– А я все уроки выучила, и больше выучила, как Симеон Ситианович мне задал, – радостно говорила она. – Завтрее он меня похвалит.
– Вот и хорошо, государыня царевна, – отвечала Морозова, лаская бойкую девочку.
– Ну, так теперь и пастилы можно дать?
– Можно, можно.
Увидав заплаканные глаза у Оленушки, царевна бросилась к ней.
– Ты об чём, Оленушка, плакала? – спросила девочка.
Оленушка не отвечала, а только смущённо опустила голову. Маленькая царевна вопросительно посмотрела на свою мамушку.
– Это ты её? – спросила она.
– Чтой-то, царевнушка! всё я, да я! – защищалась толстуха. – Оленушку замуж отдают.
– Замуж! за кого?
– Вон за того гетмана, что онамедни у батюшки царя ручку целовал.
– A! я его видала с переходов – точно лях. И девочка с участием подошла к Оленушке…
– Не плачь, Оленушка, – сказала она, – вон Симеон Ситианович сказывает: у них, у черкасов, говорит, лучше жить – веселее…
В это время кто-то торопливо говорил у дверей:
– Государыня-царица, государыня-царица идёт…
Глава IX. СМУТА В СОЛОВКАХ
Таким образом, ни 11 сентября, ни последующие затем дни, на которые Никон возлагал тайные надежды, не оправдали этих надежд. Подосланный им к гетману верный человек, Федотка Марисов, двоюродный племянник патриарха, воротился ни с чем. Федотка не только не убедил гетмана взять его с собою, но своим появлением на посольском дворе возбудил серьёзные подозрения властей, и хотя ничего лишнего не сказал на допросе в малороссийском приказе, однако накинул сильную тень на самое поведение патриарха. При всём том Никон не падал духом и не терял надежды. Природа наделила его слишком большою живучестью – живучестью мощного духа, а железная воля закалилась с детства, крепчая год от году с того самого момента, когда его, голодного, холодного и босого ребёнка, злая мачеха столкнула в погреб, и когда он, наэлектризованный фанатическою проповедью желтоводского старца, наложил на себя обет сурового подвижничества. Дойдя потом на своих собственных ногах до высочайшей ступени человеческой власти, он сам уверовал в провиденциальносгь своей судьбы над русскою землёю и глубоко веровал, что не люди а только Бог, возведший его на эту превысочайшую степень, и может свести его оттуда своею десницею, или возвести ещё выше. Он ждал только указания свыше – и указанием этим он считал перст Божий, который прошлую зиму в виде звезды хвостатой грозился на кого-то с неба. Но на кого? Никон глубоко верил, что не на него, а на его врагов.
Поэтому и неудача у гетмана не отняла у него надежды. Он понял только, что провидение повелевает ему ждать. И он ждал, но ждал не пассивно, что было не в его натуре. День за днём, при посредстве своих монахов и тайных друзей, он следил за всем, что делалось в Москве. Он видел, что там ждали чего-то и в ожидании занимались текущими делами. Гетман всё оставался в Москве, сватался, а потом собирался жениться. Следовательно, раньше следующего года или раньше святок нельзя было и думать о его выезде в Малороссию.
Дни тянулись за днями, как те тяжёлые, свинцовые и холодные тучи, которые ползли на востоке и которые созерцал патриарх, ходя по переходам своих келий и поглядывая иногда на пустое ласточкино гнездо. «Придёт снова весна, и оно будет не пустое», – думалось ему, и при этом само собой это чёрненькое птичье гнёздышко сопоставлялось с покинутым в Москве патриаршим престолом, который теперь тоже пуст, но для которого, как и для гнезда ласточки, снова наступит весна, и он не будет сиротствовать.
Неприятно волновали его другие вести, приходившие из Москвы. По этим вестям можно было думать, что там опять начинают поднимать голову те силы, которые Никон считал давно сломанными его мощною рукою, далеко рассеянными и присыпанными морозною пылью далёкой Сибири: поднимали голову эти Аввакумы, Лазари, эти Никиты-пустосвяты, которые плевали на труды целой жизни Никона, отрепьями старины забрасывали работу рук его, кричали на всю Москву о возврате к старому. И Москва, по-видимому, возвращалась к старому, отворачиваясь от дела Никона и от него самого. За Аввакумом уже ходили толпы народа, жадно слушая его неистовые кричанья и лай на Никона. Голос Аввакума доходил до палат боярских. Боярские и княжеские жёны шли за Аввакумом, как за пророком. Морозова и Урусова – царицыны любимицы – стали духовными дочерьми Аввакума. А Никон забывается.
И не одна Москва с голоса Аввакума лает на Никона и на его работу: по всей русской земле завелись свои Аввакумы. Аввакумы проникли и в Соловки: и там не хотят принимать новых книг, напечатанных Никоном. А Соловки – это вечевой колокол всей старой Руси.
Возвращавшиеся из Соловков богомольцы сказывали, что соловецкие старцы в один голос кричат:
– По святой Руси ходит ересь пестрозвериная: опестрил тою ересью Никона Арсентий грек[27], а Никон опестрил ересью все книги, всю русскую землю. Он-де сам в Успенском соборе каялся народу: окоростовел-де я коростою ереси, и та короста от меня паде на вас, и вы все окоростовели от меня.
Действительно, в Соловках было далеко не спокойно. Волнения начались там ещё в 1657 году, когда Никон был на патриаршестве. В Соловки присланы были новые богослужебные книги никоновского издания. Слухи о присылке «новых» книг произвели такое смятение в стенах монастыря и по всем его усольям, как будто бы на святую обитель напала орда и хочет монастырь разрушить до камня, а братию истребить до последней ноги. В виду такого страшного дела архимандрит созвал «чёрный собор». У всех на лицах выражались ожидание и страх.
Вынесли книги, положили на стол.
– Смотрите, отцы и братия, каковы книги, – взывал архимандрит, – а я уже стар и слеп: может, чего не догляжу.
Заскрипели и защёлкали медные застёжки книг под грубыми ладонями иноков, более привыкших рыбу солить да дрова рубить, чем книги перелистывать. Зашуршала новая толстая бумага под непривычными пальцами. Роются старцы, усердно, до поту роются – и литеры-то новые, без загогулин и завитков, и титлы-то кривобоки, и заставки-то с киноварью не те, и все не на своём как будто месте не знаешь, где его искать, как и читать: то «Отче наш» не на своём месте, то в «Богородице» буки не с такою заставкою, то «Помилуй мя Боже» не отыщешь – застряло где-то. Беда да и только! В старых книгах знаешь, где что искать – листы сами открываются там, где захочешь: нужно тебе «Блажен мужа» – он тут как тут, понадобилось «Вскую шаташася» – и оно под рукой. А тут ищи его, а коли найдёшь, так не прочтёшь – литеры не те, новые, и ижица не та, и фита с какими-то лапками…
– Отцы и братия! – кричит один инок. – В символе веры, чу, аз выкинули!
– Этого нельзя! Эти книги не годятся: латынские они! – кричит другой.
Чёрный собор заволновался. Выступили учёные старцы, попы и дьякона.
– Отцы и братия! стойте на старых книгах. По ним мы учены и к ним привыкли, а к новым поздно привыкать.
– Поздно! поздно! Мы, старики слепые, и по старым книгам очередей своих недельных держать не сможем, а по новым-то на старости лет учиться не можем да и некогда: что учено было, и того мало видим, а по новым книгам нам, чернецам косным, непереимчивым и грамоте ненавычным, сколько ни учиться, не навыкнуть.
– Долой новые книги! – кричала братия.
– В огонь их, в море!
– Помолчите, отцы и братия! – завопил новый оратор, выступая из толпы. – Дайте слово сказать. Послушайте вы меня, старого: коли попы станут читать и петь по новым книгам, и мы от них причащаться не будем – помрём и так, а вере не изменим. А коли на отца нашего, на архимандрита, придёт какая кручина, либо жестокое повеление, и нам всею братьею бить за него челом своими головами, стоять всем за одно до смерти.
– Ладно! Стоять до смерти! – заревел чёрный собор. – Не выдавать архимандрита!
Архимандрит стоял у стола, положив дрожащую руку на книгу новой печати. По впалым и сморщенным щекам его катились слёзы.
– Братия и все православные христиане! – говорил он дрожащим голосом. – Видите, братия, последнее время: встали новые учителя и от веры православной, и от отеческого предания нас отвращают и велят нам служить на ляцких крыжах по новым служебникам. Помолитесь, братия, чтоб нас Бог сподобил в православной вере умереть, как и отцы наши! А я на то пошёл – умру за святой аз. Чёрный собор заревел почти в один голос:
– Нам латынской службы и еретицкого чина не надо! Не принимаем! Причащаться от еретицкой службы не хотим и тебя, отца нашего, не выдадим!
Два-три голоса возвысились было в пользу новых книг.
– А! – застонал чёрный собор. – Хотите латынскую еретицкую службу служить! Живых из трапезы не выпустим!
Новые книги так и не были приняты. В 1666 году, когда Никон, сидя в Воскресенском монастыре, томился ожиданием и неизвестностью, из Москвы послан был в Соловки спасского ярославского монастыря архимандрит Сергий с царским указом, грамотами и наказом архиерейского собора – привести соловецкую братию к повиновению. Сергий собрал чёрный собор, предъявил указ и грамоты. Невообразимый шум и крики заглушили его слабый голос.
– Указу великого государя мы послушны и во всём ему повинуемся! – выделились отдельные голоса из толпы. – А повеления о символе веры, о сложении перстов, о аллилуйи и новоизданных печатных книг не приемлем.
На скамью встаёт сам архимандрит соловецкий, старый Никанор. Его поддерживают чернецы, чтобы он не упал. Никанор поднимает руку высоко над своею головой, складывает три первые пальца и кричит неистово:
– Смотрите! это учение и предание латынское, предание антихристово! За два перста я готов пострадать! Ведите меня на муку! Да у вас теперь и главы нет – патриарха, и без него вы не крепки! Горе вам! Последние времена пришли!
Голос его оборвался. Он задрожал и с трудом был снят со скамьи. Он дико озирался по сторонам, как пьяный, бормоча: «Умру за два перста… умру за святой аз…»
Сергий, ошеломлённый воплем старого фанатика, обращается к собору и просит выбрать кого-нибудь одного.
– Со всеми разом говорить нельзя: меня закричать.
– Геронтий! Геронтий! – раздалось со всех сторон. Выступил Геронтий, высокий, сухой чернец. Глаза его искрились, в широких скулах и в прикушенной бороде виделось что-то упрямое, задорное. Выступил он с таким угрожающим лицом и с такими жестами, словно бы шёл на кулачки.
– Зачем вы у нас Сына Божия отняли? – сразу накинулся он на Сергия.
Сергий испуганно отступил назад, не понимая, о чём его спрашивают.
– Зачем вы в молитве «Господи Исусе» отъемлете «Сына Божия»? – продолжал оратор, наступая на оторопевшего посланца царского. – Зачем вы…
Но толпа не дала оратору продолжать: она одно поняла – что с ними делают что-то страшное. «Сына Божия» отнимают.
– Ох! ох! горе нам! – послышался страшный вопль дикарей. – Ох, горе! отымают у нас «Сына Божия»!.. Где вы девали «Сына Божия»?
Когда крики несколько утихли, Сергий хотел было подойти к Геронтию, но тот неистово закричал:
– Не подходи!.. покажи прежде, каким крестом крестишься, и тогда уж и учи нас!.. Допреж сего от соловецкой обители вся русская земля всяким благочестием светилась, и ни под каким зазором Соловецкий монастырь допреж сего не бывал, но яко столп и утверждение и светило сиял. А вы теперь от греков новой вере учитесь, а греческих архиереев самих к нам в монастырь под начал присылают: они и креститься-то не умеют, – мы их самих учим, как креститься.
По собору пронёсся гул одобрения. Сергий видел, что почва под ним колеблется, что не сломить ему сурового противника – и он прибег к страшному средству, после которого должны уже были заговорить пушки, а не люди.
– Великий государь царь Алексей Михайлович благоверен ли, благочестив ли, и православен ли, и христианский ли царь? – спросил он.
В свою очередь, Геронтий перед этими страшными словами отшатнулся было назад, но, увидев устремлённый на него взгляд старого Никанора, выпрямился и тряхнул волосами.
– Великий государь царь Алексей Михайлович благоверен, благочестив и православен, – отвечал он, обводя собрание глазами.
– А повеления его, которые к вам присланы, православны ли? – настаивал неумолимый посланец.
Даже Геронтий на эти страшные слова не знал, что отвечать: как волк, прижатый к стене, он растерянно оглядывался, ища взгляда Никанора. Но Никанор смотрел в землю и упрямо мотал головою.
– Освящённый собор православен ли? – продолжал пытать Сергий.
– Допреж сего патриархи были православны, а ныне, Бог весть – потому живут в неволе, а российские архиреи православны, – с трудом отвечал Геронтий.
– А которое к вам прислано соборное повеление – и оно православно ли?
– Повеления соборного не хулим, а новой веры и учения не приемлем, держимся предания святых чудотворцев и за их предания хотим все умереть, – был последний ответ старцев.
Сергий вышел из собора, окружённый монастырским караулом, словно арестант. Ему не позволяли даже в монастыре ночевать, а вместе с прибывшими с ним из Москвы посланцами вывели на остров и посадили под стражу. Когда его выводили из монастырских ворот, то собравшиеся там из окрестных усольев и посёлков мужики громко говорили:
– Которые московские стрельцы теперь здесь в монастыре, и тем мы свой указ учиним, – перебьём и перетопим, и которые за монастырём в ладьях, и тех перетопим, будто морем разбило… Всех побьём каменьем, потому посланы они от антихриста прельщать нас.
На соборе между тем, в трапезе, готовилось челобитье к царю. Когда оно было кончено, Геронтий встал на скамью и начал громко читать.
– Бьют челом богомольцы твои государевы: Соловецкого монастыря келарь Азарий, бывший Саввина монастыря архимандрит Никанор, казначей Ворсонофий, священники, дьяконы, все соборные чернецы и вся братия рядовая и больнишная, и служки и трудники все. Прислан с Москвы к нам архимандрит Сергий с товарищи учить нас церковному преданию по новым книгам, и во всём велят последовать и творить по новому преданию, и предание великих святых апостолов и святых отец седми вселенских соборов, в коем прародители твои государевы и начальники преподобные отцы Зосима и Савватей и Герман[28], и преосвященный Филипп митрополит пребывали, ныне нам держаться и последовать возбраняют. И мы, худые богомольцы твои и холопишки, чрез предания святых апостолов и святых отец священные уставы и церковные чины пременять не смеем, понеже в новых книгах выходу Никона патриарха, по которым нас учат новому преданию, вместо Исуса нашего с приложением лишней литеры Иисус, чего страшно нам грешным неточию приложите, но и помыслити…
– Ох! – послышалось в толпе. – Иже приложили ко Исусу… Ох, страшно!..
– Ох! ижем Христа прободали в ребра: иже есть копие! – провозгласил Никанор.
– Милостивый государь! – продолжал, воодушевляясь и потрясая в воздухе челобитною, Геронтий. – Помилуй нас нищих своих богомольцев и холопишек, не вели архимандриту Сергию прародителей твоих и начальников наших, преподобных Зосимы, Савватея, Германа и Филиппа предания нарушать, и вели, государь, нам в том же предании быть, чтоб нам врозь не разбрестись и твоему богомолию украйному и порубежному месту от безлюдства не запустеть.
– Припиши, – кричал Никанор, – за предание-де великих чудотворцев готовы мы с радостию наглую смерть принять, и многие-де старцы, готовясь на тот вечный путь, посхимились…
– Припиши! припиши! – подтвердили десятки голосов.
– Ещё припиши, – настаивал упрямый Никанор, – вели-де, государь, на нас свой царский меч прислать и от сего мятежного жития преселити нас на оное безмятежное и вечное житие!
В таком положении стояли дела на далёком севере, когда Никон, которого считали виновником всех этих небывалых и неслыханных дотоле церковных смут, охвативших не только соловецкое поморье, но и Москву, где народ, торговые люди и бояре почти все отшатнулись от духовных властей своих, а Аввакум до ослепления разжигал народные страсти своею жгучею проповедью, – когда Никон вдруг узнал, что в Москву прибыли гости, которых он всего более боялся. Это были вселенские патриархи – Макарий антиохийский и Паисий александрийский, он же и «судия вселенной».
Наступил суд над Никоном.
Глава X. СУД НАД НИКОНОМ
Первого декабря 1666 года, едва лишь багровое солнце сквозь искристую морозную мглу осветило островерхие крыши кремлёвского дворца и брызнуло золотом по маковкам церквей и по разрисованному морозом стеклу дворцовых окон и стеклянных переходов, как уж во дворце, в столовой избе, собрался небывалый дотоле и после того в России вселенский собор – царь, два патриарха, митрополиты, архиереи и весь синклит духовных и светских властей. Алексей Михайлович сидел на своём государевом месте, на небольшом возвышении, под сению золотого двуглавого орла, на крыльях которого играло пробившееся сквозь льдистые кристаллы окна утреннее солнышко, золотя в то же время левый, уже посеребрённый редкою седью висок и часть заиндевевшей тою же назойливою седью русой, мягкой, как шемаханский шёлк, бороды. Тишайший царь сидел задумчиво, глубоко сосредоточенно и так неподвижно, что его можно было принять за иконописное изображение, если б тихое, равномерное поднятие и опускание висевшего на его груди большого золотого креста не изобличало, что эта грудь дышит. Подле него, по левую руку, в глубоких с высокими резными спинками креслах сидели патриархи. У ближайшего к царю, высокого, худого и согбенного годами, тёмно-пергаментное лицо смотрело из-под надвинутого до бровей клобука не как лицо, а как лик на старом полотне, выцветший от времени, тронутый непогодью и копотью от свечей и ладана. Неровные пряди волос желтоватой седины и белая борода, освещённые косыми лучами солнца, несколько дрожали на чёрном фоне клобука и панагии, производя странное впечатление – как будто бы волосы эти дрожали на мёртвом теле от постороннего дыхания, тем более что и глаза сидящего, глубоко опущенные, казались закрытыми тонкою, синеватою кожицею век, с которых, казалось, только что сняты были медные гроши – принадлежность новопреставленного. Это был Паисий, патриарх Александрии и всего Египта – некогда земли фараонов. Рядом с ним в таком же кресле восседал антиохийский патриарх Макарий. Чёрные, курчавые, перевитые седыми прорезями, как серебряною тонкою нитью, волосы, чёрная, курчавая, как давно не стриженная баранья шерсть, с проседью борода, большие синеватые белки чёрных, подвижных глаз с длиннейшими ресницами, тёмно-оливковый цвет лица – всё изобличало в нём восточного человека, которого как-то странно было видеть не на берегу Иордана где-нибудь или Мёртвого моря, а на берегах Яузы, среди чисто московских лиц и в этой типичной обстановке.
С правой стороны царя, на застланных сукнами скамьях сидели митрополиты, архиереи и весь освящённый собор. Чёрные клобуки, надвинутые на худые и строгие лица, чёрные рясы, кресты и чётки – всё это смотрело мрачно и внушительно, как картина страшного суда. Тут и Сергий спасаярославский, которого мы недавно видели на чёрном соборе в Соловках, и Павел суздальский, и Павел сарский, и Питирим новгородский.
По левую сторону от царя, на скамьях же, бояре, окольничие и думные люди – всё, что заправляло московскою землёю от Пскова до Албазина на Амуре, от Соловков до южного рубежа русской, всё шире и шире разлетавшейся территории. Тут были лица большею частью хорошо упитанные, гладкие, бородатые.
За особым столом – дьяк Алмаз Иванов. Горы бумаг, книг и потемневших от времени свитков почти всего его закрывают собой. И лицо его, такое же жёлтое, как эти свитки, смотрит спокойно, только изредка щурятся его усталые глаза, перечитавшие все эти горы бумаги и перенёсшие в его глубокую, как бездонная пропасть, память тысячи мельчайших подробностей дел, статей разных, уложений, указов, отписок, справок, памятей. Худыми, привычными пальцами он держит белое, как снег, гусиное перо и неслышно водит им по бумаге.
Тихо в избе. Собор ждёт кого-то. Кого же больше ждать, как не того, кого собрались судить вселенне! В полночь он въехал в Москву и проследовал в Кремль Никольскими воротами, которые тотчас же за ним и заперли, поставив сильную стражу и разобрав даже мост, соединявший эти ворота с городом. Так вот, какого страшного подсудимого ждёт вселенский собор!
Скоро за дверями столовой избы послышались чьи-то ровные, сильные шаги. Звякнули алебарды стрельцов, стоявших у входа. Какое-то невольное движение, словно дрожь, прошло по собору, как будто бы в тихий ясный день по безоблачному небу пронеслось облачко и провело бегучую тень по высокой траве. Глаза всего собора обратились к входным дверям – обратились с каким-то страхом, полные ожидания. И глаза царя блеснули неуловимым светом, и закрытые веками глаза Паисия патриарха открылись, словно бы икона глянула с тёмного полотна человеческими глазами, и глаза дьяка Алмаза Иванова поднялись от бумаги.
Двери распахнулись широко, на обе половинки, чтобы пропустить что-то большое. Это было распятие, несомое перед патриархом. За распятием вошёл и тот, кого звали на суд. Невольная дрожь прошла по собору, когда увидали того, кто вошёл. Это всё был тот же прямой, суровый на вид, массивный человек, которого так часто когда-то, около десяти лет назад, видела Москва на всех торжественных служениях, в церковных ходах и в царской думе, и перед взором которого всё склонялось и трепетало; тот же повелительный вид, те же повелевающие глаза, только по всему этому прошло что-то разрушительное, пригибающее к земле, вытравляющее живой цвет лица, задувающее огонь глаз, обесцветившее до седины воронёный волос головы и бороды.
В добрых глазах царя блеснула жалость – веки задрожали… Это ли его бывший «собинный» друг, его любовь и гордость!..
При виде распятия и вошедшего за ним подсудимого весь собор стал на ноги.
– Владыко Господи Боже наш! благослови вход раба твоего и отверзи уста его, да возвестят хвалу твою – всегда ныне и присно и во веки веков! – громко возгласил вошедший.
Потом, обратясь лицом к царю, он поклонился ему до земли. Царь испустил глубокий вздох, увидав, как у поклонившегося ему разметались по полу поседевшие волосы. Поклонившийся встал и, откинув назад упавшие ему на лицо волосы, вторично припал клобуком к царскому подножию. Царь крепко стиснул челюсти, чтобы не заплакать. Поклонившийся, приподнявшись вторично от полу, в третий раз поклонился.
Сделав полуоборот к патриархам, он и им поклонился до земли дважды. За всеми его движениями жадно следили глаза всего собора, а узкие серые глазки Питирима, митрополита новгородского, каждый поклон Никона сопровождали злорадным блеском[29].
Когда Никон поднялся, наконец, от полу, расправляя волосы, на лицо его, бледное и бесцветное, как у арестанта, набежала краска. Патриархи, в свою очередь, глубоко нагнули головы, а потом глазами указали на лавку, по правую сторону государева места.
Глянув в ту сторону, Никон сразу понял, что его приравнивают к простым архиереям, что особого места для него не приготовили. Зловещая искра блеснула в его глазах.
– Я места себе, где сесть, с собою не принёс… Разве сесть мне тут, где я стою, – сказал он хрипло, с дрожью в голосе, и оперся на свой посох, глядя прямо в глаза государю.
И добрые глаза последнего блеснули: та искра, что зажглась в глазах у Никона, зажглась и у царя. Питирим незаметно толкнул локтем соседа своего, Павла, митрополита сарского, и указал глазами на то, что происходило впереди. Перо дьяка Алмаза Иванова заскрипело по бумаге, спеша запечатлеть чернилами навеки этот исторический момент.
– Пришёл я узнать, для чего вселенские патриархи меня звали? – продолжал подсудимый тоном допрашивающего, тоном судьи, и снова вопрошающе посмотрел на государя.
Алексей Михайлович порывисто сошёл с своего места, путаясь ногами в своём длинном одеянии, и стал перед патриархами, как бы ища укрыться под их святынею.
– Святая и пречестная двоице! вселенстии патриаоси! – заговорил царь дрожащим голосом, неровно, торопливо. – От начала московского государства соборной и апостольской церкви такого бесчестья не бывало, как учинил сей бывший патриарх Никон: для своих прихотей, самовольно, без нашего повеления и без соборного совета церковь оставил, патриаршества отрёкся, никем не гоним, и от этого его ухода многие смуты и мятежи учинились, церковь вдовствует без пастыря девятый год… Допросите бывшего патриарха Никона: для чего он престол оставил и ушёл в Воскресенский монастырь?
Царь стоял, как подсудимый, и ждал ответа. Пока патриархи через переводчика хотели только было обратиться к Никону за этим ответом, как он оборвал их:
– А есть ли у вас совет и согласие с константинопольским и ерусалимским патриархами, что меня судить? А без их совета я вам отвечать не буду, потому – хиротонисан я от константинопольского патриарха.
Из-за груды бумаг выдвинулась тощая фигура дьяка Алмаза Иванова и неслышными шагами приблизилась к патриархам. В руках у Алмаза было два свитка, перевитые чёрными лентами, как две погребальные свечи.
– Вот полномочие остальных вселенских патриархов, – сказал Макарий, дотронувшись до одного из свитков.
Тогда Никон попятился назад и в первый раз оглянул судилище, подобно тому, как застигнутый врасплох ищет, куда ему скрыться. Глаза его остановились на Питириме новгородском и на его соседе, Павле сарском; глаза последних смотрели с вызывающим торжеством… Никон задрожал…
– Великий государь и святейшие патриархи! – быстро повернулся он. – Бью челом… пожалуйте меня, и вышлите из собора недругов моих Питирима и Павла; они мыслили зло на меня, хотели меня отравить либо удавить и для того с чаровством прислали чернеца Федоса.
– И то он говорит ложь безлепично, – возразил Питирим, вставая разом с Павлом, – у великого государя о чернеце Федосе есть дело.
И опять из-за бумаг выделяется фигура дьяка Алмаза Иванова. Он подносит к государю дело и с глубоким поклоном подаёт его. Царь показывает это дело патриархам.
– Ответствуй, – повторили патриархи, – для чего ты отрёкся от патриаршества?
– Я не отрекался, а сшёл с престола своею волею, не стерпя обид: царёв слуга, Хитрово, бил моего человека без вины, и того ему, Хитрово, делать не довелось – то мне бесчестье, потому – человека своего я послал по делу, для строения церковных вещей. А когда я просил у великого государя обороны, и великий государь обороны мне не дал, – защищался подсудимый, всё более и более возвышая голос.
– Никон писал ко мне и просил обороны от Хитрово не вовремя: в ту пору обедал у меня грузинский царь, и в ту пору розыскивать и оборону давать было некогда, – был ответ царя.
Странный, небывалый вид представляли эти судебные прения. Высшая власть в государстве, царь и патриарх, стояли среди многочисленного собора, разделяемые распятием и крестоносителем, а весь собор сидел, безмолвно следя за словами и движениями царя и подсудимого: последний был бледен, как полотно, у первого – краска не то стыда, не то негодования заливала щёки.
Царь чувствовал, что ответ его слаб.
– Никон патриарх говорит, – поспешил он поправиться, – будто человека своего прислал для строения церковных вещей, ино в ту пору на красном крыльце церковных пещей строить было нечего, и Хитрово зашиб его человека за невежество, что пришёл не вовремя и учинил смятение, и то бесчестье к Никону патриарху не относится и та обида ему не в обиду. А что не было моего выходу в праздники, и то учинилось так за многими государственными делами. А когда он сшёл с престола, и я посылал к нему боярина князя Трубецкого и Родиона Стрешнева, чтоб он на свой патриарший стол возвратился, ино он от патриаршества отрекался – сказал: как-де его на патриаршество обирали, и он-де на себя клятву положил – быть-де на патриаршестве токмо три года. А что посылал я князя Юрия Ромодановсково, чтоб он напредки великим государем не писался, и то я учинил для того, что прежние патриархи так не писывались, ино того к нему не приказывал, что на него гневен.
Услыхав своё имя, Ромодановский, тучный и красный, как кумач, боярин, торопливо поднялся с лавки и, не спуская глаз с царя, быстро выпалил: «Это точно… о государевом гневе я не говаривал».
Никон вполуоборот глянул на него, но ничего не сказал.
– Говорил ты про обиды; какие обиды тебе от великого государя были? – продолжал допрашивать Макарий, тогда как Паисий безмолвно перебирал свои чётки. – Какие обиды?
– Никаких обид не бывало; но когда он (и Никон спохватился и тотчас же поправился) – когда великий государь начал гневаться и в церковь ходить перестал, в ту пору я патриаршество оставил.
Царь нетерпеливо пожал плечами, не глядя на подсудимого.
– Он писал ко мне по уходе, – начал он снова, – «будешь-де ты, великий государь, один, а я-де, Никон, как один от простых».
– Я так не писывал, – был отрывистый ответ. Тогда Макарий, обратясь к архиереям, спросил:








