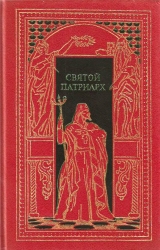
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 37 страниц)
«А хуть и ночую – всю ночь протоскую!»
– Как безумный, голубчики вы мои, вскакиваю я из-под того ангела, да за гондолой – бегу и кричу – кричу и плачу: «остановись! погоди!» Так где тебе! Не дошёл мой старческий глас до гондолы – так и скрылась из глаз моих… Что я слёз выплакал за ту ночь – и сказать не сумею: на катарге, в крымской и турецкой неволе так не плакивал…
И старик дрожащими руками утёр катившиеся по его морщинистым щекам слёзы. Слушатели видимо были тронуты: у них тоже на глазах блестели слёзы.
– Ну, и что ж, родимый? – прервал общее молчание старый дьяк.
Бродяга как бы очнулся и заплаканными глазами взглянул на окружавших его подьячих.
– Ну, и как же потом, дедушка? Сыскал того, кто пел? – подсказал один из подьячих.
– Да, точно, милостивцы, – заговорил снова бродяга. – Проплакамши эдак всю ночь, я наутрее опять уселся под тем ангелом. А катарга, на котору меня брали, уходила в море через два дня: я и был слободен – бродил на воле, а бежать, коли б и охота была, некуда, потому – море кругом, да и ярлык уж у меня на плече красный пришит был – катаржный, значит: никто б и не перевёз меня до берега. Сижу я этта опять под ангелом, пою про Лазаря убогаго, – кто идёт – копеечку даст, а то и так послушает, послушает, покачает головой и пойдёт прочь. Коли эдак к полудню подходит ко мне неведомый человек, стал поблиз меня и слушает, да таково взглядывается в меня. А там и говорит по-нашему, по-московски, да таково радостно: «здравствуй – говорит – землячок! – как тебя Бог занёс сюда?» – Меня от этих его слов точно варом обварило – узнал я глас, что вчера пел «не белы снежки». Молодой такой, пригожий, чёрные власы и борода. А я стою и слова вымолвить не умею: от радости у меня язык отнялся, потому – в кой-то годы человека увидал с родимой сторонушки. Сердечушко во мне заходило, как не выпрыгнет. – «Сказывай же, – говорит, – землячок: в неволе томишься? полоняник? катаржный?» – Я и расскажи ему всё про себя, как на духу – откудова и слова брались! – «А ты, – пытаю его, – кто, отецкий сын?» «Я, – говорит, – беженец… бежал с родимой сторонушки… бегун… на бегах обретаюсь, и был, – говорит, – допреж сего сынок Афанасия Лаврентьича Ордин-Нащокина, Воин по имени». «А почто, – пытаю его, – бежал от отца-матери?» «С тоски сердечной, – говорит, – бежал». А с чего та сердечная тоска, про то не сказал. – «Как же, – говорю, – думаешь впредь быть, Воин Афанасьич? Домой воротишься али здесь, на чужбине, останешься?» «И сам, – говорит, – не знаю: когда я был, – говорит, – на Москве, то она так мне опостылела, что не глядел бы ни на что; я, – говорит, – и бежал потому – за морем мне такой рай сулили, что я обезумел, говорит. А как помыкался, говорит, на чужбине – и в польской земле, и во францужской, и здеся, в тальянской земле, в Веницее, – да такая, – говорит, – тоска лютая к сердцу подступила, что хоша с мосту да в воду, и то впору». «Дак отчего ж, – говорю, – не воротиться к отцу-матери?» «Нельзя, – говорит, – этого сделать: мне уж, – говорит, – на Москву путь-дороженька заказана: на Москве, – говорит, – меня плаха ждёт. А ты, – говорит, – старче, разве не хочешь на родную сторонушку нести старые кости свои?» «Как, – говорю, – не хотеть? – сорок лет плачу по святой Руси: а вон опять меня ждёт катарга да и смерть в море незнаемом». Жаль ему меня стало. «Я, – говорит, – землячок, выкуплю тебя из неволи: иди, – говорит, – на святую Русь да поклонись ей от меня горючьми слезами». И сам заплакал, а я за ним. «Поклонись, – говорит, – от меня, блудного сына, батюшке моему рожоному – может, он простит меня. Да поклонись ещё, – говорит», – а кому – так и не кончил: ещё пуще залился горючьми слезами.
Старик замолчал и задумчиво опустил голову.
– Ну, и что ж, дедушка? – спросил кто-то.
– Выкупил, точно – выкупил меня из неволи, пошли ему Господь здравие и спасение! – отвечал бродяга.
– А сам в Веницее остался? – спросил старый дьяк.
– В Веницее, батюшка, да и в Риме хотел побывать.
– А ты сам как же? – спросили его.
– Я, спасибо ему, Воину Афанасьичу – он мне и денег на дорогу дал – я из Веницеи побрёл в цысарскую землю, а из цысарской земли вышел в Польшу, в Аршав-город, а из Аршава-города в Литву, а уж из Литвы на русский рубеж: там меня и взяли за приставы и отправили на Москву, в «разряд», а из «разряду» к вам[91].
– Ну, спасибо тебе, дедушка, за добрые вести, – сказал старый дьяк. – Ты, Проша, пропиши до конца распросные речи, а я побегу обрадовать благодетеля своего, Афанасия Лаврентьича. Шутка ли! схоронил сына, поминал и сорокоусты заказал, а он – на поди! – живёхонек… Ох, младость, младость!
Он торопливо вышел из приказа, но опять скоро воротился.
– От радости чуть было не запамятовал, – говорил он впопыхах. – Ты, верно, голоден, дедушка? – обратился он к бродяге.
– Да, батюшка, сам ведаешь, чем мы, узники, кормимся – от Бога да от добрых людей.
– Так вот что, Проша, – сказал дьяк, – пока я сбегаю к Афанасию Лаврентьичу, ты спосылай в обжорный ряд[92] да хорошенько накорми дедушку. Не ровен час его потребует к себе на глаза Афанасий Лаврентьич, – чтоб он здесь был.
И дьяк поспешно удалился.
X. «Твой сын – вор!..»
Дьяк патриаршего приказа, желая первым сообщить Нащокину радостную весть, чуть не загнал лошадь возчика, которого он нашёл около приказа.
– Гони в мою голову! – торопил он его. – Гони, как на пожар, – прибавку получишь знатную!
И возчик гнал, хлестал свою лошадь и кнутом, и вожжами и даже сам привскакивал на облучке.
– Соколик! вывози! грабют! – кричал он.
Этот окрик на московских улицах никого тогда не удивлял: грабежи на улицах в городе, особенно по вечерам, были явлением обыденным. И оттого лошади приучены были к такому своеобразному понуканью, и когда слышали крик ямщика – «грабют!» – неслись стремглав. Ямщицкое «грабют» до настоящего времени удержалось на наших просёлках и даже на почтовых трактах.
– Ой, батюшки, грабют! режут! – вопил извозчик, несясь по Москве.
К счастью для усердного дьяка, Нащокин был дома.
Уже одно появление гостя в неурочный час почему-то взволновало Нащокина, но радостный вид дьяка несколько успокоил его.
– Батюшка Афанасий Лаврентьич! вам Господь милость свою посылает! – выпалил он, кланяясь и крестясь на передний угол с образами.
– Спасибо, Карп Иваныч, на добром слове, – отвечал хозяин. – Господь и великий государь милостями своими меня не оставляют; токмо…
– Знаю, знаю, батюшка! – бесцеремонно перебил его гость. – Только ноне эту токму приходится бросить – токму-ту эту.
– Какую токму, Иваныч? – не понял Нащокин.
– Да об ней, об этой самой токме ты сам сичас упомянул, – хитро улыбаясь, отвечал гость, – ты говорил о милостях, благодарил Бога и великого государя; токмо – говоришь… Знаю я эту токму – это об сынке, об Воине Афанасьиче – токмо-де его у меня Бог взял… Ан нет! Ноне твоя токма в нетех обретается.
Нащокин начал было уже думать, что дьяк с ума сошёл, как тот вновь выпалил:
– Воин Афанасьич живёхонек! поклон тебе прислал! Нащокин растерялся: жгучая радость охватила было его, но в тот же момент он ещё более убедился, что бедный дьяк действительно рехнулся. Он испуганно попятился назад.
– Молись Богу, Афанасий Лаврентьич, – продолжал дьяк, – сынок твой в Веницеи-граде… здоровёхонек… поклон тебе прислал.
– Что ты! что ты! – снова испугался Нащокин. – Так это правда? Господи! да как же это? Ты от кого это узнал?
– Семинут, батюшка Афанасий Лаврентьич, сымал я в приказе распросные речи с одного полоняника…
– С полоняника, говоришь? кто ж он такой?
– Московский человек – в полону был сорок лет в турской земле, и в шпанской земле…
– Ну, а как же сын-от мой?
– Да Воин-от Афанасьич в Веницеи! Да ты погоди малость – не сшибай меня с речей – дай толком, по ряду всё рассказать. Полоняник-ту этот был в турской земле на катарге тридцать лет, да с катарги отгромили его шпанского короля немцы, и жил он в шпанской земле, а из шпанской земли ему отпущение дали, потому – стар человек; и пришёл в италийскую землю, в Рим-город, а из Риму по папину веленью в Веницею пришёл. Вот в этой самой Веницее он и столкнулся с сынком твоим богоданным. Да и сустрелись-ту они чудно таково, божиим изволением – и рассказать тебе, Афанасий Лаврентьич, дак не поверишь… и «не белы-то снежки» – и «ночку-ту не ночую»… «а хуть и ночую – всю ночь протоскую»…
Нащокину опять страшно стало: спятил с ума старый дьяк! Как же так? И Веницея, и «не белы снежки», и сын его Воин.
– Он-то, Воин Афанасьич, и выкупил старца Варсунофья с каторги, – продолжал дьяк.
– Да кто этот Варсунофий? – допытывался Нащокин.
– Да полоняник, говорю тебе толком: он и поклон тебе от сына принёс.
– Где ж он, полоняник твой?
– У меня, в патриаршем приказе сидит, да теперь, поди, жрёт – я велел накормить его с обжорного ряду. Велишь, милостивец, я сам его к тебе приволоку… семинут приволоку… пущай сам тебе расскажет и про «не белы снежки», и про сынка.
Соблазн был слишком велик: Нащокин начинал верить.
– Ну, волоки его ко мне, – сказал он, – да допрежь выпей у меня, подкрепись, пойдём в столовую избу.
Через несколько минут дьяк уже опять гнал по Москве.
– Соколики, грабют! режут! – опять слышалось вдоль по Неглинной.
Наконец, полоняник был привезён к Нащокину и вторично рассказал ему свою бесконечную Одиссею. С неизъяснимым волнением слушал его Афанасий Лаврентьевич. Надо знать состояние умов тогдашней Руси, смутное и ужасное представление москвичей о заморщине, чтобы понять душевное потрясение отца, узнавшего, что сын его, одинокий, покинувший родину, бродит по этой незнаемой чуждальной стороне. Если и имелось тогда, даже относительно у образованных москвичей, смутное представление о «Ефропии», то разве только по «Лусидариусу», из которого москвичи узнавали, что где-то за Аглицкой землёй солнце доходит до «запода» и опускается в море, что великая река Ганг течёт из рая и приносит с собою какие-то райские овощи; что есть люди с пёсьими головами, или одноногие, или даже без голов с глазами на плечах и т. п. Конечно, Ордин-Нащокин, умный дипломат и по тогдашнему времени западник, был выше этих детских представлений о «Ефропии»; он знал, что такое «Веницея»; но – знать, что там где-то, за рубежом, в качестве беглеца и «вора» (по тогдашнему «вор» – государственный преступник), скитается его милый Воин, – это было выше его сил.
– Ну и как же, говоришь ты, старче божий, плакал мой сын, когда прощался с тобой? – спрашивал он своего дорогого гостя.
– Плакал, болярин, горько плакал.
– И велел мне кланяться?
– Земно, говорит, кланяюсь моему богоданному родителю и прошу, говорит, его родительского благословения.
– Ну, а насчёт сердечной тоски?
– Сказывал и о сердечной тоске, а в чём и с чего та его сердечная тоска – того не сказал.
Нащокин начинал догадываться, что это была за «сердечная тоска». В последнее время он что-то замечал за сыном: его частая задумчивость, томный взгляд, иногда беспричинная ласковость к нему, а потом видимая тоска, – ясно, что у него было что-то на сердце…
«Была зазноба, – решил он теперь в уме, – но для чего было бежать?»
«Блудный сын!» – вспомнилось ему «комидийное действо», которое недавно сочинил Симеон Полоцкий и приносил ему для прочтения.
– Ну, а про то не говорил, чтоб воротиться ему с повинной? – который уже раз спрашивал огорчённый отец.
– Говорил – как не говорить! Да только, – говорит, – мне в Москву уж путь-дороженька заказана: не видать-де мне родной стороны.
– Что так?
– А плаха, – говорит, – ждёт меня в Москве.
– А про то не говорил, кто ево провёл за рубеж? Теперь Нащокину вспомнился прошлогодний рассказ порубежного старика, что в лесу над речкою Городнею лыки драл: он говорил, что из лесу тогда, весной, о Николине дне, трое выехало за рубеж, а один из них – одвуконь. Ясно, что ему указали дорогу за рубеж; у него были соучастники; но кто? поляки? не учителя ли из польских полоняников подвели так? Ну, заплатили за хлеб-соль.
– А про царские деньги ничего не сказывал? – снова допытывался он.
– Нету, болярин, про деньги не было речи; а что мне дал малость на дорогу – это точно, да и меня с катарги выкупил, пошли ему Господь здравие.
Хотел было Нащокин спросить и про бумаги из приказа тайных дел, что царь поручил Воину отвезти к отцу; но раздумал. Конечно, сын его не говорил об этом с полоняником – никакого резону не было. Бумаги, конечно, он уничтожил, если не передал полякам. А если передал, то это усугубляет его страшное преступление. Не потому ли так неподатливы были польские комиссары, коронный канцлер Пражмовский и гетман Потоцкий, при заключении мира в Андрусове? Эта мысль терзала Нащокина. Что может подумать царь, когда узнает о преступлениях и предательстве его сына? Продать отечество? За что? из-за чего?
«Сердечная тоска…» Тут что-то непонятное… И почему княжна Наталья Прозоровская, такая юная, такая красавица, без всякой видимой причины пошла в монастырь – постриглась в шестнадцать лет? С какой стати сам Прозоровский, князь Семён, так часто спрашивал его о Воине – есть ли какие слухи? жив ли он? Вот откуда эта «сердечная тоска» и это пострижение княжны… Что между ними было? Почему так всё склалось? За что, для чего погубили себя – и тот и эта?
Но всего больше терзала его мысль о том, что его Воин изменил России, царю, который так был милостив к нему? Как теперь он, Афанасий, покажется на глаза великому государю? Нечего сказать! воспитал сынка на позор себе, на позор всей России. Что теперь скажут его враги, этот «Тараруй» и вся его роденька, когда узнают о преступных делах его сына? А они скоро узнают.
Уж лучше бы его в самом деле убили! Не было бы тогда бесчестия на его седую голову. Все бы жалели, как и теперь жалеют, бедного отца. А то теперь вся Москва заговорит: «У Афанасья, у царского любимца и гордеца, сын – вор! – воровством ушёл за море и за морем ворует! Не фыркать было Афанасью на Москву, Москва-де старыми непорядками держится – надо всё новое в ней завести, с иноземного, с заморщины! Вот тебе и завёл – родного сынка вором сделал! Во Пскове мужиков во место воеводы посадил. Хороши новшества, нечего сказать! Ай да Афанасий Ордин-Нащокин!»
Казалось, он уже слышал эти укоризны, видел злорадные лица врагов, перешёптыванья, лукавые улыбки…
И зачем явился этот полоняник? зачем рассказал все?
– Ах, зачем его не убили? – невольно вырвалось у него отчаянное восклицание.
«Вор, твой сын вор!» – шумело у него в ушах.
Теперь он, казалось, возненавидел этого старца-полоняника, которому сначала так было обрадовался. Он, этот старик, принёс ему роковую весть – принёс позор на его голову! Он, казалось, ненавидел и дьяка патриаршего приказа, способствовавшего перенесению к нему роковой тайны. Пусть бы лучше служили сорокоусты по его сыне, чем теперь будут благовестить везде о его позоре.
Сказать дьяку, чтоб всё это замял, что никакого полоняника не допрашивали, уничтожить самые «распросные речи», а его самого сослать в такое место, куда ворон костей не занашивал?
Да, сослать, «распросные речи» сжечь, дьяку рот запечатать! Он, Афанасий Ордин-Нащокин, всё это может сделать – он силён в московском государстве, он правая рука царя…
К вечеру Ордин-Нащокин слег – он не выдержал страшного душевного потрясения.
В горячечном бреду он шептал: «Как я покажусь на глаза великому государю!.. Он скажет мне: Афанасий! твой сын – вор!..»
XI. «Возьми одр свой и ходи…» [93]
Между тем наверху, у царя, вот что происходило.
Алексею Михайловичу в тот же вечер успели доложить, что сынок Афанасия Лаврентьича не убит и не пропал без вести, а проявился за морем, во граде Веницее; что там он гуляет в немецком платье, «пьёт богомерзкую табаку» и играет в зернь; что словами своими бесчестит московское государство и его, великого государя; что он вывез с собою за море столько денег, что швыряет ими направо и налево и выкупает с каторги полоняников; что, наконец, собирается в Рим, к папе, чтоб перейти там в папину веру, а свою православную веру ногами потоптать. Говорили намёками, что Афанасьевы новшества к добру не приведут.
Вообще всё это говорилось осторожно, с оглядкою – не ровён-де час.
Алексей Михайлович слушал все эти подходы, но своего мнения не высказал, хотя и выразил сожаление об отце, обманувшемся в любимом сыне.
Его только одно удивляло – почему сам Афанасий не явился к нему, чтоб лично доложить обо всём, что он узнал.
Потому на другой день, рано утром, государь приказал позвать к себе Ордина-Нащокина. Посланный воротился и доложил следующее: Афанасий Лаврентьевич так убит, что опасно занемог и не может головы поднять с подушки; что всю ночь он метался и в бреду всё повторял: как он теперь явится великому государю на очи. Боятся, как бы старик со стыда и горя, когда придёт в себя, рук на себя не наложил.
Это известие так встревожило государя, что он тотчас же пошёл на половину царицы, чтоб посоветоваться. В таких делах женский ум может иногда скорее разобраться, чем мужской: в деле Нащокина затрогивалась область семьи, область сердца; а тут женщина – дальновиднее мужчины и найдёт разгадку там, где мужчина, может быть, и искать не будет. Он же так любил Афанасия, что ему страшно было потерять его.
У царицы он застал свою любимицу – Софьюшку. Юная царевна всё носилась со своим «Лусидариусом». Он ей просто спать не давал – так эта книга волновала её воображение. Теперь ей не давал спать вопрос о том, где собственно находится рай на земле; а что он был на земле – из «Лусидариуса» это ясно как день.
– Как же, мама, – горячилась она, – тут именно глаголет «Лусидариус», что первая часть мира есть Азия, в ней же восходит солнце, от рая же исходит источник един, из того источника текут четыре реки: едина нарицается Виссон; егда же изыдет из рая, тогда именуется Гангия… Ну, видишь, мамочка, на земле рай.
– Кажись бы, на земле, – неуверенно отвечала Марья Ильишна.
– Так, мамочка, – продолжала Софья, – ну, слушай: «вторая река Гедеон; егда изыдет из рая, нарицается Нил; третия Тигр; четвёртая Ефрат».
– Так, так, милая, – задумчиво соглашалась царица.
– Как же, мамочка, в рай попасть? можно? – приставала неугомонная девочка.
– Нет, нельзя, милая: вить Бог Адама и Еву изгнал из раю.
– Так что ж, мама! Он согрешил – яблочко съел, а мы не ели.
Царица невольно рассмеялась.
– Дурочка ещё ты – вот что.
– Нет, мама, а ты слушай, – настаивала Софья, – тут пишется, что до рая человеку сущу во плоти пойти невозможно…
– Видишь? – перебила её Марья Ильишна.
– Нет, а ты слушай – понеже, – говорит, – облежат рай великие горы и чащи лесные; подле оных лесов великие поля, широты и долготы презельные, и на тех полях много превеликих драконов и иных лесных зверей; потом начнётся ближе всех к тем местам край земли – Индия земля и великая река Индус, яже течёт из горы Кауказосы и течёт в Чермное море. В тое землю трудно дойти человеку, понеже на единой половине в Вендейское море течёт река превеликая Индус, и прилежит ко границе великое море, яко невозможно по нём прейти в четыре лета»… Так как же, мамочка, – волновалась Софья, – коли невозможно в четыре лета перейти сие поле, то в пять можно? Говори же, мама, можно?
За этим горячим разговором застал их Алексей Михайлович.
– Чего Софья-ту из себя выходит? – спросил царь.
– Да всё вот рай хочет найти, – улыбнулась государыня.
– Рай? – обратился Алексей Михайлович к дочери. – Уж и ты не хочешь ли по Воиновым следам идти?
– По каким Воиновым следам, батюшка царь? – удивилась Софья.
– А сынка Афанасьева Ордина-Нащокина.
– А что, батюшка? – встрепенулась царевна.
Она знала, что Воин пропал без вести. Она знала этого Воина, красивого молодца, часто его видела и во дворце, и в церкви, и была к нему, по-своему, конечно, по-детски, очень неравнодушна. А потому она очень покраснела, когда отец упомянул его имя.
– Что ж Воин? – не глядя на отца, переспросила она. – Вить его давно нет на свете.
– Нет, дочушка, здравствует, и так же, как ты вот, дорогу в рай отыскивает, – серьёзно отвечал Алексей Михайлович.
И царица, и царевна посмотрели на него в недоумении.
– Ты шутишь, государь? – спросила первая.
– Не до шуток мне, матушка-царица, – грустно отвечал царь. – Я пришёл к тебе об этом именно и посоветовать. Воин отыскался, жив и невредим.
– Ах, батюшка! – невольно воскликнула Софья.
– Подлинно говорю – жив, – продолжал Алексей Михайлович, – и ноне во граде Веницее обретается. Отай ушёл он из московского государства, беженцем, как блудный сын[94], и своим воровством отца убил: Афанасий, узнав про воровство сынка, зело занемог. Да и каково отцу, и то надо сказать. Всю ночь, ноне, говорят, Афанасий-ту огнём горел и метался: «Как я, говорит, теперь великому государю на очи покажусь?» Смерти бедный старик просит.
– Ах, он, горемычный! – соболезновала царица.
– И мне его жаль, ах, как жаль! – повторял Алексей Михайлович. – А как поправить дело? Что делать – я и ума не приложу.
Царица задумалась. Все молчали. Софья тихо ласкалась к отцу и вопросительно глядела в его задумчивые глаза.
– Как ни как, а старика надоть пожалеть, – сказала Марья Ильишна: верный старик, царства твоего и твоего государского покоя рачитель – его поберечь надоть, утешить.
– И я так думаю, Маша, – согласился «тишайший».
– А с сынком – расправа после, – пояснила царица.
– А что Воину будет, батюшка? – тревожно спрашивала отца Софья.
Она была девочка умная, всегда любила быть с большими, и потому она многое знала, что говорилось и делалось при дворе: оттого, может быть, она и вышла из роду вон – стала небывалым явлением среди женщин XVII века.
Алексей Михайлович не отвечал на её вопрос, а только погладил её головку.
– Ты права, Маша, – повторил он, – утешим старика, и понеже, ни мало не помедля: я напишу ему сам, успокою его. А то долго ли до греха! Помрёт старик с печали и со страху. Пойду – напишу.
И Алексей Михайлович поспешил к себе.
– Вон оно, дочка, что значит рай-ту искать, – сказала Марья Ильишна.
– А разве, мама, он рай искал? – встрепенулась Софья.
– Вестимо. Тесно, вишь, и душно ему стало в московском государстве: пойду-де и я поищу, где солнце встаёт и где оно заходит. Ишь новый Иван-царевич выискался – поехал жар-птицу искать да моложеватые яблоки! Живой-ту воды не нашёл, а мертвой-от водицы родителю прислал. Утешил старика!
– А что ему за это будет, мама? – робко спросила Софья.
– Ну, не похвалит за это государь.
– Казнить велит?
– Не знаю, а только не похвалит.
– Его, мама, привезут из Веницеи?
Софья что-то вспомнила и бросилась к своей излюбленной книге – к «Лусидариусу». Она торопливо перевернула несколько страниц и остановилась.
– Так вон он где теперь, Воин, в Венецыи, – сказала она, что-то соображая; потом прочла: – «Там Венецыя, юже созда царь Уптус, оттоле вышла река Рын, и течёт по французской земле…» Ах, мама, куда он зашёл! Вот молодец!
– Смотри, как бы этому молодцу не пришлось отведать этой Венецыи в Москве, – заметила царица.
Но Алексей Михайлович оказался добрее, чем думала Марья Ильишна.
Когда Ордин-Нащокин, после мучительно проведённой ночи и тревожного утра, к полудню забылся сном, ему принесли от царя письмо.
Сон несколько подкрепил несчастного старика. Открыв глаза, он увидел перед собою улыбающееся лицо Симеона Полоцкого.
– Великий государь тебе милость прислал, Афанасий Лаврентьевич, – сказал он с южнорусским акцентом, – бальзам на раны.
– Какую милость? – испуганно спросил Нащокин.
– Говорю: бальзам на раны, – повторил вкрадчиво хохол, – возьми одр твой и ходи; прочти сие.
Он подал ему письмо Алексея Михайловича. Руки Нащокина дрожали, когда он распечатал его; но когда стал читать, слёзы умиления полились у него из глаз: царь утешал его, просил не предаваться отчаянию, оправдывал даже его преступного сына.
Нащокин не мог дольше сдерживать себя: он вслух, восторженно прочёл окончание царского письма:
«Твой сын – человек молодой (читал он, глотая слёзы) – хощет создание Владычне и руку его видеть на сем свете, якоже и птица летает семо и овамо, и, полетав довольно, паки к гнезду своему прилетит. Так и сын твой вспомянет гнездо своё телесное, наипаче же душевное привязание ко святой купели и к тебе скоро возвратится»[95].
Нащокин с благоговением целовал послание царя, целовал и плакал.
– Возьми одр твой и ходи, – повторял Симеон Полоцкий.
XII. Слепцы вожатые
Во всё время, пока продолжались переговоры русских или вернее – московских послов с польскими комиссарами о мире, военные действия не прекращались ни с той, ни с другой стороны; но только, если можно так выразиться, боевая линия, с весны 1665 года, передвинулась гораздо южнее. Война шла почти исключительно, можно сказать, в пределах правобережной Украины, к западу и югу от Киева.
В то время правобережная Украина совершенно отпала от Малороссии и имела своих гетманов, польских или турецких ставленников, как Юрий Хмельницкий, Тетеря и другие. Вся же левобережная Украина и Запорожье находились под главенством гетмана Брюховецкого, посланцев которого мы уже видели в Москве, весною 1664 года, на аудиенции у Алексея Михайловича в столовой избе, где мы в первый раз увидели и Воина Ордина-Нащокина.
Весною 1665 года Брюховецкий с несколькими украинскими полками и великорусскими ратными людьми перешёл на правую сторону Днепра. С польской же стороны против него шёл знаменитый польский полководец Чарнецкий[96] с не менее знаменитым коронным хорунжим Яном Собеским, впоследствии королём Речи Посполитой, с Махновским, с гетманом Тетерею и другими.
Чарнецкий двигался по направлению к Суботову, некогда бывшему владению Богдана Хмельницкого, где когда-то этот последний держал у себя в плену этого самого Чарнецкого, посла поляков при Желтых-Водах.
Брюховецкий же в это время стоял ниже Чигирина, у Бужина, где тогда находился и запорожский кошевой Серко[97] с своими казаками.
Весенний день близился к вечеру, когда один из передовых отрядов польского войска, среди пересекающихся лесных дорожек, троп и болот, как казалось его предводителю, сбился с пути. В это время на одной из боковых троп, из-за болота, показалось трое путников. Это были бродячие нищие, слепцы, которых там называют «старцями» и которые, как великорусские «калики перехожие», бродят по ярмаркам и распевают духовные стихи, думы, а иногда и сатирические песни, по желанию слушателей. Иногда они поют и под звуки лиры, кобзы или бандуры, почему и называются то лирниками, то кобзарями, то бандуристами.
Завидев слепцов, польские жолнеры остановили их. Двое из них были слепые – один старик, другой помоложе, а третий – мальчик, их «поводатырь» или «мехоноша». У всех у них было в руках по длинному посоху, а за плечами крест-накрест висели сумы для подаяний.
– Вы здешние, хлопы? – спросил их усатый шляхтич со шрамом на щеке.
– Тутошни, панове, – отвечал старший слепец.
– А дорогу до Суботова хорошо знаете? – спрашивал дальше шляхтич.
– Как же не знать, панове? – отвечал младший. – Вы сами, бувайти здорови, ведаете, что жебрака, как и волка, ноги кормят: как волк знает в лесу все дорожки, так и слепцы жебраки.
Некоторые жолнеры рассмеялись.
– И точно волки, а малец совсем волчонком смотрит. Ты чей?
– Ничей, – бойко отвечал мальчик.
– Как ничей? – удивился шляхтич.
– Ничей, пане: моего батька татары зарезали, а мать в полон увели.
– А это за то, что вы против панов всё бунтуете.
– Мы не бунтуем, пане.
– Ладно! Так показывайте нам дорогу до Суботова. А сегодня мы туда дойдём?
– Не скажу, – отвечал старший.
– Как не скажешь, пся крэвь! – вспылил шляхтич.
– Не скажем, – повторили оба слепца.
Шляхтич замахнулся было палашом, чтоб ударить того или другого за дерзкий ответ, как его почтительно остановил один из городовых казаков, родом украинец.
– Они, вашмость, не не хотят сказать, а не знают, – сказал он, – это такая хлопская речь: когда они чего не знают, то говорят – «не скажу».
– Так-так, панство, – подтвердил старший слепец, – уж такая у нас, у хлопов, речь поганая. А сдаётся мне, панове, что сегодня вы не дойдёте до Суботова – далеконько ещё.
– Так марш вперёд! – скомандовал шляхтич.
Скучившиеся было около слепцов жолнеры расступились, и отряд двинулся. Где-то позади какой-то хриплый голос затянул:
Wyszla dziewezyna wyszla iedyna,
Jak rozowy kwiat,
[98]
и тотчас оборвался. Слышны были шутки, перебранки, смех.
– А пусть жебраки запоют какую-нибудь думу – всё будет веселей идти, – предложил городовой казак с огромной серьгой в ухе.
– И то правда! пусть затянут свою хлопскую думу, – согласились другие. – Эй, вы, слепаки! затяните-ка думу, да хорошую!
– Какую ж вам, панове? – отвечал старший слепец, не оглядываясь, но ощупывая посохом путь.
– Какую знаете, – был ответ.
Слепцы тихонько посоветовались между собою, и младший из них, вынув из-под полы своей ободранной «свитины» бандуру, стал её налаживать и тихо перебирать пальцами струны. Скоро он затянул одну из любимейших для каждого украинца думу – «Невольницкий плач» – думу, содержание и мелодия которой хватали за душу каждого, потому что в то время чуть не из каждой украинской семьи кто-либо томился в крымской или турецкой неволе. Скоро и второй голос присоединился к первому, и оба голоса, равно как и мелодия думы, буквально рыдали.
Дума говорила о том, что не ясный сокол плачет-выкрикивает, а то сын к отцу-матери из тяжкой неволи в города христианские поклон посылает, ясного сокола родным братом называет: «Сокол ясный, брат мой родненький! Ты высоко летаешь, ты далеко видишь, отчего ты у моего отца и матери никогда в гостях не побываешь? Полети ты, сокол ясный, брат мой родненький, в города христианские, сядь – упади у моего отца и матери перед воротами, жалобно прокричи, про мою казацкую участь припомяни. Пусть отец и матушка мою участь казацкую узнают, своё добро-имущество с рук сбывают, богатую казну собирают, головоньку мою казацкую из тяжкой неволи вызволяют! Потому что как станет Чорное море выгравать, так не будут знать ни отец, ни матушка, в которой каторге меня искать – в пристани ли Козловской, или в Цареграде на базаре. А тут разбойники, турки-янычары, станут на нас, невольников, набегать, за Красное море в Арабскую землю продавать, будут за нас сребро-злато, не считая, и сукна дорогие поставами, не меряя, без счету брать…»[99]
Воодушевление певцов росло всё больше и больше. Слушателям, особливо же из городовых казаков, которые все были чистейшие украинцы, казалось, что это поют и плачут сами невольники, измученные, ослеплённые мучителями-янычарами, что действительно они обращаются к соколу, к ясному солнцу, к небесному своду. Все толпились поближе к певцам и слушали-слушали, затаив дыхание или же украдкой смахивая со щеки предательскую слезу. А они, поднимая свои слепые глаза к небу, пели все с большим и большим воодушевлением. Сама бандура, совсем не хитрый инструмент, и та, казалось, рыдала – и у неё дух захватывало от рыданий.








