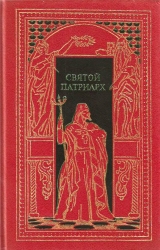
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 37 страниц)
Потом бандура и голоса певцов как-то обрывались, и этот перерыв ещё больше томил душу слушателя: казалось, он ждал, что же будет дальше в этом безбрежном море печали.
А бандура опять тренькала, сначала один голос, потом другой, – и снова раздавался невольничий плач и проклятие:
«Будь ты проклята, земля турецкая, вера бусурманская! ты наполнена сребром-златом и дорогими напитками, только бедному невольнику на свете невольно: ни Рождества Христова, ни Светлого Воскресенья бедные невольники не знают, все в проклятой неволе, на турецкой каторге, на Чорном море изнывают, землю турецкую, веру бусурманскую проклинают: ты, земля турецкая, ты, вера бусурманская, ты, разлука христианская: не одного ты разлучила за семь лет войною – мужа с женою, брата с сестрою, детей маленьких с отцом и матерью! Высвободи, Боже, невольника на святорусский берег, на край весёлый, меж народ крещёный!»
– Поганая песня! самая хлопская! – послышалось среди жолнеров.
– Спойте другую, а то мы уснём. Пойте весёлую!
– Вот что, люди божьи, спойте им про казака, что штаны латает, либо про Пазину! – со смехом отозвался городовой казак с огромной серьгой в ухе.
И вдруг неожиданно старый слепец, повернувшись лицом к жолнерам и взяв бандуру у товарища, быстро забренчал и, семеня ногами, запел:
Хто попа й попадю
А я ПАзину люблю,
Люблю у день и в ночи,
Ясне свитло гасючи.
На Пазини корали —
Сто золотых давали.
А ни батько купив,
А ни мати дала:
Сама добра була —
С козаками добулА:
ЗдобулА, здобулА —
Бо хороша була!
– Ай да дед! виват! виват! – кричали жолнеры.
А слепец, серьёзно отплясав, снова повернулся и зашагал, ощупывая посохом дорогу.
– Ещё весёлой! ещё, старче Божий! – не унимались жолнеры.
Старик опять повернулся к ним лицом, повёл слепыми очами, в которых видны были только белки, взял у товарища бандуру и, перебирая по струнам пальцами, залихватски затренькал и стал выделывать ногами невообразимые выкрутасы, приговаривая:
Баба рака купила,
Три полушки дала,
Тричи юшку варила,
Добра юшка була!
Снова взрыв хохота и одобрительные возгласы.
– Да эти хлопы хоть куда! превесёлый народ! А ещё говорят, что под польскою властью им не хорошо живётся: если б в самом деле было не хорошо, то не выдумали бы таких песен.
Между тем начинало темнеть. Пора было и привал делать.
– Эй, слепаки! – крикнул шляхтич со шрамом на щеке. – Далеко ещё до Суботова?
– Далеконько, пане, – был ответ.
– Засветло не дойдём?
– Где дойти, пане, – не дойдём.
– Так делать привал! – шляхтич. Приказ начальника облетел весь отряд. Задние ряды также остановились. Надвигались задние отряды и располагались у опушки густого леса.
Скоро по всей равнине запылали костры. Слышался смешанный гул голосов, ржанье коней, хлопанье бичей. У одного из крайних к лесу костров расположились и слепцы, сняв с себя сумки, и слышно было, как тихо тренькала бандура и так же тихо, монотонно раздавался голос младшего слепца, который пел:
Летит орёл проти сонця,
Згорда позирае:
Хто не знае коханнячка,
Той счастя не знае.
Плыве козак через море,
В мори потопае:
Хто не знае коханнячка —
Той журбы не знае.
[100]
Скоро весь польский стан, утомлённый продолжительным переходом, спал крепким сном. Скоро и костры потухли.
XIII. Вместо карася – щука
Ночь была тихая, тёплая, но тёмная. В такие ночи особенно ярко горят звёзды.
Тихо было и в стане. Слышно было, как иногда фыркали лошади, позвякивая путами, но и те, кажется, поснули. Не спал только соловей, задорно щёлкавший в соседней чаще, да иногда из этой чащи доносился глухой стон «пугача» – филина.
Как ни была темна ночь, но при слабом мерцании звёзд хороший глаз мог различить на белом фоне разбитой у опушки леса палатки человеческую тень, которая медленно шевелилась, то нагибаясь к земле, то поднимаясь. Всматриваясь пристальнее, можно было заметить, что от одного из потухших костров, именно от того, около которого расположились на ночлег слепые нищие, тихо отделились две человеческие фигуры и так же тихо поползли по направлению к той палатке, на белом фоне которой шевелилась человеческая тень.
Когда те две тени, которые отделились от костра, неслышно подползли ближе к палатке, то по движениям той одинокой тени они могли различить, что эта одинокая тень молится.
Две тени всё ближе и ближе подползают к палатке.
Вдруг эти тени моментально накрывают собою молящуюся тень, наклонившуюся к земле. Произошло какое-то движение, борьба, но ни звука.
Так же беззвучно эти тени понесли что-то в кусты и исчезли в чаще леса. Около палатки одинокой тени уже не было.
В стане опять тихо – ни звука, ни движения. В чаще, между двумя трелями соловья, глухо простонал филин. Ему ответил, ближе к стану, такой же стон ночной птицы.
Но не ночная птица стонала это. Крик филина раздался из горла одной из человеческих теней, пробиравшихся в глубину лесной чащи и тащивших ту одинокую тень, которая молилась у палатки.
– Не крутись, ляше, – не выпустим, – шёпотом сказала одна тень, и в этом шёпоте можно было узнать голос того слепого нищего, который недавно пел у костра:
Хто не знае коханнячка —
Той счастя не знае.
– Не бойся, ляше, – мы тебе ничего не сделаем, – говорил шёпотом другой голос – голос другого слепца, – а пуще всего не вздумай кричать – так и всажу меж рёбер вот этот нож по самый черенок.
Тот, к кому относились эти слова, силился что-то сказать, но не мог, – у него во рту был «кляп».
– Ну, теперь его можно и на ноги поставить, – сказал старший нищий, мнимый слепец, – ну, ляше, иди с нами, а то тебя важко нести.
– Ну-ну, ляшеньку, вставай… держись… мы люди добрые.
Они опустили ношу на землю. Тот встал и набожно перекрестился.
– А! да лях, кажись, по-нашему крестится, – заметил один нищий, – а ну, ляше, перекрестись.
Пленник перекрестился.
– Вот чудо! А побожись, перекрестись, поклонись, что не будешь кричать, и мы у тебя «кляп» вынем изо рта. Ну!
Пленник повиновался и перекрестился три раза. Стон филина послышался ближе. Ему отвечал один из нищих таким же стоном.
– Ну, вот теперь ты и без «кляпа», ляше. Пленному освободили рот от затычки.
– Ну, теперь здравствуй, ляше, вашмосць! Мам гонор, – шутливо заговорил старший нищий, – сказывай, пан, кто ты?
– Я не поляк, я – русский из московского государства, – отвечал пленный чистою московскою речью.
Те были ошеломлены этой неожиданностью.
– Как! ты не лях? Оттака ловись!
– Вот поймали щуку замес карася! Как же ты попал к ляхам?
– Меня польские жолнеры взяли в полон, когда я из Мультянской земли, от волох, пробирался в Черкасскую землю, в Киев-град, к святым угодникам печерским, – отвечал пленник.
– Те-те-те! вот подсидели райскую птицу!
– Как же ты, человече, попал к волохам? – спросил старший нищий.
– По грехам моим… Так Богу угодно было, – уклончиво отвечал пленник.
– Э! да ты, человече, я вижу, не разговорчив: думаю, что с нашим «батьком» ты скорей разговоришься.
Они продолжали двигаться лесною тропой. Начинало светать, когда перед ним открылась небольшая полянка среди чащи леса.
– Лугу! пугу! – раздался вдруг крик филина; но это выкрикнул не филин, а старший нищий.
– Пугу! пугу! – послышался ответ с полянки.
– Козаки с лугу! – сказали оба нищие.
На этот возглас послышалось тихое, радостное ржание коней.
– Здоровы бывали, хлопцы! с добычею! А какую птицу поймали?
Это говорил показавшийся на полянке запорожец в высокой смушковой шапке с красным верхом, в широких синих штанах и с пистолетами и кинжалами за поясом. Сбоку у него болталась длинная кривая сабля. Тут же оказался и мальчик «поводатырь» с бандурою в руках и с мешком за плечами.
– И ты уж тут, вражий сын? – заметил ему старший нищий.
– Тут, дядьку, – улыбнулся мальчик.
Это уже были не слепцы, жалкие и согбенные, а молодцы с блестящими глазами, хотя и в нищенском одеянии, ободранные и перепачканные.
Тот, кого они привели с собой, оказался богато одетым молодым человеком, но не в польском, а в немецком платье.
Запорожцы – это оказались они – с удивлением глядели на своего пленника. Они, по-видимому, не того искали.
– Так ты не лях? – снова спросили его.
– Я уж вам сказал, что я из московского государства, – был ответ.
– А в польском войске давно?
– Недели три будет.
– А кто ведёт войско – не Ян Собеский?
– Нет, сам Чарнецкий, а с ним и Собеский, и Махновский с гетманом Тетерею и татарами.
– Тетеря! собачий сын! совсем обляшился! – с сердцем произнёс старший запорожец-нищий. – Попадётся он нам в руки, лядский попыхач! А теперь они идут к Суботову?
– К Суботову, а после, сказывали, Чигирин добывать будут, а добывши Чигирина, хотят перепуститься за Днепр.
– За Днепр! как бы не так! Мы им зальём за шкуру сала.
– А сколько у них войска и всякой потребы? – спросил другой запорожец, что был при лошадях.
– Силы не маленьки, – отвечал пленник, – а сколько числом – того не ведаю.
Запорожцы стали собираться в путь. Мнимые нищие сняли с себя лохмотья и надели казацкое одеяние, которое вместе с оружием и «ратищами» – длинные пики – спрятано было в кустах. Тотчас же были и кони осёдланы.
– Так скажи же теперь нам, человече, как тебя зовут? – спросил старший запорожец. – Надо ж тебя по имени величать.
– Зовут меня Воином, – отвечал пленник.
– Воин! вот чудное имя! – удивились запорожцы.
– Вот имячко дали эти москали! Чудной народ. Мы знаем в святцах только одного Ивана Воина. А по батюшке как тебя звать?
– Мой батюшка Афанасий.
– А прозвище?
– Ордин-Нащокин.
– Не слыхали такого. Ну, да всё равно: батько кошевой, может, и знает. Ну, теперь на-конь, братцы. Да только вот что, Остапе, – обратился старший запорожец к тому, который оставался при лошадях, – мы, брат, этого воина несли на руках, а ты его повези теперь на коне, потому – у нас четвёртого коня не припасено для него.
– Добре! – отвечал тот. – Пускай хлопцы подумают, что я везу бранку – красавицу ляшку. Ну, брат Воин, взбирайся на моего коня, да садись позади седла и держись руками за мой «черес».
Воин сделал, что ему велели. Перед ним на седле поместился Остап.
– Что, ловко сидеть? не упадёшь? – спросил он пленника.
– Не упаду.
Мальчик «поводатырь» снял свой измятый «бриль» и стал прощаться с запорожцами.
– А, вражий сын! – улыбнулся старший запорожец. – На же тебе злотого.
И он подал мальчику монету. Получив награду, мальчуган, словно лесной мышонок, юркнул в чащу и исчез. Запорожцы двинулись в путь.
XIV. «Опять соловьи!..»
К вечеру этого же дня наши запорожцы вместе с пленником прибыли к войску гетмана, которое расположилось станом у Бужина. В таборе уже пылали костры – то украинские казаки, запорожцы и московские ратные люди варили себе вечернюю кашу.
Завидев приближающихся всадников, запорожцы узнали в них своих товарищей и уже издали махали им шапками.
– Э! да они везут кого-то: верно, языка захватили.
– Вот так молодцы! У бабы пазуху скрадут, как пить дадут – и не услышит.
Те подъехали ближе и стали здороваться.
– Что, паны-братцы, языка везёте? – спрашивали их.
– Языка-то языка, да только язык уж очень мудреный, – был ответ.
– А что – не говорит собачий сын? перцу ждёт?
– Нет, язык-то у него московский, а не лядский.
– Так не тот черевик баба надела?
– Нет, тот, да уж очень дорогой, кажется.
Все окружили приехавших и с удивлением рассматривали пленника в немецком платье. Вдруг раздались голоса:
– Старшина едет, братцы! старшина! Вон и пан гетман и батько кошевой сюда едут.
Действительно, вдоль табора ехала группа всадников, наближаясь к тому месту, где остановились наши запорожцы с пленником. Последние сошли с коней в ожидании гетмана и кошевого. Те подъехали и заметили новоприбывших.
– С чем, братцы, прибыли? – спросил Брюховецкий, остановив коня.
– Языка, ясновельможный пане гетмане, у Чарнецкого скрали, – отвечал старший запорожец.
– Спасибо, молодцы! – улыбнулся гетман.
– Да только, ваша ясновельможность, человек он сумнительный, – пояснил запорожец, – говорит, что он из московского государства, а через волохов простовал до Киева.
Брюховецкий пристально посмотрел на молодого человека. Благородная наружность пленника, красивые черты лица, нежные, незагрубелые руки, кроткий, задумчивый взгляд, в котором сквозила затаённая грусть, – всё это разом бросилось в глаза гетману и возбудило его любопытство.
– Ты кто будешь и откуда? – ласково спросил он молодого человека.
– Ясновельможный гетман! – с дрожью в голосе отвечал казацкий пленник. – Я сын думного дворянина московского, Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина.
Гетман выразил на своём лице глубочайшее удивление.
– Ты сын Ордина-Нащокина, любимца его царского пресветлого величества! – воскликнул он.
– Истину говорю, ясновельможный гетман, я сын его, Воин.
– Но как же ты находился в польском стане?
– Я возвращался из Рима и Венеции через Мультянскую землю. Я не хотел возвращаться чрез Варшаву, опасаючись того, что случилось: в Волощине я узнал, что войска твоей ясновельможности и его царского пресветлого величества привернули в покорность московскому государю все городы сей половины Малыя России, бывшие под коруною польскою, и я Подольскою землёю направился сюда – намерение моё было достигнуть Киева; но, к моему несчастию, я попал в руки польских жолнеров и стал пленником Чарнецкого. Не ведаю, ясновельможный гетман, как сие совершилось, но Богу угодно было, чтобы нынешнею ночью меня выкрали из польского стана, и я благодарю моего Создателя, что он привёл видеть мне особу твоей ясновельможности.
Гетман внимательно слушал его и задумался.
– А какою видимостью ты подкрепишь показание своё, что ты несумнительно сын Ордина-Нащокина? – спросил он. – Есть у тебя наказ, память из Приказа?
– Нет, ясновельможный гетман…
Молодой человек остановился и не знал, что сказать далее.
– Как же нам верить твоим речам? – продолжал гетман. – Тебя здесь никто не знает.
– Ясновельможный гетман! – быстро заговорил вдруг пленник. – Есть ли здесь у тебя в войске твои посланцы, которых в прошлом, во 143 году[101] я видел в Москве, в столовой избе, на отпуске у великого государя, – то я узнаю их.
– А кто были имянно мои посланцы? – спросил гетман.
– Гарасим да Павел, ясновельможный гетман, – отвечал допрашиваемый.
Брюховецкий переглянулся с кошевым Серком.
– Разве и ты был тогда в столовой избе? – спросил он снова своего пленника.
– Да, ясновельможный гетман, был; меня великий государь тоже жаловал к руке.
– Жаловал к руке! тебя! – дивился гетман.
– Меня, ясновельможный гетман, точно жаловал; великий государь посылал меня на рубеж к отцу, в Андрусово, с его государевым указом, в гонцах.
– Но как же ты очутился в Риме? – спросил Брюховецкий.
Вопрошаемый замялся. Гетман настойчиво повторил вопрос.
– Прости, ясновельможный гетман, – сказал молодой человек, – на твои о сём вопросные слова я не смею отвечать: на оные я отвечу токмо великому государю и моему родителю, когда буду на Москве.
Гетман не настаивал. Он думал, что тут кроется государственная тайна – дело его царского пресветлого величества.
Во время этого допроса вся казацкая старшина полукругом обступила гетмана. Он оглянулся и окинул всех быстрым взором. Среди войсковой старшины он заметил и своих бывших посланцев к царю Алексею Михайловичу – Гарасима Яковенка, он же и «Гараська-бугай», Павла Абраменка и Михаилу Брейка.
Он опять обратился к своему пленнику.
– Посмотри, – сказал он, – не опознаешь ли ты среди казацкой старшины кого-либо из тех моих посланцев, что ты видал в прошлом году на Москве, в столовой государевой избе?
Тот стал пристально всматриваться во всех. Взор его остановился на Брейке.
– Вот его милость был тогда в столовой избе и жалован к руке, – сказал он, указывая на Брейка.
– Правда, – подтвердил тот. – Як у око влипив!
– Ещё тогда его милость упал и великого государя насмешил, – пояснил пленник.
– Овва! про се б можно було й помовчать, – пробурчал великан, застыдившись, – кинь об четырёх ногах, и то спотыкается.
В задних рядах послышался смех. Улыбнулись и Брюховецкий, и Серко.
Скоро опознан был и другой великан – «Гараська-бугай». Опознан был и Павло Абраменко.
Убедившись в правдивости речей своего пленника и считая вполне достоверным, что молодой человек – действительно сын знаменитого царского любимца и, следовательно, сама по себе особа важная, гетман приказал Гарасиму Яковенку провести его в гетманский шатёр, а сам отправился дальше вдоль казацкого стана, чтобы сделать на ночь необходимые распоряжения.
Думал ли молодой Ордин-Нащокин, что из Рима и Венеции он попадёт в казацкий стан и притом таким необычайным способом?
Ему вдруг почему-то припомнилась последняя ночь, проведённая им в Москве, и тот вечер, когда, как и теперь, так громко заливался соловей. Впрочем, всякий раз теперь, когда он слышал пение соловья, этот роковой вечер вставал перед ним со всеми его мучительными подробностями – и томительной болью ныло его сердце. Тогда ему казалось, что девушка недостаточно любила его; но теперь?.. А если она нашла другого суженого? Ужели напрасно он выносил в течение года и более в душе своей тоску, как преступник цепи?
И вчера ночью, когда он, в польском стане, лежал в палатке Яна Собеского и не мог спать, и вчера так же пел соловей, напоминая ему мучительный, последний вечер пребывания его в Москве. Душа его жаждала молитвы – и он молился, по временам обращая молитвенный взор к далёким звёздам, мерцавшим на тёмном небе, – и вдруг его схватили…
Не божественный ли это Промысел, ведущий его к спасению, к счастью?
Он так был поглощён своими мыслями и так взволнован, что почти не слыхал, что говорил ему его спутник, как он вспоминал о своём пребывании в Москве в качестве гетманского посланца, как на прощанье царь жаловал их к руке и как упал Брейко.
– Только ж и ночи у вас на Москве! – удивлялся запорожец. – Хоть иголки собирай… А всё ж таки у вас соловьи поют, хоть им, должно быть, и холодненько в вашей стороне…
«Опять соловьи!..»
XV. Поругание над прахом Хмельницкого
Когда утром в этот день проснулись в польском лагере, то всех поразило исчезновение слепых нищих с поводатырем и – что уже совсем неразгаданно – исчезновение вместе с ними молодого московского дворянина.
Тут только поляки догадались, что под личиною слепцов скрывались казацкие лазутчики, а почему вместе с ними исчез и московский дворянин – это для них так и осталось тайной. Предполагали, что между лазутчиками и молодым москалём существовал таинственный сговор; но где и когда он состоялся? Почему москаль узнал, что то были лазутчики? Значит, и то неправда, что он говорил о себе, о возвращении будто бы из Рима, из Венеции. Несомненно, что и он был подослан или казаками, или москалями.
Ввиду всего этого Чарнецкий строго-настрого приказал усилить в войске предосторожности и рассылать во все стороны разведчиков – нет ли поблизости проклятых запорожцев или даже самого гетмана с войском.
Как бы то ни было, но поляки в этот день достигли Суботова[102].
Весь этот день, вследствие ли тревог, всегда неизбежных в военное время, вследствие ли просто физических причин, но Чарнецкому весь этот день было не по себе. Он часто задумывался, машинально водя рукою по своим длинным седым усам, отдавал приказания и снова их отменял, а когда показалось Суботово и он увидел суботовскую церковь, где, как он знал, был похоронен Богдан Хмельницкий, странная улыбка прозмеилась под его седыми усами, а изрезанное морщинами лицо мгновенно покрылось краскою. Это была краска стыда и негодования. Он вспомнил, как когда-то в этом Суботове он, гордая отрасль древнего рода, всегда претендовавшего на корону польскую, он, Стефан Чарнецкий, был пленником у хлопа, у Хмельницкого! Лицо Чарнецкого побагровело. Рана на щеке, которую когда-то пробила насквозь хлопская стрела, во время штурма Монастырища, теперь налилась кровью.
– Я отомщу тебе, быдло! – бормотал он. – Отомщу, хотя тебя и похоронили с царскими почестями. Всё это твоё дело: ты посеял эти драконовы зубы – они теперь выросли в людей, в разбойников… Но я выбью эти проклятые зубы!
Суботово было занято без сопротивления, так как в нём не оставалось ни одного казацкого отряда.
Прежде чем двинуться к Чигирину, Чарнецкий, доведавшись, в каком направлении удалились вчерашние мнимые слепцы, отрядил по этому направлению часть своего войска под начальством Незабитовского и Тетери и приказал им искать Серка с запорожцами, а если Серко соединился с Брюховецким, то не допускать до Чигирина ни того, ни другого; сам же остался ночевать в Суботове.
Чарнецкий приказал разбить свой шатёр на холме, откуда виден был весь его лагерь и откуда он мог созерцать Суботово, с которым у него соединялись такие обидные воспоминания. Теперь он смотрел на это местечко, бывшее когда-то гнездом унизившего его врага, с чувством глубокого удовлетворения: он мог превратить его в развалины, в мусор, и разметать этот мусор по полю. При закате солнца он долго сидел у своего шатра, и перед ним проносились воспоминания его бурной, полной тревог жизни. Вся жизнь – на коне, в поле, под свистом пуль и татарских стрел. Постоянно кругом смерть, похороны, стоны. Но он свыкся с этим – в этом вся его жизнь. Но где же его личное счастье – не счастье и гордость побед, не слава полководца, а счастье разделённого чувства? Кажется, его и не было.
Нет, было-было! но так кратковременно… Этот высокий замок во мраке ночи, тёмный парк, мерцающие и отражающиеся в тихой, сонной реке звёзды… Тут было это счастье – и такое мимолётное…
И вдруг налетает с войском этот бешеный вепрь, что теперь лежит под могильной плитой вон в той церкви! Замок в огне, замок разрушен, дорожки парка потоптаны конскими копытами. А та, чей шёпот ещё накануне сулил счастье, лежит мёртвая, как скошенная белая лилия…
Мрак всё более и более надвигается на Суботово и на лагерь. В воздухе душно – быть грозе. Оттого ему и дышится так и тяжело, и в душу теснятся одни мрачные воспоминания…
Ночь. Чарнецкий один в своём роскошном шатре. Тускло горят свечи в высоком канделябре. Сон не хочет или не смеет войти в этот шатёр, точно он боится часовых, стоящих у входа в ставку старого полководца.
Чарнецкий встаёт и тушит свечи. Он ложится на походную кровать и прислушивается, как где-то вдали глухо раскатывается гром.
И опять перед ним развёртывается панорама пережитой жизни… Да, пережитой… Только перед смертью встают в душе подобные панорамы. И неудивительно – ему уже 66 лет!
Гроза всё ближе и ближе. В порывах ветра слышится не то стон, не то плач…
Это она плачет… это замок горит… ветер бушует в деревьях парка. А он не может её спасти… не может пробиться с горстью жолнеров сквозь густые ряды казацкого войска.
«Сидите, ляхи! Всех ваших дуков, всех князей ваших загоню за Вислу! А будут кричать за Вислою, я их и там найду, не оставлю ни одного князя, ни шляхтишка на Украине!..»
Это он, разъярённый вепрь, кричит – это Хмельницкий… Он врывается в палатку!..
Чарнецкий вскакивает… его душил кошмар… он слышал голос Хмельницкого… Нет, это удар грома разразился над самою его палаткою.
И мёртвый – он не даёт ему покоя…
Гроза бушует уже дальше – раскаты грома несутся туда, на восток…
«На восток и Польша понесёт свои громы… Я понесу эти громы, – опять забываясь, грезит Чарнецкий, – а там и на север, в Московию полетят польские орлы… Сидите, москали! молчите, москали!..»
Утром, окружённый своим штабом, Чарнецкий торжественно въезжает в Суботово. Он направляется прямо к церкви, где в то время только что кончилась обедня.
Народ начал было выходить из церкви, но, увидав приближение богато одетых всадников, остановился. Чарнецкий, сойдя с коня, направился прямо в церковь, а за ним и вся его свита. Старенький священник, служивший обедню, ещё не успел разоблачиться, а потому, увидев входящих панов, вышел к ним навстречу с крестом.
– Прочь, поп! – крикнул на него Чарнецкий. – Мы не схизматики. Показывай, где могила Хмельницкого.
Перепуганный батюшка пошёл к правому приделу.
– Здесь покоится тело раба божия Зиновия-Богдана, при жизни божиею милостию гетмана Украины, – робко выговорил он.
– Божиею милостию, – злобно улыбнулся гордый лях, – много чести.
Он подошёл к гранитной плите и ткнул её ногою.
– Поднять плиту! – громко сказал он.
Священник ещё больше растерялся и испуганными глазами уставился на страшного гостя.
Чарнецкий обернулся к стоявшему в недоумении народу.
– Сейчас же принеси ломы! – скомандовал он. Бывшие в церкви некоторые из жолнеров бросились исполнять приказание своего вождя.
Ломы и топоры были скоро принесены. Плита была поднята. В тёмном каменном склепе виднелся массивный дубовый гроб. Свет, падавший сверху, освещал нижнюю его половину.
– Вынимайте гроб! – продолжал Чарнецкий.
– Ясновельможный, сиятельный князь! это святотатство! – с ужасом проговорил священник; крест дрожал у него в руках. – Пощади его кости, сиятельный…
– Молчать, поп! – крикнул на него обезумевший старик.
Жолнеры бросились в склеп, и гроб был вынут.
– Поднимите крышку!
Топорами отбили крышку – и в очи Чарнецкому глянуло истлевшее лицо мёртвого врага. Чарнецкий долго глядел в это лицо. Оно уже в гробу обросло седою бородой. Чёрные брови, казалось, сердито насупились, но из-под них уже не глядели глаза, перед которыми трепетала когда-то Речь Посполитая. Только широкий белый лоб оставался ещё грозным…
Чарнецкий всё глядел на него…
«А! помнишь тот замок над рекою! помнишь ту ночь! помнишь ту белую лилию с распущенною косою, – лилию, которую убил один ужас твоего приближения!» – бушевало у него в душе.
«Сидите, ляхи! молчите, ляхи»! А… не крикнешь уж больше!»
Он всё смотрел на него. Ему вспомнилась эта бурная ночь, удар грома…
Все стояли в оцепенении. У старого священника по лицу текли слёзы. Он отпевал его, он хоронил этого богатыря Украины…
Чарнецкий, наконец, отвернулся от мертвеца. Лицо его было бледно, только шрам на щеке от раны, полученной при штурме Монастырища, оставался багровым.
– Вынести гроб из церкви и выбросить падаль собакам! – сказал он – и вышел из церкви.
За ним жолнеры несли гроб, окружённый свитою Чарнецкого, точно почётным караулом.
На лице Яна Собеского вспыхнуло негодование, но он смолчал…
Едва Чарнецкий вышел на крыльцо церкви, как к нему почтительно приблизился дежурный ротмистр его штаба с двумя пакетами в руке.
– Что такое? – спросил Чарнецкий.
– Гонец с Москвы, ваша ясновельможность! – отвечал ротмистр, подавая пакеты. – Листы от царя московского и от думного дворянина Афанасия Ордина-Нащокина.
Чарнецкий взял пакеты и вскрыл прежде письмо от царя Алексея Михайловича.
Странная улыбка скользнула по его лицу, когда он пробежал царское послание, и обернулся к Собескому.
– Это всё насчёт того вайделоты, что вчерашнею ночью пропал у нас без вести, – сказал он с видимою досадою.
– Молодого Ордина-Нащокина? – спросил Собеский.
– Да, пане. Царь шлёт милостивое прощение.
– Прощение? – удивился Собеский. – В чём?
– Об этом не говорится в письме: пан может сам прочесть его.
И Чарнецкий подал царское послание будущему спасителю Вены и дома Габсбургов, а сам вскрыл послание Ордина-Нащокина.
– Та же песня, – с досадой произнёс он, – а где мы найдём этого вайделоту, чтобы объявить ему царскую милость и отцовское прощение?
– Я думаю, – отвечал Собеский, – его надо искать в стане Брюховецкого или у этой собаки – у Серка.
– Так пусть пан ротмистр скажет царскому гонцу, чтоб он искал беглеца у Брюховецкого или у Серка, – сказал Чарнецкий дежурному, – а пан ротмистр прикажет списать копии с этих листов и вручить их гонцу с пропуском моим, – закончил он, передавая ротмистру оба письма.
Между тем за церковью, на площади, слышен был гул голосов, заглушаемый женскими воплями и причитаниями.
То выбрасывали из гроба останки Хмельницкого – «псам на поругание»…
XVI. Она узнала его
В один из июльских вечеров, когда уже начинало темнеть, от Москвы по Девичьему полю ехал одинокий всадник по направлению к монастырю.
Судя по богато убранному коню и по одежде, всадник принадлежал к богатому или знатному роду. Низкое, плоское, с вызолоченными луками седло, обшитое зелёным сафьяном с золотыми узорами, лежало плотно на богатом малинового бархата чапраке с серебряною оторочкою, из-под которой виднелся голубого цвета «покровец» или попона, расшитая шелками и с вензелевым изображением на задних, удлинённых концах с серебряными кистями. Вензель состоял из трёх серебряных букв: В. О. Н. Уздечка на лошади также отличалась красотой и богатством: «ухваты» и «оковы» на морде коня были серебряные с такими же цепочками. Ожерелье на шее лошади унизано было серебряными же бляхами, узенькими поверх шеи и широкими снизу. Повыше копыт коня висели маленькие колокольчики, у самых щёток, и при движении издавали гармонический звон, который издавна москвичи называли «малиновым звоном». Сверх всего этого сзади у седла приделаны были маленькие серебряные литавры, которые при ударе об них бичом звенели, заставляя лошадь бодриться, красиво изгибать шею и вообще играть.
На молодом всаднике был также богатый наряд: и ферязь, и охабень, и ожерелья – всё блестело или золотом, или жемчугами.
По небу ходили сплошные тучи, но когда они раздвигались и из-за них выплывал на минуту полный месяц, то в молодом всаднике легко можно было узнать нашего бродягу – Воина Ордина-Нащокина.
Он опять в Москве. Но сколько горя, сколько душевных мук дало ему это возвращение на родину. Он узнал здесь, что та, от которой он в ослеплении безумной страсти бежал, куда глаза глядят, бежал на край света, та, мыслью о которой он только и дышал эти полтора года, милый образ которой не отходил от него ни днём, ни ночью, о которой он думал, что она променяла его на другого, не захотев для него пожертвовать глупою девичьею славою, – он узнал здесь и сердцем понял, что она не вынесла разлуки с ним и навеки похоронила свою дивную красу, своё девство, прикрыв своё прелестное личико и свою роскошную девичью косу – черничьею ризой! Сердце его обливалось кровью, когда он думал об этом.
Об этом он думал и теперь. Он ехал туда, где она похоронила себя заживо.
«Всё кончено», – ныло у него на сердце. И он с тоской прислушивался, хотя вовсе не хотел этого, как где-то недалеко чей-то хриплый голос, вероятно, голос пьяного шатуна, напевал знакомую ему, любимую песню кабацких гуляк. Хриплый голос пел:
«Как рябина, как рябина кудрявая!
Как тебе, рябинушка, не стошнится,
Во сыром бору стоючи,
На болотину смотрючи!»
[103]
Ему досадно было, что его чистые думы о ней, о том невозвратном прошлом, когда она давала ему свои горячие, хотя стыдливые ласки, что эти святые думы грязнятся этою пьяною песнею. А пьяная песня всё терзала ему слух и душу…








