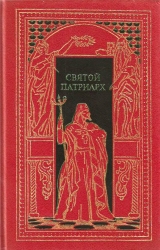
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 37 страниц)
Разину предстояло действовать одному с своими казаками.
Наступал 1669 год. Дон вскрылся рано. Надо было думать о походе.
Вдруг однажды под вечер разинские молодцы, которые ловили в Дону, ниже Кагальника, рыбу, заметили лодку, которая осторожно, среди густых тальников и видимо крадучись пробиралась к казацкому стану. Ловцы настигли её и увидели, что в ней сидит женщина. На оклик сначала ответа из лодки не последовало, и лодка продолжала спешить к острову.
– Остановись, каюк, стрелять будем! – закричал один из ловцов и выстрелил по подозрительному каюку.
После выстрела каюк остановился. Ловцы подплыли ближе: в каюке находилась только одна женщина средних лет, по-видимому, казачка.
– Ты кто такая и откель? – спросили ловцы.
– Сами видите, атаманы-молодцы, что я казачка и еду из Черкасского, – смело и даже гордо отвечала неизвестная женщина.
– Видим, что не татарка, – улыбнулся один из ловцов, – а куда путь держишь?
– К атаману Степану Тимофеевичу Разину, – был ответ.
– О-го-го! – покачал головой тот же ловец. – Высоко, болезная, летаешь, а где-то сядешь!
– Сяду рядом с вашим батюшкой атаманом! – гордо отвечала казачка.
– Не погневайся, молода-молодка, – заметил другой ловец, постарше, – в наш городок ваш брат, баба, и ногой ступить не может; а то зараз кесим башка!
– Што так строго? – презрительно улыбнулась смелая казачка.
– А так – у нас закон таков; чтоб бабьятиной и не пахло, – отвечал младший ловец.
– Что ж – али баба псиной пахнет? – презрительно пожала плечами казачка.
– Псиной не псиной, а припахивает.
Этот дерзкий отзыв взорвал казачку: она вспыхнула и замахнулась веслом, чтоб ударить обидчика. Тот едва увернулся.
– О! да она и в самом деле с запашком! – засмеялся он.
– Прочь, вислоухие! – закричала вне себя казачка. – Мне не до вас, сволочь! Мне спешка, видеть атамана; а задержите меня – завтра ж вас в куль да в воду!
Она торопливо сняла с своей руки перстень с бирюзой и подала старшему ловцу.
– На! зараз же покажь этот перстень атаману, – мне ждать неколи, а ему и того меньше! – сказала она повелительно.
Всё это говорилось таким тоном, и вообще незнакомая женщина так вела себя, что казаки уступили её требованию и поплыли к острову. Незнакомка следовала за ними. Она так сильно и умело работала веслом, что её лёгкий каючок не отставал от казацкой лодки.
Скоро они были у острова. Из-за земляного вала, которым был обнесён стан Разина, кое-где поднимался синеватый дымок к небу.
Лодка и каюк пристали к берегу. Старший ловец тотчас же отправился в стан, а младший с незнакомой казачкой остались на берегу.
– Что ж у вас в Черкасском делается? – спросил было незнакомку оставшийся на берегу ловец.
– Это я скажу атаману, – был сухой ответ.
«Фу ты, ну ты!» – подумал про себя ловец и только пожал плечами.
Скоро воротился и тот казак, который ходил в стан с перстнем.
– Иди за мной, – сказал он незнакомке, – батюшка Степан Тимофеевич приказал звать тебя.
Незнакомка повиновалась. По лицу её видно было, что волнение и страх боролись в ней с каким-то другим чувством.
Разин ждал её на майдане в кругу нескольких казаков. Выражение лица его было сурово.
Незнакомка робко подошла к нему и опустилась на колени. Разин молча вглядывался в её черты.
– Степанушка! Стеня! али ты не узнал меня? – с нежным упрёком произнесла пришедшая.
– Нет, узнал, – сухо ответил Разин.
Но и на его холодном лице отразилось волнение и какое-то другое чувство. Стоявшая перед ним женщина была когда-то его женой. Была! Да она и теперь его жена: вот тот перстенёк с бирюзой, который когда-то, в ту весеннюю ночку, он сам надел ей на пальчик. Помнит он эту ночку – они не забываются. Но чем-то другим, какою-то пеленою заслонились воспоминания этой, давно минувшей ночи. После неё были другие ночи – не здесь, не на Дону, а на море…
– Встань, Авдотья, – более мягким голосом сказал атаман, – тебе сказали, что у нас здесь нет жён?
– Сказали, – ответила жена Разина, – да я не к мужу пришла, а к атаману.
– Сказывай же, с чем пришла? – спросил тот.
– Я при них не скажу, – указала она на казаков.
– У меня от них тайны нет, – возразил атаман.
– Так у меня есть, – с своей стороны возразила жена атамана, – отойдём к стороне.
Разин нетерпеливо пожал плечами, но исполнил то, чего требовала от него жена.
Когда она передала ему что-то на ухо, Разин сделал движение не то удивления, не то досады. Жена продолжала говорить что-то с жаром. Глаза атамана сверкнули гневом.
– А! дак они вот как! – глухо произнёс он. – Ладно же! я им покажу!
– Атаманы-молодцы! – громко обратился он к кругу. – Нынче же в Черкасской! Слышите?
– Слышим, батюшка Степан Тимофеевич! любо! – гаркнули казаки.
– А тебе, Авдотья, спасибо за вести, – сказал Разин жене. – А теперь уходи восвояси: тебе здесь не место.
– Не место! А персицкой любовнице было место! – крикнула жена атамана.
Глаза оскорблённой женщины сверкали негодованием. Не такого приёма ожидала она от мужа после стольких лет разлуки. А он словно царь какой принял свою – когда-то Дуню, желанную, суженую. В этот момент она забыла, что сама когда-то знать его не хотела, когда он был неведомым бродягой и шатался с такими же бродягами… А теперь он – царь, настоящий царь!.. «Спасибо за вести, а нам тебя не надо… тебе здесь не место!..» Бессильная злоба кипела в её душе…
И как назло – бывший её муж стал теперь ещё красивее: седина в курчавой голове так шла к его чёрной бороде… А когда-то она ласкала эту бороду, эту буйную голову… После неё ласкала другая… Эта была милее, желаннее…
– Не место! жене не место, а любовнице – место! – повторила она злобным шёпотом.
– Авдотья! – тихо, сдержанно сказал ей муж. – Уходи, если не хочешь сейчас же напиться донской воды.
– Хочу! утопи меня! – настаивала упрямая казачка.
– Ты не стоишь этого! – махнул рукою Разин и начал готовиться к походу в Черкасск.
Жена бросилась было за ним, но потом, закрыв лицо руками, со слезами ушла с майдана.
Скоро её каючок отчалил от берега и скрылся во мраке.
«Не солоно хлебала», – сказал про себя провожавший её до каюка молодой ловец.
XXVI. На Москву шапок добывать!
Вести, привезённые из Черкасска женою Разина, были действительно тревожного свойства.
Из Москвы прибыл на Дон бывший недавно в «жильцах» стольник Еремей Сухово-Евдокимов, который так отличался в прошлом году, во время последнего купанья стольников и жильцов в Коломенском пруду, что Алексей Михайлович пожаловал его двумя обедами разом. Ещё тогда же дворские завистники говорили, что Еремей шибко пойдёт в гору после такой «царской ествы, о какой у него и на уме не было».
Действительно, в Сухово-Евдокимове учуяли ловкого малого, который в одно ушко влезет, а в другое вылезет, и раннею же весною ему уже дали серьёзное поручение: ехать на Дон с милостивою царскою грамотою, а под рукою разузнать – не затевает ли вновь чего Разин. В Москве уже известно было и о варварском его поступке с дочерью хана Менеды – Заирою, и о том, что он не соединился с прочими донскими казаками, а основал свой особый стан на Кагальнике. Всё это очень беспокоило Алексея Михайловича.
Вот с этим-то двойственным поручением и явился в Черкасск Сухово-Евдокимов «с товарищи».
– Я знаю, Еремей, твоё усердие: ты и там сух из воды выдешь, – сказал ему на милостивом отпуске «тишайший», остроумно намекая игрою слов и на его «сухую» фамилию, и на его умение плавать.
– Ну, как бы там из «сухово» не вышло мокренько, – процедил себе в бороду Алмаз Иванов, который лучше других понимал всю серьёзность дел на Дону.
Эти-то вести и сообщила Разину жена, которая оставалась всё время в Черкасске, когда муж её в течение многих лет рыскал с своею «голытьбой» то по Дону и Волге, то по Яику и Каспийскому морю.
В ту же ночь Разин с частью своих молодцов отправился в Черкасск. На Дону в это время начиналось весеннее половодье, и потому удобнее было ехать в Черкасск на лодках. Столица донских казаков, как известно, в половодье была неприступна ни с луговой, ни с нагорной стороны Дона, так как её со всех сторон окружала вода, и весь Черкасск – его курени, сады и церкви, казалось, плавали на воде.
Утром флотилия Разина неожиданно окружила Черкасск. В станице все переполошились, когда услыхали три вестовых пушечных выстрела с атаманского струга и когда молодцы Разина стали высаживаться на берег и гурьбой, с криками и угрозами по адресу Москвы, направляться к соборной площади.
Разин тотчас же приказал бить «сполох», и соборный колокол оповестил всю станицу, что готовится что-то необычайное. Все спешили на площадь – одни, чтоб узнать, в чём дело, другие – чтобы только взглянуть на Разина, имя которого успело покрыться так быстро небывалою славою и который представлялся уже существом сверхъестественным: его ни пуля не брала, ни огонь, ни вода, ни сабля; на Волге, например, он расстелит на воде войлочную кошму, сядет на неё и, точно в лодке, переплывает реку; когда в него стреляют, он хватает пули рукою и бросает их обратно в неприятеля.
Но зато станичные и войсковые власти все спешили прятаться от страшного гостя. Войсковой атаман Корнило Яковлев укрылся в соборе, в алтарь, думая, что нечистая сила, с которой знается Разин, не посмеет проникнуть в храм Божий.
На соборной площади, или на майдане, собрался между тем круг. Разин вышел на середину круга, махнул бунчуком на колокольню, и набатный колокол умолк. Тогда Степан Тимофеевич с свойственным ему красноречием, с глубоким знанием своего народа и его инстинктов, начал говорить образным, самым пламенным языком о том, как Москва посягает на их казацкие вольности, как бояре задумали обратить весь Дон и всё казачество в своих холопей, сделать холопками их жён и дочерей; напомнил им, как князь Долгорукий самовольно казнил их атамана, а его родного брата Тимофея. Он говорил страстно, убеждённо. Это был один из тех народных ораторов, которые родятся веками и за которыми массы идут слепо. Он был грозен и прекрасен в своём воодушевлении, особенно когда говорил о том, что он видел, исколесив русскую землю от Черкесска до Соловок, – что везде страшная бедность, голод, болезни, притеснения, а зато на Москве, в царстве бояр, – какие палаты, какая роскошь! – и всё это награблено с бедных, с подневольных, с голодных. И вдруг теперь то же хотят сделать с вольным Доном, с вольными казаками.
Вся площадь, казалось, замерла, слушая страстные речи человека, в котором виднелась уже сверхъестественная сила.
Среди слушателей была и его жена. Она робко затёрлась теперь в толпе и из-за широких спин казаков жадно и благоговейно глядела на своего бывшего мужа. Она теперь не узнавала его, но зато никогда не любила так, как в этот момент, хотя он вчера и смертельно обидел её.
«Степанушка! Степанушка мой!» – молитвенно, беззвучно шептали её губы.
– Где этот московский лазутчик, что хочет казаков в дурни пошить? – вдруг оборвал свою жгучую речь Разин, обратившись к своим молодцам. – Подать мне ево сюда!
Казаки бросились исполнять приказание атамана. Через несколько минут Сухово-Евдокимова и его товарищей, московских жильцов, ввели в казачий круг.
– Долой шапки! – крикнул Разин. – Здесь вам не кабак!
Оторопелые послы московского царя сняли шапки.
– Ты зачем сюда приехал? – спросил атаман, подступая к Сухово-Евдскимову.
– Я приехал с царскою милостивою грамотою, – отвечал последний.
– Не с грамотою ты приехал, а лазутчиком – за мною подсматривать и про нас узнавать! Так вот же тебе!
И Разин со всего размаху ударил царского посланца по щеке.
– Чево вам от нас нужно? – продолжал атаман. – Али и без нас мало вам с кого кровь высасывать! Мало вам холопей ваших, да крестьян, да оброшников, да ясашных! Мало вам на Москве палат, что на холопских костях сложены! У нас вон нет каменных палат – одни курени да мазанки. Чево ж вам надо? Наших голов? Так нет же! вот тебе грамота!
И он снова ударил посла.
– В воду его! – махнул он бунчуком.
Казаки набросились на несчастного и избили его до полусмерти. Затем потащили к Дону и, ещё живого, бросили с атаманского струга в воду.
– Ну-ка, боярин, полови стерлядей у нас во Дону! У вас на Москве их, слышь, нету, – издевались казаки над своей жертвой.
– Пущай плывёт к туркам – они добрее Москвы!
Искусный пловец тотчас же пошёл ко дну.
– Ишь – только ножкой дрыгнул…
– Постой, атаманы-молодцы! погоди! не топи его! – кричала с берега голытьба.
– Што так, братцы?
– А цветно платье зачем топить? У нас зипунов нету – сымем с боярина цветно платье.
Казаки согласились с доводами голытьбы и тотчас же бросились в другие лодки, чтоб баграми отыскивать утопленника.
Труп скоро был вытащен из воды, не успев ещё окоченеть. Зато тем легче было его раздевать – и его действительно раздели донага.
– Эко зипун завидный! да и рубаха и порты знатные!
– А то на! эко добро да в воду! Жирно будет.
– А сапоги-ту! сафьян рудожелт – загляденье!
– Только чур, братцы; – и зипун, и рубаху, и порты, и онучи, и сапоги – все в дуван! – по жеребью.
– А хрест тельный? и его в дуван?
– Знамо! мы не бусурманы: на нас, чаю, тоже хресты. И обнажённое тело московского посла снова бросили в Дон.
– Чать и ракам надо чем-нибудь кормиться.
– Вестимо…
– А шапка, братцы, боярска иде? – спохватилась голытьба. – Шапки и не видать!
– Да! шапка! шапка! иде шапка? неужто утопили?
– Шапка, должно, в кругу осталась, – там его атаманы били.
Бросились в круг искать шапку.
– Иде боярска шапка? Подавай шапку в дуван! Разин, увидев мечущуюся голытьбу, лукаво улыбнулся.
– Эх, братцы, я вам на Москве таких шапок добуду! – сказал он задорно.
– На Москву, братцы! на Москву – шапок добывать! – закричала голытьба.
– На Москву! За батюшкой Степаном Тимофеевичем – шапки, зипуны добывать! – стонал майдан.
И среди этой бушующей толпы только одни глаза с любовью и тоскою следили за каждым движением народного героя: то были глаза его жены с навернувшимися на ресницы слезами. Но она не смела подойти к нему.
Вечером того же дня флотилия Разина возвращалась в Кагальник. Но это была уже не прежняя маленькая флотилия: почти весь Черкасск ушёл теперь за атаманом, захватив все лодки, какие только были в станице.
С одного струга неслась заунывная песня, и грустная мелодия её далеко разлеталась по воде. Один голос особенно отчётливо выводил:
«Как во городе, во Черкаскием,
У одной-то вдовы было семь сынов,
А восьмая – дочь несчастная.
Возлелеяв-то сестру, все в розбой пошли,
Своей матушке все наказывали:
Не давай-ка без нас сестру в замужье»…
Вечер был тихий и тёплый. Полная луна серебрила и поверхность широко разлившегося Дона, и прибрежные кусты тальника, и развесистые вершины тополей. С луговой стороны неслись по воде трели соловья…
Разин сидел на носу своего струга в глубокой задумчивости: эта песня напомнила ему детство… А теперь? Он грустно покачал головой…
Если б он поднял глаза к нагорному берегу, под которым плыл его струг, то увидел бы силуэт женщины, которая шла за стругом высоким берегом Дона и от времени до времени утирала глаза рукавом.
XXVII. Васька-Ус
Весна и лето настоящего года принесли Алексею Михайловичу много несчастий и огорчений. Тяжёл был для него и предыдущий – 1668 год; но то был год високосный – он и не ожидал от него ничего хорошего.
А теперь так и повалила беда за бедою. В начале марта царица Марья Ильинишна, с которою они прожили душа в душу двадцать лет, умерла от родов[126]. За нею через два дня умерла и новорождённая царевна.
Из Малороссии, с Дона, с Волги – отовсюду неутешительные известия. Малороссию раздирают смуты: там разом борются из-за власти семь гетманов – Многогрешный, Дорошенко, Ханенко, Суховиенко и Юрий Хмельницкий – и кровь льётся рекою.
Разин, после зверского убиения в Черкасске Сухово-Евдокимова, уже двигается с своими полками к Волге.
Вдоль всего среднего Поволжья волнуются татары и другие инородцы, которых поднимают против царских воевод Багай Кочюрентеев да Шелмеско Шевоев.
«А ещё бояре в думе назвали челобитье их непутёвым – и их же батоги бить велено нещадно», – вспоминает Алексей Михайлович свою оплошность, – «оплошка, точно оплошка».
И патриарх Никон, сидя в Ферапонтове в заточении, продолжает гневаться – не шлёт царю прощения…
«Сердитует святейший патриарх, сердитует… И протопоп Аввакум не шлёт с Пустозерска благословения»…
«Ох, быть беде, быть беде!» – сокрушается Алексей Михайлович.
И беда действительно надвигалась.
В начале мая Разин с своими толпищами уже приближался к Волге несколько выше Царицына. Бесконечная панорама этой многоводной реки всегда воодушевляла этого необыкновенного разбойника. Он ехал впереди своего войска на белом коне, которого прислал ему в подарок покойный гетман Брюховецкий.
При виде величественной реки, раскинувшей здесь свои воды по затонам и воложкам почти на необозримое пространство, Разин снял шапку точно перед святыней. Поснимала шапки и ватага его. Разин воскликнул:
– Здравствуй, Волга-матушка, река великая! Жаловала ты нас, сынов твоих допреж сево златом-серебром и всяким добром; чем-то теперь ты нас, Волга-матушка, пожалуешь?
Но в то же мгновенье он как будто вспомнил что-то и как-то загадочно посмотрел на своего есаула: в душе атамана что-то давно назревало против Ивашки Черноярца.
По Волге между тем двигалась его флотилия с пешею голытьбою. Вся Волга, казалось, стонала от песни, которая неслась над водою. Голытьба пела:
«Вниз по матушке по Волге»…[127]
В это время из соседнего оврага показалось несколько всадников. Передний из них на поднятой над головой пике держал какую-то бумагу.
Всадники эти при приближении Разина сошли с коней и поклонились до земли.
– Встаньте! кто вы? – спросил Разин, останавливая коня.
Всадники поднялись с земли. Это были, по-видимому, татары – всех человек пятнадцать. Впереди их были, как казалось, атаман и есаул: один худой и высокий, другой приземистый.
– Кто вы? – повторил Разин.
– Мы синбирские татаровя, мурзишки, батушка Степан Тимофеич: я – мурзишка Багай Кочюрентеев, а он – мурзишка Шелмеско Шевоев, – отвечал высокий татарин. – Мы к тебе, батушка Степан Тимофеич.
– С каким делом?
– С челамбитьям, батушка.
И Багай подал Разину бумагу. Разин передал её есаулу.
– Вычитай, – сказал он.
Ивашка Черноярец развернул бумагу и стал читать: «Славному и преславному атаману вольного войска донского, батюшке Степану Тимофеевичи, бьют челом и плачутся сибирские татаровя, а во всех их место Багай Кочюрентеев сын да Шелмеско Шевоев сын; жалоба нам, батюшка Степан Тимофеевич, на государевых воевод да на подъячих да на служилых людей; били мы, сироты твои, челом великому государю и плакались, что мы-де, сироты его государевы, его государеву пашню пашючи, лошадёнка покупали и животишка свои и достальные истощали, а за его государевою пашнею ходячи, одежонку всю придрали, и женишка и детишка испроели, и нынече, государь, помираем голодною смертию: а одежонка нам, государь, сиротам твоим государевым, купити не на што и нечим, и мы-де, государь, сироты твои государевы, погибаем нужною смертию, волочася с наготы и босоты. И за то челобитье нас, государь, батюшка Степан Тимофеевич, сирот твоих, указано бить батоги нещадно. Атаман государь, смилуйся, пожалуй».
Разин внимательно прослушал всё челобитье, и брови его сурово сдвинулись.
– Так за это челобитье вас и драли? – спросил он.
– За этам челамбитьям, батушка, наш войвод секил нас батогам нещадным, – отвечал смиренно Багай.
– Добро. Я и до вашего воеводы доберусь, – сказал Разин. – А теперь поезжайте домой и ждите меня, да и всем – и в Саратове, и в Самаре, и в Синбирске скажите, чтоб меня ждали! Я приду…
Татары усердно кланялись. В это время по дороге из Царицына ещё показались двое всадников. Разин тотчас узнал их: то были казаки, его лазутчики, которых он предварительно подослал в Царицын, чтоб они заранее предупредили в городе своих единомышленников о скором прибытии атамана с войском. Единомышленники должны были тайно, ночью, отворить городские ворота для незваных гостей.
Разин да и все казаки с удивлением заметили, что у одного из лазутчиков на седле сидел какой-то ребёнок, и казак-лазутчик бережно придерживал его рукой.
– Это что у тебя за проява? – спросил Разин.
– Да вот сам видишь, батюшка Степан Тимофеевич, – калмычонок, – отвечал казак, – девочка сиротка.
– Да где ты её добыл и зачем? – недоумевал Разин.
– Да вот видишь ли, атаман: повернули это мы ужо из Царицына – там тебя ждут не дождутся! коли смотрим – идёт навстреч нам калмычка с ребёнком на руках; Да как увидала нас – и ну улепётывать! – вспужалась нас должно быть. Я кричу этто: «стой! стой! не бойся!» А бежала она, дура, яром, да к Волге, – а яр-от крутой она возьми да и споткнись – и полетела вниз с кручи, да прямо в Волгу. Вода-то полая подошла к самой круче – глыбоко там – калмычка-ту и бултыхни в воду только пузыри пошли. А это пигалица как-то зацепилась за коренья барыни-ягоды застряла – орёт. Я и взял её, жаль крошку. Калмычка, должно думать, нищенка шла из Дербетевых Улусов в город побираться; а как увидала нас, ну, знамо, заячий дух напал – и бултых в воду: сказано – дура баба.
Маленькая калмычка, совсем голенькая, точно бронзовая, лет, может, двух или тёмного больше, во время этого рассказа доверчиво глядела на Разина и усердно жевала изюм, сама доставая его из пазухи своего спасителя, а спаситель этот захватил малую толику изюмцу в Царицыне у знакомого армянина. Встречая ласковый взгляд своей бородатой няньки, девочка весело улыбалась.
Разин также с доброю улыбкою глядел на чёрненькое, косоглазое и косматое существо, и в нём заговорило хорошее чувство: он вспомнил, что судьба не дала ему детей от его Дуни, с которою он давно расстался; но, быть может, она дала бы ему эту отраду в жизни от другой, от той…
Он как-то машинально поманил к себе маленькую калмычку, и она с улыбкой потянулась к нему, быть может, потому, что он был в богатом с золотными кистями кафтане. Он взял её и посадил к себе на седло, и девочка тотчас же занялась кистями.
Казаки с удивлением, а татары просто с умилением смотрели на эту невиданную сцену: страшный атаман с ребёнком на руках!
«Черт с младенцем!» – не одному казаку пришло на ум это присловье.
Но забавляться ребёнком не приходилось долго. Разин опять передал маленькую калмычку её спасителю.
– Куда ж мы её денем? – спросил он.
– Оставим у себя, атаман, – не бросать же её как котёнка, – отвечал казак. – Всё равно – матери у неё нету, а тащиться с нею до Дербетевых улусов – не рука, да и там оно, поди, с голоду околеет; а у нас, по крайности, забавочка будет.
– Ишь ты бабу в казацкий стан пущать! – улыбнулся есаул.
– Какая она баба? Козявка, одно слово – мразь.
Разин махнул рукой:
– Ну, ин пущай!
Но едва они двинулись вперёд, как справа, по возвышенному сырту, замелькали толпы народа – и пешие, и конные.
– Кому бы это быть? – удивился Разин. – Царские рати так не ходят; да это и не воеводская высылка, не разъезд.
И он тотчас же приказал казакам разведать – что там за люди. Несколько казаков поскакали по направлению к сырту. Издали видно было, как там, в неведомой толпе, при приближении казаков, стали поднимать на пиках шапки. Другие просто махали шапками и бросали их в воздух.
– Кажись, наш брат – вольная птица, – заметил Разин.
– Что-то гуторят, руками на нас показывают, – с своей стороны заметил есаул. – Не калмыки ли?
– Нет, не калмыки: ни колчанов, ни стрел – ничево таково не видать.
Теперь посланные скакали уже назад. Они видимо чему-то были рады.
– Ну, что за люди? – окликнул их Разин.
– Нашей станицы прибыло, батюшка Степан Тимофеевич! – кричали издали. – Васька-Ус бьёт тебе челом всею станицей[128]!
– А! Вася-Ус, – обрадовался Разин. – Слыхом слышали, видна птица по полёту! Что ж, милости просим нашей каши отведать: а уж заварить заварим! Он раньше меня варить начал.
– Раньше-то, раньше, – подтвердил Ивашка Черноярец, – да только каша его пожиже нашей будет.
– Кулиш, по-нашему, по-запорожски, – пояснил один казак из бывших запорожцев.
Скоро толпы Васьки-Уса стали сближаться с толпами Разина. Голытьба обнималась и целовалась с голытьбою и казаками. Шум, говор, возгласы, топот и ржание коней… картина становилась ещё внушительнее.
Сошлись и атаманы обоих толпищ. Васька-Ус, проникнутый уважением к славе Разина, хоть был и старше его и летами, и подвигами, первый сошёл с коня и снял шапку. Это был маленький, худенький человечек, из дворовых холопей, уже седой, с усами неровной величины: один ус у него выщипан по приказанию его вотчинника за то, что он, будучи доезжачим, раньше своего господина затравил в поле зайца. За этот ус Васька и мстил теперь всем боярам и вотчинникам, и за этот выщипанный ус он и получил свою кличку.
Разин тоже сошёл с коня, и оба атамана трижды поцеловались.
– Батюшка Степан Тимофеич! – поклонился Ус, – прими меня и мою голытьбу в твоё славное войско.
– Спасибо, Василей, а как по отчеству величать – не знаю, – отвечал Разин.
– Трофимов, – подсказал Ус.
– Спасибо, Василей Трофимыч!..
– А я с тобой, батюшка Степан Тимофеич, и в огонь, в воду.
– И на бояр? – улыбнулся Разин.
– О! да на этих супостатов я как с ковшом на брагу!
XXVIII. Смена часовых
Ночь перед Царицыным.
Полный диск луны и бледные звёзды показывают, что время давно перевалило за полночь. Стан Разина, обогнувший с трёх сторон городские стены, давно спит; только от времени до времени в ночном воздухе проносятся караульные оклики.
– Славен город Черкасской, – несётся с освещённого луною холма, что высится у обрыва над речкою Царицею.
– Славен город Кагальник! – отвечает ему голос с другого берега речки Царицы.
– Славен город Курмояр! – певуче заводит голос с теневой стороны предместья.
– Славен город Чиры!
– Славен город Цымла!
Это перекликаются часовые в стане Разина. Им вторит дружное кваканье лягушек, раздающееся в камышах да в осоке по берегу Царицы. Там же от времени до времени раздаётся глухой протяжный стон, наводящий страх в ночной тиши: но это стонет небольшая с длинною шеей водяная птица – бугай или выпь!
Безбрежная равнина водной поверхности Волги кое-где сверкает растопленным серебром.
Чудная весенняя ночь!
Разин лежит в своём атаманском намёте с открытыми глазами. Ему не спится, его томит какая-то глухая тоска. Как клочья громадной разодранной картины проносятся перед ним сцены, образы, видения, звуки из его прошлой бурной жизни: то пронесётся в душе отголосок давно забытой песни, то мелодия знакомого голоса, то милый образ, милое видение, – и опять мрак, или зарево пожара, или стон умирающих…
Но явственнее всего перед ним носится милый образ. В намёте у него темно, но он видит это милое личико, точно оно сходит откуда-то вместе с бледным светом месяца, проникающим в шатёр через отдернутую полу намёта. Он не может его забыть, не может отогнать от себя это видение… Отогнать! Но тогда что ж у него останется?..
Он старается прислушаться к окликам часовых, к ночным неясным звукам. Но среди этих неопределённых звуков слышится чей-то детский плач…
Нет, это сонное пение петуха в городе…
– Славен город Раздоры!
– Славен город Арчада!
На светлую полосу в намёте, освещённую месяцем, легла как будто прозрачная тень. Разин всматривается и видит, что эта тень приняла человеческие формы…
Что это? Кто это? Но тень всё явственнее и явственнее принимает человеческий облик…
Это она – Заира! Она нагибается над ним, и он слышит тихий укор её милого голоса: «Зачем ты это сделал? Я так любила тебя»…
– Славен город Курмояр!
– Славен город Кагальник!
Разин в испуге просыпается… Но и теперь его глаза продолжают видеть, и он ясно сознает это несколько мгновений: как лёгкая, прозрачная, точно дым от кадила, тень отошла за отдернутую полу намёта и исчезла в лунном свете. Ему стало жаль, что он проснулся и отогнал давно жданное видение. Если бы не эти оклики часовых, она осталась бы дольше с ним.
Он закрывает глаза. Он ждёт – может быть, повторится видение… Слышен какой-то свист со стороны Волги, что-то знакомое напоминает этот свист… Да, он вспоминал-вспоминал высокие камыши в заводях Каспийского моря, такую же ночь прошлого года и тихо качающийся с морской зыбью струг… Так же и тогда свистела эта ночная водяная птичка – это овчарик… Но тогда он не один прислушивался к свисту этой ночной птички…
Со стороны города опять доносится пение петуха. Это, должно быть, уже третьи петухи. Скоро должны прийти из города те, которые отопрут городские ворота. Но нет, до зари ещё далеко.
Не слыхать более окликов часовых. Да это и не нужно. Кто же осмелится напасть на спящий стан Разина? Да и кому нападать?
Слышится чей-то вздох, тихий, тихий, как вздох младенца…
Разин открыл глаза… Что это? Опять она! На лице её грустная улыбка… Он слышит опять её голос: «Зачем ты ему поверил? Он только хотел погубить меня… Он не хотел, чтоб я была твоя»…
– Кто он? – глухо спросил Разин и сам проснулся от своего голоса.
Но он теперь знал, кто он… Он и прежде это знал. Если бы не его наушничество, она бы и теперь была жива. Это сознание давно его мучило, и он уже давно терзался глухою ненавистью к своему есаулу. Он всему виною!
Разин встал и вышел из шатра. До утра ещё далеко.
– Славен город Раздоры!
– Славен город Арчада!
Это опять оклики часовых, но их самих не видать.
Разин обогнул угол своего просторного намёта и в тени, бросаемой им от месяца, увидел спящего есаула. Ивашка Черноярец лежал на разостланной бурке. В головах у него было седло, а руки подложены под голову. Он лежал лицом вверх, растянувшись во весь рост.
Разин вынул из-за пояса, из оправленных серебром и бирюзою ножен, длинный персидский нож и по самую рукоятку всадил его в грудь своего есаула, под самым левым сосцом.
Черноярец открыл глаза…
– Атаман! – с ужасом прошептал он.
Разин быстро повернул нож в груди своей жертвы и вынул.
– Это тебе за неё! – глухо произнёс он.
Убитый даже не шевельнулся больше.
Тщательно вытерев нож об бурку и вложив в ножны, Разин пошёл вдоль своего стана. Казалось, он прислушивался к ночным звукам. Кваканье лягушек умолкло, но вместо них в камышах Царицы заливалась очеретянка. По временам стонала выпь и насвистывал овчарик. На Волге, вправо от Царицына, длинная водная полоса сверкала серебром.
– Хто идёт? – послышался оклик часового.
– Атаман, – отвечал Разин.
– Пропуск?
– Кагальник.
Разин шёл дальше. Видны уже были очертания городских стен, и длинная чёрная тень тянулась от крепостной башни с каланчою.
– Славен город Москва! – глухо донеслось с каланчи.
– Славен город Ярославль!
– Славен город Астрахань!
Это перекликались часовые на стенах города. И Разину вдруг ясно представилось, как эти города, которые теперь славят часовые, будут его городами, особенно Москва. И он вспомнил маленькую келейку в монастыре у Николы на Угреше и Аввакума, прикованного к стене этой келейки. Бедно и сурово в келье, только солома шуршит под ногами узника. А там, в городе – какие палаты у бояр! какое убранство на их конях, сколько золота на их одежде! сколько соболей изведено на их шубы, на шапки! И этот город будет его городом! Он станет середи Москвы, на Лобном месте, станет и крикнет, как тогда обещал Аввакуму: «Слышишь, Москва! слышите, бояре!». И услышат этот голос во всей русской земле, за морем услышат!








