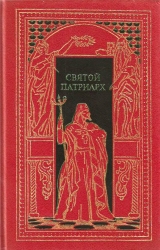
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)
– Стрельцы! – в ужасе проговорил царь.
– Стрельцы, надёжа-государь, – продолжал калика, – сотни их там понаметано, либо и тысщи, и на снястях-ту все висят стрельцы: што их там изнавешено, и сказать не умею! А на всём этом трупе сидит воронье, да орлы, да коршуны, и клюют те трупы, и дерутся промеж себя за добыч, и каркают, и клекочут, и тучею-хмарою кружат! Волосы ожили у меня на голове, надёжа-государь, дыбом встали! Мы стоим, смотрим, да только крестимся. А струги всё плывут тихо, всё плывут. И слышим мы, надёжа-государь, с тех стругов гласы человеческие: – «люди божьи! помолитесь об нас, грешных, – об рабе божьем Ларивоне, да об рабе божьем Панкрате: мы-де стрелецкие головы, посланы были с Казани с ратными людьми для обереженья низовых государевых городов, и супостат-вор Стенька над нами-де воровской промысл под Царицыном учинили и всю государеву рать, мало не до единого перебил вогненным смертным боем, а нас-де, Ларивона да Панкрата, оставил в живых для того: плыли б мы, Ларивон да Панкрат с мёртвою государевою ратью в Астракань на двух стругах, и поклонились бы астраканскому воеводе, князю Прозоровскому, мёртвою государевою ратью и сказали б воеводе, чтоб он скоро ждал к себе его, вора Стеньки, приходу. А мы-де, – говорят Ларивон да Панкрат, – прикованы к стругам чепью».
Как громом поразила всех эта страшная весть. Алексей Михайлович, бледный, с дрожащими губами, растерянно озирался. Симеон Полоцкий крестил и дул в лицо молодой Ординой-Нащокиной, которая лежала в обмоооке. Юная Нарышкина Наталья вся дрожала и плакала. Матвеев Артамон Сергеевич тоже растерялся. Одна царевна Софья, по-видимому, не растерялась: бледная, с плотно сжатыми губами, она подошла к отцу, который как-то беспомощно шептал: «злодеи, злодеи…»
– Батюшка, касатик! – взяла она его за руку. – Пойдём… созови сейчас думу… бояр всех, дьяков… За тебя станет вся русская земля – за тебя Бог…
И как бы в подкрепление мужественных слов юной царевны, калики тихо, молитвенно запели:
«Ой, у Бога великая сила…»
XXXII. Братские похороны и поход
Струги с мёртвой кладью достигли наконец Астрахани.
Этот страшный караван с мертвецами, расклёванными до костей хищными птицами, прежде всех увидели астраханские рыбаки, закидывавшие тони выше Астрахани. Как и калики перехожие, они не могли сначала понять, что такое плыло по Волге и почему над этим неведомым «что-то» тучами кружились и кричали птицы.
Но скоро и для них это «что-то» – что-то страшное – стало понятным, особенно когда струги подплыли ближе и с них послышались слабые человеческие голоса, скорее – два стона, исходившие от каждого струга. Приблизившись к ним в лодках, рыбаки, не смея взойти на страшные плавучие кладбища, от прикованных к рулям стрелецких голов узнали всю ужасную их историю. Невольные рулевые были чуть живы, но всё ещё настолько владели мускулами рук, что могли с трудом направлять свои струги по стержню реки: они боялись приткнуться где-либо к берегу или к острову, чтоб не погибнуть голодною смертью за недостатком корма. Когда же они плыли мимо Чёрного-Яра и Енотаевская, то жители как того, так и другого, узнав, что это за струги такие и какую они кладь везут, с ужасом уплывали от них к берегу.
Выслушав эту страшную историю, астраханские рыбаки тотчас же поспешили с ужасною вестью в город.
– Недаром тогда старый Илья Осипов из рыбного ряду сказывал, когда, летось, мы пымали тех ужастенных трёх осётров, что послали тады одново государю-царю, дрогово – святому владыке патриарху, а третьим поклонились батюшке Степану Тимофеичу, – недаром, чу, Осипов сказывал, что с самой той поры, как в Астракане у нас царила Маришка-безбожница с Ивашкою Заруцковым, таких осётров в Волге не видывали, – говорил один старый рыбак, поспешая с товарищами в город. – Должно и ноне будет государствовать над нами батюшка Степан Тимофеич.
– Дай-то Бог! – отозвался на это молодой пловец из затинщиков.
– Так-ту так, милый, може и будет он государствовать, да надолго ли? – возразил старый ловец. – У бояр-ту на Москве сила не махонька.
Рыбаки тотчас же поспешили к воеводскому подворью.
Князь Прозоровский в это время объезжал у себя на дворе прекрасного карабахского коня, присланного ему из Испагани в подарок персидским купцом Сэхамбетом в благодарность за то, что в прошлом году, когда Разин ограбил на Каспийском море купеческую персидскую бусу, вёзшую поминки шаха царю Алексею Михайловичу, и захватил в полон ехавшего на этой бусе сына Сэхамбета, князь Прозоровский своим влиянием на Разина, смягчённого тогда любовью к прекрасной Заире, способствовал выкупу из полона молодого перса.
Вместе с отцом упражнялся на дворе в верховой езде и старший сынишка князя, десятилетний княжич Степа, под руководством опытного наездника, пятидесятника конных стрельцов Фрола Дуры.
– Я теперь, батя, и свово тёзки не испужаюсь, Стеньки Разина, – хвастался мальчик, трепля гриву своего смирного киргизского конька.
– О! княжич! – улыбался его ментор, Фрол Дура. – Да Стенька теперь тебя сам испужается. Вон какой ты ратник – страх!
– Да, – улыбался и воевода, – по нынешним временам, сынок, нам нужны ратники: не ровен час – опять нагрянет чадушка.
В это время вошли на двор рыбаки.
Принесённая ими весть до того ошеломила всех, что воевода видимо растерялся. Он не ожидал, что в смирившемся было крамольнике опять проснулся кровожадный зверь. Послав тотчас же конного пятидесятника с этим известием к своему товарищу, к князю Семёну Ивановичу Львову, он приказал вместе с тем созвать к себе всех стрелецких голов, а сам поскакал к митрополиту Иосифу – просить его совета.
Едва он вошёл во владычные палаты, как под окнами раздались крики:
– Плывут! плывут струги с мертвецами!
Услыхав страшную весть, митрополит тотчас же поспешил в соборную церковь, приказав по пути немедленно собраться туда же и прочему духовенству.
Скоро от собора к Волге потянулась церковная процессия с крестами, иконами и хоругвями. Митрополит и прочее духовенство были облачены в чёрные ризы. За процессией повалил народ со всех концов города.
На Волге процессию ожидало потрясающее зрелище. Выехавшие с пристани навстречу стругам ловцы и ратные люди плавной службы буксировали к берегу страшные струги. Испуганные необычайным движением на берегу, вороны, сидевшие на трупах и кружившиеся в воздухе, оглашали воздух ещё более оглушительным карканьем. В толпе слышался плач женщин и детей, и весь этот плач и карканье хищных птиц покрывал похоронный звон всех астраханских церквей.
Наконец струги были прибуксированы к берегу и на борты их кинуты сходни. Когда стрельцы отковали прикованных к рулям голов и свели их под руки на землю, митрополит и священники, поднявшись по сходням и не вступая на струги, где за трупами негде было стать, начали общее отпевание на брани побиенных.
В воздухе почти не слышно было трупного запаха, потому что мертвецы обклёваны были птицею до костей, а от многих и кости были растащены и разнесены по степям орлами и коршунами.
За воплями женщин почти не слышно было погребальных гимнов, и только кадильный дым вился струйками в воздухе и таял, да от времени до времени с крепостных стен пушкари и затинщики пушечными выстрелами отдавали последнюю почесть погибшим в бою товарищам.
Между тем на кладбище Троицкого монастыря сторожа и боярские холопы, по распоряжению городового приказчика, копали несколько огромных ям для общих братских могил.
Из города в то же время выслано было на пристань несколько телег для перевозки трупов, и скоро началась страшная процессия перенесения их с стругов в телеги. Зрелище было потрясающее!
Но когда хор митрополичьих певчих вместе со всем духовенством возгласил стихиру Иоанна Дамаскина[135]: «плачу и рыдаю, внегда помышляю смерть» и когда в этом надрывающем душу пении слышались такие слова, как «вижу красоту твою, безобразную и бесславную, не имущую виду», или «како предаёмся тлению», то со всех сторон послышались глухие рыдания…
Плакал и князь Прозоровский. Никогда не мог он и подумать, чтобы когда-нибудь привелось ему видеть такое зрелище, или чтобы, отправляясь на воеводство в Астрахань, он мог ожидать, что ещё будет когда-либо плакать так, как в последний раз плакал, четыре года тому назад, в Москве, в Новодевичьем монастыре, когда там постригали, а ему казалось – хоронили его любимицу, юную дочку Наталеньку…
«Плачу и рыдаю» – стонало у него в душе, и он плакал, плакал, как бы предчувствуя, что через несколько дней и его самого будут стрельцы тащить такого же «безобразного, бесславного, не имущего виду» и бросят в общую могилу с сотнями таких же, как и он, «бесславных и обезображенных…».
И вот под заунывный, нестройный, но тем более удручающий душу перезвон колоколов всех астраханских церквей потянулся ряд телег с мертвецами к Троицкому кладбищу, – телега за телегой, по тряской и изрытой водороинами дороге, а трупы в лохмотьях, в красных, изодранных когтями и клювами орлов и коршунов стрелецких кафтанах, точно недобитые и недоеденные, подпрыгивали на этих водороинах и ещё более увеличивали тем ужас общей картины. За ними валил толпами народ, жадный до всякого рода зрелищ, даже до таких, каково было это…
Скоро на кладбище образовалось около десятка высоких земляных бугров.
А к вечеру – новое зрелище. За день воеводы и стрелецкие головы успели снарядить и вооружить до сорока больших морских стругов и посадить на них около трёх тысяч ратных людей – стрельцов и других служилых с князем Львовым во главе. Флотилия эта должна была идти навстречу Разину и истребить его «воровское толпище» до последнего человека.
С возгласами и песнями отплывали стрельцы от Астрахани. Чтобы показать свою удаль, стрельцы, едва отплыли от берега под прощальные выстрелы крепостных пушек, как тотчас же грянули хором любимую тогда всеми ратными людьми «весновую песню», которая в одном старинном сборнике записана была дословно ещё в 1619 году. Запевалой был Костка «гудошник», и он начал подголоском:
«Сотворил ты, Боже,
Да и небо-землю.
Сотворил же, Боже,
Весновую службу.
Не давай ты, Боже,
Зимовыя службы!»
С берега певцам махали шапками, ширинками – это бабы. На соседнем струге подхватили другим хором, низкими голосами:
«Зимовал служба —
Молодцам кручинно
Да сердцу надсадно.
Ино дай же, Боже,
Весновую службу:
Весновая служба —
Молодцам веселье,
А сердцу утеха».
– Любо! любо! – кричали стрельцы из вятичей и ветлужан. – Ай да понизовые! У нас так не сумеют голосом низы забрать.
А понизовые, поощряемые похвалами, наддавали верхними голосами с подголосками:
«А емлите, братцы,
Яровы весельца,
А сядемте, братцы,
В ветляны стружечки.
Да грянемте, братцы,
В Яровы весельца
Ино вниз по Волги…»
– Не вниз, братцы, а вверх! – поправил Костька «гудошник». – Вверх по Волге.
– Ино вверх – точно…
«Сотворил нам Боже,
Весновую службу»
[136]
.
Князь Львов, сидя под намётом на передовом струге и слушая эту песню, самодовольно улыбался: он видел, что его ратные люди с добрым духом и с «резвостью» идут против вора и злодея Стеньки.
Скоро флотилия князя Львова скрылась из глаз провожавших её астраханцев, а они всё стояли на берегу и прислушивались к молодецкому пению, всё более и более замиравшему вдали.
Флотилии этой, однако, не суждено было воротиться в Астрахань…
Что с нею сталось – это мы узнаем из последующих глав.
XXXIII. «Они там, а мы тут…»
Прошло несколько томительных дней ожидания возврата стрельцов с князем Львовым; но ни стрельцов, ни вестей никаких сверху не было.
Только однажды, на заре, знакомые нам ловцы, закинув тони несколько выше Астрахани, вместе с осётрами и белорыбицей вытащили к ужасу – несколько трупов. Закинули ещё – и опять утопленники!
Но когда хорошенько рассмотрели обезображенные и распухшие да притом изъеденные раками лица мертвецов, то хотя и с трудом, однако же, распознали в них тех стрелецких голов, сотников и дворян, которые отправились против Разина вместе с князем Львовым. Не осталось никакого сомнения, что и эту высылку, состоявшую почти из трёх тысяч стрельцов и других ратных людей, постигла та же участь, какую испытала под Царицыном прежняя высылка из Казани.
Астрахань, таким образом, должна была готовиться ко всему.
– Я давно знал, что так оно и выдет, – лукаво заметил, отпихивая подальше в воду веслом тело одного стрелецкого головы, тот молодой ловец из затинщиков, который охотно ожидал в Астрахань батюшку Степана Тимофеича.
– А ты почём, возгряк, знал про то? – спросил старик рыбак.
– Мне сказывал Костка гудошник, – отвечал малый, – мы-де, говорит, спевку сделали промеж себя и всем нашим головам да сотникам зальём за шкуру сала, штоб они напредки не заедали нашево кормовово да посощново жалованья.
Плывшие по Волге трупы этих голов да сотников были, наконец, усмотрены с берега и в Астрахани и выловлены. Не нашли между ними только князя Львова. Где он? что с ним?..
Ждать спасенья было неоткуда, а тем более из Москвы: не было более пути, по которому можно было бы тайно послать в Москву гонца с вестью о предстоявшей Астрахани гибели, потому что Волга была в руках Разина, а посылать через степь было бесполезно: там по всем направлениям рыскали калмыки, давно озлобленные против русских воевод за их грабежи и притеснения.
Оставалось одно – запереться в городе и укрепиться.
В тот же день совершён был крестный ход вокруг городских стен. Ход был особенно торжественный и внушительный: церковная святыня всех астраханских церквей, хоругви, кресты, горящие громадные свечи в массивных паникадилах – всё двигалось вокруг стен, а впереди всего этого шествовала величайшая святыня города – икона Божией Матери в драгоценном окладе. У каждых ворот шествие останавливалось и воздух оглашался молебствием и пением всех церковных хоров и всего духовенства. День был такой тихий, что свечи горели на воздухе и пламя их совсем не колебалось. Над процессией кружились стаи голубей, всполошённых церковным звоном и пением.
Вместе с процессией двигался весь город, особенно женское население. Во главе шествия, позади духовенства, шёл воевода и внимательным взором осматривал городские стены и ворота. Тут же шла и княгиня Прозоровская с двумя сыновьями. Старший мальчик шёл бодро, уверенно. Казалось, что он был убеждён в истине слов своего «коневого учителя» Фрола Дуры: Степан Разин «сам испужается своего тёзки», княжича Степана Прозоровского. Но младший сынишка воеводы, Сеня, был больше занят голубями, между которыми он искал своих любимых «турманов».
Однако не весь город участвовал в процессии. Если бы князь Прозоровский мог видеть и прислушиваться к таинственным перешёптываньям на базарах разных кучек холопей и посадских ободранцев, то он увидел бы в этом нечто зловещее…
А вечером, когда воевода обошёл все городские стены и башни, осмотрел пушки и боевые запасы, расставил по местам пушкарей, затинщиков и воротников, роздал стрельцам запасное оружие и приказал стрельчихам кипятить в котлах воду, – стрельчихи коварно между собой переглядывались…
– Ты, Дарьюшка, не больно-то перекипячивай воду…
– Знаю, меня не учить стать: не перекипячу, не впервой своих стрельчат купать в корытцах…
– Ха-ха-ха! вот сказала! – стрельчат купать…
– А то как же? Може и твой сокол полезет на стену, дак и ему кипятком очи заливать! А сподручнее тёпленькой водицей…
– Да они там и не полезут… А тут мы их сами за белы ручки востягнем на стену…
– Так, так: они там, а мы тут…
XXXIV. Разин в Астрахани
Над Астраханью спускаются сумерки.
Тихо над городом и над Волгою. И в городе тихо, как будто всё поснуло, а между тем никто и не думал спать. Тихо так, что даже слышится в темноте какой-то шёпот. Кое-где неслышно пробегают человеческие тени. Слышно даже, как у Волги, под учугами, соловей заливается…
– Не долго тебе, соловушко, петь, – говорит боярский сын, стоя на часах над Вознесенскими воротами. – До Петрова дня уж не далеко.
– И то правда, – тихо отвечает другой часовой, сидя там же «в запасе», – уж и кукушка, сказывают, галушкой подавилась, не кукует боле; и как овёс выкинет колос, дак и соловей потеряет голос.
При всеобщей тишине в воздухе, однако, проносятся иногда какие-то неопределённые звуки; но слух не может их уловить: не то жужжанье насекомых, не то шёпот прибрежных камышей с осокою.
По небу звёздочка прокатилась и сгасла…
– Што это – видишь?
– А што такое?.. а?.. где?
– Гляди, точно лес двигается и шевелится.
– Вижу, вижу… Это они!.. звони в колокол! бей сполох.
И вдруг в вечерней тишине раздался звон башенного колокола. За ним другой, третий – все башни заговорили.
В городе началась тревога. Послышались голоса со стен.
– Воры идут! к Вознесенским воротам!
Теперь ясно было видно, как к городу надвигались массы. В темноте можно было различить, что нападающие тащили к стенам лестницы.
Услыхав тревогу, князь Прозоровский быстро вышел на двор, где уже ожидал его осёдланный карабахский скакун, подаренный ему Сэхамбетом. Тут же на дворе суетливо готовились к бою дворяне, дети боярские, подьячие и стрелецкие головы.
Вложив ногу в стремя, князь приказал трубить.
– Трубачи! – крикнул он. – Трубить к Вознесенским воротам!
Он выехал со двора, за ним остальные служилые люди. Впереди бежали холопы с зажжёнными смоляными факелами и освещали путь.
Сойдя у Вознесенских ворот с коня, воевода поспешил на стену. От факелов мрак кругом ещё более сгустился, так что нельзя было отличить осаждающих. Что-то металось внизу, под стенами, слышны были голоса: «Давай лестницы!.. приставляй к стенам!.. дружно, атаманы-молодцы!»
– Лей кипяток на головы им, окаянным! – распоряжался воевода.
Послышался плеск воды со стен.
– Лей дружнее!.. не жалей кипятку! А внизу вдруг раздаётся хохот…
– Вода-то у вас, братцы, тёпленька! не замёрзла бы! – слышится снизу.
– И впрямь вода не горяча!.. Што за притча!.. Остыла что ли… – слышны голоса на стене.
Между тем на стене ближе к Троице творилось что-то необычайное. Там приставлен был сплошной ряд лестниц, и по ним быстро, но бесшумно взбирались на стену казаки и стрельцы.
Слышен был шёпот и сдержанный смех.
– Давай руку! так, так, влезай!
– Соколики! сюда! сюда! – слышались бабьи голоса. – Мы вас давно ждём.
Слышны поцелуи, радостный говор.
– А где батюшка Степан Тимофеевич?
– Уж он в городе… Город наш!
Астрахань взята была без выстрела. Оказалось, что всё втайне было подготовлено для приёма Разина и его войска. Согласники его составляли большую часть населения города: и посадские, и стрельцы, и холопы – все ждали его, как своего спасителя, милостивца, защиту от бояр, от приказных, от детей боярских и всякого начальства. Тот трёхтысячный отряд, который был отправлен против казаков с князем Львовым, сдался Разину без боя и потерял только своих голов и сотников, которых Разин приказал перебить и побросать в Волгу.
Князя Львова Разин велел оставить в живых и приказал ему ходить за маленькой калмычкой, за Марушкой, с которой казаки не хотели расстаться.
Когда казаки подошли к Астрахани на приступ, то уж они заранее знали, с которой стороны брать её: они показывали вид, что начнут штурмовать город с Вознесенских ворот, куда и направились все защитники злополучного города, а между тем приставили лестницы к стене там, где их всего менее могли ожидать. Но там ждали их свои – посадские люди, стрельцы и их жёны, а также холопы и базарная, и кабацкая голытьба: они-то и подавали руки осаждающим, когда их лестницы немного не доставали до верху стены. Стрельчихи же вместо кипятку налили в чаны, кадки и перерезы тёплой воды, в какой они своих детей купают.
В ночной темноте грянули вдруг выстрелы: это был знак, что город в руках у казаков.
Воевода, сбежав со стены, вскочил на своего Карабаха и помчался туда, где он слышал крики торжества. За ним ринулись дети боярские, дворяне и оставшиеся верными стрелецкие головы. Но их ждала там гибель: чернь и казаки бросились на них и всех перебили.
Костка гудошник, заметив воеводу, бросился на него с копьём.
– А! так я ж тебя ссажу с коня!
Копье вонзилось в живот воеводы, и князь Прозоровский свалился с своего великолепного Карабаха. Испуганный конь умчался, а стонущего воеводу какой-то сердобольный старик на своих плечах стащил в соборную церковь и там положил на ковёр.
Городские ворота между тем отворили, и вся масса разинцев двинулась в город и затопила площади и улицы.
Начались неистовства, о которых мы говорить не намерены…
Скажем только, что князь Прозоровский самим Разиным был столкнут с раската, и его защитник, Фрол Дура, изрублен казаками в куски…
* * *
Разин пробыл в Астрахани три недели, завёл в городе казацкие порядки и уничтожил посты – всем велел есть скоромное.
Сдав город Ваське-Усу, как своему наместнику, Разин накануне выступления в поход приказал привести к себе сыновей князя Прозоровского.
– Как зовут тебя? – спросил он старшего мальчика.
– Князь Степан, княж сын Семенов Прозоровский, – бойко отвечал мальчик.
– Мудрено что-то, – зло усмехнулся атаман, – и сам князь и княж сын, да ещё и Степан, мой тёзка, значит… Ладно… А боярином будешь?
– Буду, – отвечал мальчик.
– Ну, это ещё старуха надвое сказала, – снова усмехнулся Разин. – А в казаки хочешь?
– Нет, не хочу.
– Молодец, из тебя будет прок. А тебя как зовут? – обратился он к младшему.
– Сеней, – отвечал робко мальчик.
– Только-то? А тоже, поди, князь и княж сын… А боярином будешь? Высоко пойдёшь?
Мальчик молчал.
– Вот что, атаманы-молодцы, – обратился Разин к окружавшим его, – эти щенята высоко пойдут, как вырастут… Пущай же теперь пойдут повыше… только ногами кверху. Поняли? а? повесить их за ноги!
Двое из казаков распустили на себе кушаки, связали ноги юным Прозоровским, которые от страха не могли даже плакать, и подвесили их с раската… Тут только послышались крики несчастных детей… Личики их затекали кровью…
– Довольно! Тащи сюда щенят! Их подняли и развязали.
– Ну, тёзка, а теперь будешь боярином? Будешь вешать нашего брата? – спросил Разин старшего.
Мальчик плакал и молчал.
– Аспид будет, – заметил Разин, глядя на него. – Туда его – к отцу!
И казаки столкнули мальчика с раската…
– Ну, а этого малыша жаль, – сказал Разин. – А чтоб он не был боярином, всё-таки – выпороть его! Подымайте рубашонку.
Ребёнка тут же высекли ремнём, но слегка.
– Ну, теперь не будешь боярином, – гладя мальчика по головке, сказал Разин. – Сеченый – что за боярин! А теперь отвезите сеченого к матери.
Под раскатом кто-то шёл и пьяным голосом распевал:
«Поставлю я келью со дверью,
Стану я Богу молиться,
На красную-горку поститься,
Чтобы меня девки любили,
Крашоные яйца носили.
Или-или, или-или, или!
Крашоные яйца носили!»
– Да это никак поп Никифор? Ах, горемыка!
Это и был действительно царицынский соборный протопоп. После ужасной смерти дочери он пристал к казакам и с горя стал пить.
XXXV. С самим встретиться!..
Был уже сентябрь месяц на исходе.
Воин Афанасьевич Ордин-Нащокин, с успехом исполнив возложенное на него царём трудное поручение по сбору ратных людей с привятских и прикамских волостей, находился уже в Казани в распоряжении воеводы Борятинского и ожидал со дня на день выступления в поход, когда рано утром, сидя на берегу озера Булака, куда он ходил, чтобы размыкать свою тоску, к нему подошла старая цыганка и, вглядевшись в него, таинственно проговорила:
– Об чём закручинился, добрый молодец? Коли о том, что на Москве, так ту кручину я руками разведу, а коли о том, что случилось в Астрахани, – так и к той кручине я ума-разума приложу.
Воина поразил этот двойственный намёк цыганки.
– А ты почём знаешь о моей кручине? – спросил он.
– Чёрная птица всюду летала, всюду всё видала и добрым людям помогала: поможет и тебе чёрная птица, добрый молодец, – по-прежнему таинственно отвечала цыганка.
– Чем же она поможет мне?
– А кручину с сердца сымет, а замест кручины – радость положит; а та радость астраханской кручине сродни будет, а тебе, добрый молодец, вдвое сродни, – всё так же загадочно отвечала цыганка.
Суеверный страх внушали Воину эти слова – он был сын своего века и верил в чудесное, как Аввакум верил тому, что он беса из-под печки выгнал и скуфьёй бил.
– Что ж ты судьбу мою покажешь мне? – спросил он нерешительно.
– Покажу, – отвечала цыганка. – Ты видишь в озере вон то белое оболочко?
Она показала на воду.
– Вижу, – отвечал Воин.
– Так я и судьбу твою вижу из глаз твоих: вон Арбат, а вон Веницея град – вон, вон – с оболочкой всё уплыло, и вот новая судьба плывёт…
Воин вскочил с места: ему казалось, что он видит сон.
– Почему ж Веницея? – спросил он.
– Не знаю, так мне чёрная птица говорит… А слышишь, как кто-то «не белы снежки» поёт и плачет? Воин испуганно перекрестился…
– Чур! чур! сгинь-пропади!
– Полно, добрый молодец, не чурайся! – улыбнулась цыганка. – Ты думаешь, что я бес? Нет, на мне крест – видишь? – и она показала висевший у неё на груди крест.
Воин чувствовал, что им овладевает какая-то таинственная сила, и сила эта исходит от этой неведомой женщины. Но в то же время рассудок говорил ему, что из него хотят что-то выпытать – для чего? для кого?
Вследствие этого он сам решился выпытать из цыганки, что она действительно знает о нём.
– А ты знаешь, кто я? – спросил он.
– Знаю, кто ты был, и узнаю, кто ты есть, – был уклончивый ответ.
– Кто ж я был? – спросил Воин.
Цыганка посмотрела ему в глаза, потом стала глядеть на воду.
– Вижу: столовая изба – в ней царь сидит и бояре… Какие хохлатые люди! – большие… царску руку целуют… А после них – тот, что на тебя похож, тож руку у царя целует… На Арбате в саду ночью соловей заливается, а красная девица в слезах потопает… Сгинул добрый молодец, пошёл искать за море живой и мёртвой воды… Не нашёл живой воды – кручину нашёл… Томится добрый молодец, что птица в клетке: и дверцы отворены, и крылья есть, да летать страшно – коршуны кружат в небе… И запела пташечка: «не белы-то снежки…» Плачется добрый молодец на свою горькую судьбину…
Цыганка остановилась, а Воин, казалось, всё ещё слушал её: перед ним проходила вся его жизнь. Но в то же время он ясно видел, что эта женщина действительно многое знает: несомненно, что ей известны главные моменты из последних лет его жизни. Но откуда она могла узнать всё то, что известно только ему одному да его жене? И он решился выпытать, что ещё ей известно.
– Хорошо говорит тебе твоя чёрная птица, – сказал он после небольшого раздумья. – А што она ещё скажет тебе?
– Вижу, вижу, – заговорила она снова таинственно, – вон опять плывёт оболочко в воде, и затем за оболочком летит из-за моря пташка… Откуда ни возьмись коршуны, и пымали бедную пташку… Опять пташка в полону… Это не пташка, а добрый молодец в полону у польских людей… Польские люди спят, а слепые люди выкрадывают добра молодца, и добрый молодец очутился у хохлатых людей… Над Москвою оболочко… В Новодевичьем монастыре всенощная, и добрый молодец там ищет красну девицу, а во место красной девицы – чёрная черница!
Цыганка вдруг замолчала, и, казалось, собиралась совсем уходить.
– Ну, что ж дальше было с добрым молодцем и с черничкой? – спросил с улыбкой Воин.
– Што было – сам знаешь, – неохотно, по-видимому, отвечала цыганка, – а вот што было:
«Как и курочка бычка родила,
Поросёночек яичко снёс,
А черничка да сынка привела»…
Воин в волнении схватил её за руку.
– Так это правда?.. У меня сын родился?.. Сказывай?
Но цыганка вдруг вырвалась и побежала берегом Булака в город.
– Куда ж ты? Погоди! – кричал ей вслед Воин. – Возьми денег за труд.
– Черной птице твоей казны не надо! – не оборачиваясь, отвечала цыганка и скрылась.
В странном смущении остался на берегу Булака Воин. Что от него нужно было этой цыганке? Несомненно – она из Москвы и кем-нибудь подослана. Но кем? От кого она могла узнать такие подробности об его жизни? Она сказала, что снимет с его сердца кручину, а вместо кручины даст ему радость. И эту радость она поведала ему: она прямо сказала, что та, которая была черничкой, привела ему сына. Неужели это правда? А они с женой почти четыре года кручинились, что у них нет детей. Его Наталья думала, что неплодием наказал её Бог за побег из монастыря. И вот она теперь мать… Ясно, что цыганка ею подослана. Но отчего ж она этого не сказала прямо? Отчего Наталья не уведомила его о себе? Ведь почти четыре месяца, как он с нею расстался, а она ничем не дала о себе знать. Да и где было искать его, когда он мыкался всё лето по Вятке да по Каме?
Да и Бог знает, когда ещё им придётся свидеться. Вон какой пожар распустили по всей русской земле! С Дону началось, с какого-то кабака, а вон куда зарево хватает – до Москвы до самой, до державного места! Астрахань, Царицын, Саратов, Самара – вся низовая сторона, всё в огне. И полымя всё дальше и всё шире захватывает – до Белого моря дошло, до Соловок, до Пустозерска; Аввакума-де из земляной тюрьмы выручать пошли, патриарха Никона из Ферапонтова вывести хотят…
А какие «прелестныя» грамоты рассылает вор по всему московскому государству! Хана крымского с ордами зовёт на Русь, персидского шаха в братья себе прочит, в Запорожье его воры мутят… Теперь все языки поднимаются – татарва, черемиса, мордва, чуваши… Нижний обложили…
Такие невесёлые мысли бродили в голове Воина, когда он, после встречи с цыганкой, возвращался от Булака.
А тестя, князя Прозоровского, не воротить уж к жизни. А знает ли об этом Наталья? Дошло ли до неё, что отца её уже нет на свете? Снизу, говорят, нет к Москве ни проходу, ни проезду: всюду пожар и кровь.
В тихом, ясном осеннем воздухе стелятся по небу белые нити паутины… Вёдро, значит, ещё долго постоит… Но вон и гуси длинною вереницею тянутся уж на тёплые воды, за море…
Воин грустно покачал головой: ему вспомнилось его мыканье по белу свету, там, в заморщине… А тут он мыкался по Вятке да по Каме… дикая, бедная сторона, не то что там: какие города, сёла! а здесь – одна беднота, голод… Вот голодные люди и идут добывать себе хлеба либо смерти: им всё равно помирать голодною смертью с наготы да с босоты.
«Женишка и детишка испроели» – правда, правда: Воин сам всё это видел… Он всё это доложит великому государю, когда Бог живым донесёт его до Москвы. А там его ждёт сынок, Наталья, – да дождутся ли…
– А! Воин Афанасьич! здравствуй на многая лета – до конца века!
– Спасибо, Афанасий Ивлич, как твоё здоровье?
– Сам себе дивуюсь, как ещё на ногах Бог держит.
– Да, правда, Афанасий Ивлич, кручинно тебе было с этою тяготою на Вятке: шутка ли! сто стругов снарядил в такую пору, когда все в нетех. Ну, да слава Богу, за тобой государево дело не стало.








