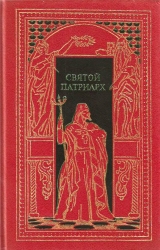
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
Аввакум стоял перед ним как очарованный и всё крестил его.
– Ох, сыночек мой богоданный! Степанушко мой светик! – шептал он со слезами на глазах.
Они долго ещё беседовали, и Аввакум со всею пылкостью, на какую только он был способен, с неудержимою страстностью своего кипучего темперамента изобразил такую потрясающую картину смутного состояния умов в тогдашней московской Руси, что в пылкой голове Разина созрел кровавый план – завести новые порядки на Руси, хотя бы для этого пришлось бродить по колена в крови.
– Будь благонадёжен, святой отец, – сказал он с свойственною ему энергиею, – мы положим конец господству притеснителей.
– Как же ты это сделаешь, чадо моё богоданное? – спросил Аввакум.
– Мы начнём с Дона, Яика и с Волги: тех, что голодают и плачут, больше, чем тех, что объедаются и радуются. Все голодные за мной пойдут, только надо дать им голову. А головой той для них буду я, Степан Тимофеев, сын Разин. Жди же меня, отче святый!
– Буду ждать, буду ждать, чадо моё милое, ежели до той поры не сожгут меня в срубе, – говорил фанатик в умилении, обнимая и целуя своего страшного гостя.
Разин ушёл, а Аввакум долго стоял на коленях и молился, звеня цепью.
VII. «За куклой – жених забыт»!..
Миновало лето. Прошло и около половины зимы 1664 года, и о молодом, пропавшем без вести Ордине-Нащокине уже и забывать стали. Не забывали о нём только отец несчастного да царь Алексей Михайлович. Не могла забыть и та юная боярышня, с которой он так грустно простился накануне рокового отъезда из Москвы.
Это была единственная дочь боярина, князя Семена Васильевича Прозоровского[81], шестнадцатилетняя красавица Наталья. Хотя она и оправилась несколько после постигшего её удара и тяжкой болезни – молодость взяла своё, однако она в душе чувствовала, что молодая жизнь её разбита. Куда девалась её живость, неукротимая весёлость! Правда, её похудевшее, томно-задумчивое личико стало ещё миловиднее, ещё прелестнее; но при взгляде на неё всем, знавшим и не знавшим её прежде, почему-то думалось, что это милое создание не от мира сего, что такие не живут среди людей и место их среди ангелов светлых.
Отец, боготворивший её, хотя угадывал сердцем, какое страдание подтачивает эту молодую жизнь, но он слишком уважал святость её чувства и с грустью молчал, будучи уверен, что всесильная молодость всё победит, что богатства молодости так неисчислимы, так неисчерпаемы, что их никакая сила, кроме смерти, не ограбит, даже не умалит.
Девушка тоже молчала. Чувство её и её горе были слишком святы для неё, чтобы в эту святыню мог заглянуть чей бы то ни было взор, даже взор отца или матери.
Однажды, за несколько дней перед Рождеством, отец, желая её развлечь, накупил ей очень много подарков и разных нарядов, самых изящных, самых дорогих, какие только можно было найти в Москве. Девушка горячо благодарила отца, целовала его руки, голову, лицо, обнимала его, но тут же не выдержала и расплакалась, горько-горько расплакалась.
– О чём ты, дитятко моё ненаглядное, радость моя единая, о чём же? – испугался и растерялся злополучный отец.
– Батюшка! милый мой! родной мой! – плакала она, обливая слезами щёки растерявшегося князя. – Знаешь, мой дорогой, о чём я хочу просить тебя?
– О чём, моё дитятко золотое, солнышко моё! Проси – всё для тебя сделаю!
– Батюшка! светик мой! отдай меня в монастырь.
– В монастырь! Что с тобой, моя ягодка? моё дитя! утеха моя!
– Да, мой родной, отдай: я хочу принять ангельский чин, не жилица я на миру, я хочу быть Христовой невестой.
И несчастная разрыдалась пуще прежнего: слово «невеста» точно ножом её по сердцу полоснуло.
– Да Господь же с тобой, чистая моя голубица! Господь с тобой, сокровище моё! – утешал её отец. – Обдумай своё хотение – пощади и меня, старика: на кого ты оставишь меня? С кем я буду доживать свой век, с кем разделю я моё одинокое старчество? Для кого мои добра, мои богачества?[82]
И он сам горько заплакал, обхватив руками белокурую головку дочери, как бы боясь, что вот сейчас-сейчас она уйдёт от него, улетит на крыльях ангела.
– Хоть погоди малость, поживи со мной до весны, дай мне одуматься, с государем переговорить: он же об тебе спрашивал… ты так ему полюбилась… он часто видел тебя в Успенском, как ты молилась там и плакала этими днями. И царевнушка Софья в тебе души не чает: она просила привезти тебя в собор на «пещное действо»[83]. Поедем, моё золото, а там подумаем, потолкуем: может… Государь спосылает гонцов в Польшу… может. Бог даст… ещё не верно…
Он не договорил, боясь, что зашёл слишком далеко. Он сам хорошо понимал, что в доверчивое сердце своей любимицы он забрасывает напрасную надежду; как и все в Москве, он знал, что молодого Ордина-Нащокина уже не воскресить; но ему во что бы то ни стало хотелось подольше удержать дочь от рокового решения… «Молодо-зелено, перегорит, а там ещё свежее расцветёт», – думалось ему, и он давал понять девушке, что он что-то знает, чего-то – а чего именно, она сама догадается – он ждёт, что им-де с царём что-то известно, а что – пусть сама соображает. Он слепо верил во всемогущество молодости и времени: всё переживается человеком, всякие душевные раны, даже, по-видимому, смертельные – исцеляет время. Разве он думал, что переживёт свою Аннушку, мать этой самой девочки? А пережил. Сколько раз, когда она, такая молоденькая да хрупкенькая, умерла у него на руках и он свёз её в Новодевичий на погост, – сколько раз он пытался наложить на себя руки! Так не попустил: не попустил вот этот невинный ангелочек, вот эта самая Наталенька – вся в мать! Наталенька, что теперь тихо плачет у него на плече. Её было жаль кинуть одну на белом свете, её, этого чистого ангелочка, и он остался жить для неё. И смертельная его рана зажила, закрылась с годами, хоть по временам и саднит, – ох, как саднит! Переживёт и она своё девичье великое горе, заживёт и её кровавая рана – заживёт, Бог милостив.
– Вот ужо повезу тебя, дитятко, на «пещное действо», – говорил он, лаская всхлипывавшую у него на плече девушку. – А там с государем перемолвлюсь о вестях некиих… кубыть, надо надеяться… а Афанасий Лаврентьич (он знал, что девочка понимает, о ком он говорит) – и Афанасий Лаврентьич, кубыть, повеселяе стал малость… Бог милостив, не оставит…
Он чувствовал, как при этих словах у него на груди, под шитою шелками тонкою срачицею, колотилось сердце его девочки.
– А разве послы наши воротились с польского рубежа? – робко спросила она.
– Воротились, дитятко.
– И Афанасий Лаврентьич?
– И он, золото моё… Сказываю тебе – кубыть, веселие маленечко стал… Вестимо, Бог его, горюна, не оставит: добер уже зело человек.
Всё это он выдумал. Ничего весёлого он не заметил в старике Ордине-Нащокине. Видел он его в Успенском соборе, как тот служил панихиду по сыне и плакал. Вот всё, что он заметил. Но ему нужно было во что бы то ни стало удержать дочь на краю пропасти, к которой влекло её, её молодое чувство, её разбитая любовь и отчаяние.
– Все вот гонцов ждут из Польши – позамешкались они, – на что-то намекал он.
– А далеко, батюшка, эта Польша – Аршав-город? – спрашивала девушка, переставая плакать и отирая слёзы шёлковою ширинкой.
– Варшава, дитятко, а не Аршав, – поправлял он (тогда наши боярышни в гимназиях не учились), – а далеконько-таки, правда, эта Варшава.
– И там все еретички живут, как наша Маришка-безбожница?
– По-нашему оне еретички, милая, а всё ж оне христианского закону, токмо латынской, папежской веры.
– Сказывают – все красавицы?
– Не все красавицы, милая, – люди как люди.
Он знал, к чему она гнёт; догадывался, что у неё на сердчишке копошилось, но показывал вид, что ни о чём не догадывается.
– А как у них, батюшка, венчаются? С родительского благословения?
– Вестимо, дитятко. Где ж это видано, чтоб без родительского благословения что ни на есть доброе чинилось – упаси Бог! А который человек делает что без родительского благословения, и от того человека сам Господь отвернётся.
Мало-помалу девушка успокоилась, и они решили ехать в Успенский собор на «пещное действо».
«Пещное действо» это в древней Руси был особый церковный обряд, не сохранившийся до нашего времени. Он состоял в том, что за несколько дней до праздника Рождества Христова, и обыкновенно в последнее воскресенье, во время заутрени, в церкви, в присутствии патриарха и царя, если служба шла в Успенском соборе, изображалась в лицах, «лицедейно», известная библейская история о трёх благочестивых отроках – Анании, Азарии и Мисаиле[84], посаженных в горящую печь по велению халдейского царя за то, что отроки не хотели поклониться его идолам.
Для этого, по распоряжению соборного ключаря, убирали в соборе большое паникадило, что над амвоном, принимали и самый амвон, а на его место ставили «халдейскую пещь». Это был большой полукруглый шкаф без крыши, на подмостке и с боковым входом. Стены «халдейской пещи» разделены были, по числу отроков, на три части или внутренние стойла, украшенные резьбою, позолотою и приличными «пещному действу» изображениями. Около «пещи» ставились железные «шандалы» с вставленными в них витыми свечами.
«Пещное действо» начиналось обыкновенно с вечерни. Это было нечто вроде увертюры или пролога к самому «действу». Начинали благовестом в большой колокол, и благовест отличался особенной торжественностью: он продолжался целый час. Москва вся спешила на это удивительное зрелище, заменявшее ей и наши театры, и концерты, и наши оперы с оперетками, балеты и феерии. Шествовал на это зрелище и царь с своим семейством и с боярами.
Собственно действующих лиц полагалось шестеро, не считая самого патриарха, сослужащего ему духовенства, поддъяков или иподиаконов и двух хоров певчих: это были– «отроческий учитель», три «отрока» – самые юные и красивые мальчики из детей белого соборного духовенства, и два «халдея».
Когда Прозоровские, отец и дочь, приехали в собор и вошли в храм, «пещное действо» только что начиналось. Царь и царица уже восседали на державном месте, а около «государя» светилось детским любопытством оживлённое личико его любимицы, царевны Софьюшки. Она с необыкновенным интересом наблюдала за всем, что происходило в соборе, всё видела, всё замечала, почти всех знала и поминутно, хотя незаметно, дёргала отца то за рукав, то за полу одежды, и передавала ему свои наблюдения, замечания, или спрашивала о чём-либо.
Когда вошли Прозоровские, она, «непоседа-царевна», не преминула толкнуть отца. Царь заметил Прозоровских и ласково поглядел на бледное, задумчивое, но прелестное личико княжны. Она заметила, заметила и сочувственно остановившийся на ней взгляд юной царевны – и слабый румянец окрасил её матовые, нежные щёчки.
Собор горел тысячами огней, которые, отражаясь в золотых и серебряных окладах икон, на лампадах и паникадилах, наконец – на золотых и парчовых ризах духовенства, превращали храм в какое-то волшебное святилище. «Пещь», освещаемая громадными витыми свечами в массивных «шандалах», смотрела чем-то зловещим.
Вдруг весь собор охватило какое-то трепетное волнение: все как бы вздрогнули и, оглядываясь ко входу в трапезу, чего-то ожидали.
Это начиналось шествие – начало «действа». Это шествовал сам святитель, блюститель патриаршего престола, ростовский митрополит Иона[85] (патриарх Никон, после неудачной попытки 19 декабря воротить своё значение, предавался в этот час буйному негодованию в своём Воскресенском монастыре). Впереди святителя шествовали «отроки» с зажжёнными свечами. Они были одеты в белые стихари, и юные, розовые личики их осенялись блестящими венцами: что-то было в высшей степени умилительное в этих полудетских венчанных головках.
По бокам «отроков» шли «халдеи» в своих «халдейских одеждах»: они были в шлемах, с огромными трубками, в которые была вложена «плавучая трава», со свечами и пальмовыми ветками.
Процессия двигалась дальше по собору между двух сплошных стен зрителей, напутствуемая тысячами горящих любопытством, тревогой и умилением глаз.
Князь Прозоровский украдкой наблюдал за дочерью. Он видел, что глаза её блестят, нежные щёчки рдеют румянцем. Она была вся зрение. Он глянул на державное место – на царицу, на юную царевну. И у них на лицах такое же оживление и восторг.
«Ох, женщины, женщины! – думалось ему. Вы – до старости дети: дай вам куклу, игрушку, действо – и вы всё забыли… за куклою – жених забыт!..»
Святитель вошёл в алтарь. За ним вошли и «отроки», только северными дверями.
Халдеи остались в трапезе.
Началось пение поддьяков, к которому присоединились свежие, звонкие голоса «отроков».
VIII. «Пещное действо» [86]
Собственно «пещное действо» совершалось уже после полуночи, в заутрени, за шесть часов до рассвета.
Внутренность собора ещё ярче, чем во время вечерни, горит тысячами огней. Царская семья опять на державном месте, но более торжественно разодетая. Духовенство и святитель ещё в более пышных ризах.
И Прозоровские, князь и юная княжна, тоже на своих местах. Только у последней глазки немножко заплаканы: «кукла» ненадолго утешила бедную. В молодой душе засело что-то более могучее и оттеснило собой весь остальной мир. Она думает о гонцах из Польши, о последнем весеннем вечере, когда так безумно пел соловей в кустах. Отец видит это и страдает.
Предшествуемый «отроками» со свечами и «халдеями» с пальмовыми ветвями, святитель опять проходит между стенами молящихся и входит в алтарь. И «отроки» входят туда же.
Утренняя служба началась. Хоры певчих с особенною торжественностью и силой исполняли каноны. Собор гремел богатыми, могучими голосами, которые всегда так любила Москва.
Во время пения седьмого канона, где, как известно, упоминаются «три отрока», когда хор грянул – «Отроци богомудрии», и когда ирмосы и причеты чередовались по клиросам, на иконостасное возвышение выступил «отроческий учитель» и сотворил по три земных поклона перед местными иконами.
Затем, подойдя и поклонившись святителю Ионе, восседавшему на возвышении против «пещи» в сонме соборного духовенства, возгласил:
– Благослови, владыко, отроков на уреченное место предпоставити!
Святитель поблагословил его «по главе» и, с своей стороны, возгласил:
– Благословен Бог наш, изволивый тако!
«Отроки» в это время стояли в стороне, лицом к святителю и ко всему собору молящихся.
– Бедненькие! – не вытерпела царевна Софья, вся превратившаяся в зрение.
«Учитель» отошёл к «отрокам», обвязал их по шеям убрусами, и, когда святитель сделал соответственный знак рукою, передал их на жертву «халдеям».
«Халдеи», взяв «отроков» за концы убрусов, повели их к «пещи»: один «халдей» шёл впереди, ведя первого «отрока», за ним два остальные, держась руками друг за друга, а другой «халдей» позади «отроков».
Вот, наконец, «отроков» привели к «пещи».
– Дети царёвы! – громко возгласил первый «халдей», указывая пальмовою веткой на «пещь». – Видите ли сию пещь, огнём горящу и вельми распаляему!
– Сия пещь, – пояснял другой «халдей», – уготовася вам на мучение.
«Отрок», изображавший собою лицо Анании, гордо выпрямился и сказал:
– Видим мы пещь сию, но не ужасаемся ея: есть бо Бог наш на небеси, Ему же мы служим, – той силён изъяти нас от пещи сия!
– И от рук ваших избавит нас! – повторил за ним «второй» «отрок», изображавший Азарию.
– А сия пещь будет не нам на мучение, но вам на обличение! – с силою и твёрдостью заканчивал Мисаил.
– Вот так молодцы отроки! – вырвалось у царевны Софьи. – Не убоялись пещи огненной.
Она сказала это так громко, что даже святитель Иона улыбнулся и многие обернулись к державному месту. Софья сидела вся красная, и мать укоризненно качала ей головой.
Между тем протодиакон, стоя в царских вратах, зажигал «отроческия свечи», а «отроки», готовясь к мучению, безбоязненно пели:
«И потщимся на помощь…»
Свечи зажжены, пение отроков окончено. Тогда протодиакон с зажжёнными свечами направился к святителю и вручил ему свечи.
Затем «отроки» поочерёдно подходили к святителю и, получив от него по свече, кланялись и целовали его руку.
Тогда «учитель» развязывал каждого из «отроков», и святитель благословлял их на мучение.
Выходили затем «халдеи» и вели такой разговор!
– Товарищ!
– Чего?
– Это дети царёвы?
– Царёвы.
– Нашего царя повеления не слушают?
– Не слушают.
– А златому телу не поклоняются?
– Не поклоняются.
– И мы вкинем их в печь?
– И начнём их жечь!
– Ах, злые, гадкие мучители! – опять вырвалось у юной царевны! но она, спохватившись, сама зажала себе рот рукой.
Тогда «халдеи» взяли под руки Ананию и втолкнули в «пещь».
– А ты, Азария, чево стал? – обращались они ко второму «отроку». – И тебе у нас то же будет.
Брали затем и Азарию и также толкали в «пещь». Потом и Мисаила ввергли к братьям на мучение.
Едва «отроки» ввергнуты были в «пещь», как выходил очередной звонарь с горном, наполненным горящими угольями, и ставил его под пещь. Протодиакон же возглашал:
– Благословен еси Господи Боже отец наших! Хвально и прославлено имя твоё во веки!
«Отроки» повторяли за протодиаконом этот стих, и «халдеи», ходя около печи со свечами, пальмовыми ветвями и трубками, бросали из трубок «плавучую траву» и махали пальмовыми ветвями, как бы раздувая огонь.
В это время протодиакон читал «песнь отроков».
– И прави путие твои, и судьбы истины сотворил еси!
Чтение протодиакона поддъяки сопровождали пением, которое так оживляло и разнообразило оригинальное «пещное действо».
Прозоровский украдкой взглянул в это время на дочь и увидел, что его «девочка опять нашла свою куклу». Это его успокоило.
– Ты не притомилась, девынька? – шепнул он ей.
– Нет, батюшка, – таково хорошо действо! – был ответ и ласковый взгляд ясных глаз.
Между тем протодиакон возглашал:
– И распаляшеся пламень над пещию!
А «отроки» как бы подкрепляли его возглашение:
– Яже обрете о пещи халдейстей!
В это время выступал из сонма духовенства соборный ключарь и подходил к священнику под благословение.
– Благослови, отче, ангела спущати в пещь.
Священник благословлял его, а диаконы брали у «халдеев» трубки с «плавучею травою» и огнём. Протодиакон же громогласно возглашал:
– Ангел же Господень сниде купно со Азариною чадию в пещь, яко дух хладен и шумящ!
В этот момент сверху появляется ангел с крылами, со свечою в руке и с громом спускается в «пещь».
При виде с громом спускающегося ангела «халдеи», которые очень высоко держали пальмовые ветки, разом попадали, а дьяконы опаляли их свечами.
Но скоро «халдеи» опомнились от ужаса, но ещё боялись подняться.
– Товарищ! – заговорил первый «халдей».
– Чево? – спросил второй.
– Видишь?
– Вижу.
– Было три, а стало четыре.
– Грозен и страшен зело, образом уподобися Сыну Божию.
«Отроки» же между тем ухватились за ангела – два за крылья, а один за левую, конечно, босую ногу. Затем ангел стал подниматься вверх вместе с «отроками», а потом сбрасывал их в «пещь» обратно.
Протодиакон снова читал «песнь отроков»; «отроки» тоже опять пели в «пещи», им вторили дьяки правого, потом левого клироса.
«Халдеи» между тем поднялись с полу, зажгли свои свечи и стояли уничтоженные, с поникшими головами. Они были посрамлены.
А с клиросов неслось стройное пение«…благословите, трие отроцы!»
Ангел снова спускался в «пещь» «с громом и трясением», а «халдеи» в ужасе падали на колени.
Наконец, ангел совсем улетал, и тогда «халдеи», ободрённые этим, подходили к «пещи», отворяли её, в удивлении стояли без шлемов, давно валявшихся на полу, и вели такой разговор:
– Анания! гряди вон из пещи!
– Чево стал? – говорил второй «халдей».
– Поворачивайся! не имет вас ни огонь, ни солома, ни смола, ни сера.
– Мы чаяли – вас сожгли, а мы сами сгорели!
Тогда «халдеи» сами брали «отроков» под руки, выводили из «пещи» одного за другим, снова надевали на себя шлемы, брали в руки свои трубки с «плавучею травой» и огнём и становились по обе стороны «отроков».
Затем протодиакон возглашал многолетие царю, всему царствующему дому и властям.
После славословия протодиакон вместе с «отроками» входил в «пещь» и читал там евангелие.
Так кончалось «пещное действо».
Прозоровские возвращались домой, когда было ещё совсем темно. Свет от факелов и фонарей, сопровождавших кареты и пешеходов, возвращавшихся из собора по домам, освещал иногда внутренность кареты Прозоровских и бледное личико княжны. Она сидела с закрытыми глазами, и отец думал, что она, утомлённая продолжительной службой, дремлет.
– Батюшка! – вдруг произнесла она. – Ты так и не говорил с государем.
Он даже вздрогнул от неожиданности.
– Нету, дитятко, – отвечал он. – Когда же было? действо шло… Вот ужо – на смотру.
Девушка опять закрыла глаза. Факелы опять по временам освещали её бледное грустное личико.
«Оо-хо-хо! – думалось Прозоровскому. – Девочка опять потеряла куклу».
– А смотр государев рано будет? – снова услыхал он вопрос.
– Рано, ласточка, ты ещё почивать будешь. «Нет, тут не куклой пахнет… Оо-хо-хо!»
IX. Беглец Воин в Венеции
Князь Прозоровский напрасно, однако, тешил себя надеждою, что всесильное время и молодость, которую никогда нельзя ограбить – так она богата и всемогуща, – возвратят ему его прежнюю весёленькую Наталеньку. Время ещё не успело затуманить и вытравить из её сердца светлые образы её первого девического счастья, которое она сама погубила своим безрассудством, а молодость, на забывчивость которой он надеялся, молодость, которая везде, в самой себе, в самой этой молодости, найдёт новые источники счастья, как богач новые капиталы, эта молодость слишком бурно чувствовала пережитое ею счастье, потому что оно было первое счастье её жизни, счастье, в первый раз сознанное, как бы открытое на груди того, кого она сама оттолкнула от себя и погубила его, – эта молодость не могла помириться с мыслью, что она уже никогда-никогда не будет трепетать на этой именно груди, давшей ей первые в жизни моменты блаженства, – эта молодость жаждала только его – его одного, со всем пылом страсти. Она ждала только его, и его не было.
Она скоро поняла, что гонцы, посланные в Польшу от царя, что намёки отца на то, что он, которого она погубила, – жив, что это – куклы, которыми её, как маленькую, хотели обмануть, развлечь. Она всё поняла – и ей захотелось умереть. Но смерть не шла к ней. Так надо похоронить себя заживо. Надо уйти от мира, от людей, чтоб ничто не напоминало ей о жизни, о её радостях, которые она похоронила вместе с тем, кого любила.
Прозоровский наконец должен был сознаться дочери, что молодой Ордин-Нащокин действительно пропал без вести: никакие царские гонцы не в состоянии были найти того, кого уже не было на свете.
Девушка, казалось, несколько успокоилась на этом. Странное, но свойственное любящим успокоение: так не достанется же он никому, как не достался ей. Теперь её уже не будет мучить мысль о красавицах-еретичках, о польках: её Воин не достанется им.
Не достанется же и она никому! Монастырь, черническая ряса, клобук, тёмная келья – вот кому она достанется! Там она будет за него молиться, его ждать в предсмертный час, чтоб там с ним свидеться, там, за гробом.
Она стала торопить отца – отдать её в монастырь, и именно в Новодевичий, где похоронена её мать. Как ни плакал отец, она оставалась непреклонна.
– Батюшка! – утешала она его. – Всё же я останусь твоей дочерью – ты будешь ездить ко мне, видеть меня. Ежели что и переменится – так только имя моё: я уж тогда не буду княжной Натальей, а инокинею или старицею Надеждою.
И она была пострижена и действительно получила ангельский чин под именем Надежды. Все инокини и белицы навзрыд плакали в церкви, когда её прелестное, бледненькое личико выглядывало из-под чёрного монашеского покрывала и на возгласы постригавшего её святителя Ионы: «откуду еси притекла в обитель сию» – или «подаждь ми ножницы сия!» – она кротко отвечала или покорно нагибалась, чтоб поднять бросаемые святителем на пол, по чину пострижения, ножницы.
Но как плакал её отец – этого словами люди никогда не сумеют передать.
Между тем вскоре после её пострижения вот что случилось.
В то время, когда у московских послов кончились переговоры с польскими комиссарами о мире, с обеих сторон последовал обмен пленных и беглых.
Обыкновенно партии этих полоняников пригонялись в Москву, в подлежащий «разряд», а из «разряда», после переписки, их препровождали в патриарший дворцовый приказ для допросов: не осквернился ли кто в полону скоромною пищею, не переменил ли веры, не держал ли там папежскую или иную веру, не бывал ли у «латынского ксенжа» на исповеди или в костёле, не бирал ли «секрамент» вместо причастья, или даже «не бусурманен» ли и т. д.
В числе присланных таким образом в патриарший приказ для допроса был один крепкий старик, который, как оказалось, находился в полону около сорока лет!
Подьячий патриаршего приказа, записывавший его «распросные речи», глазам своим не верил, чтобы можно было вынести то, что вынес на своём веку этот старик и остался жив и бодр.
Вот что говорил он в своих «распросных речах»:
– Зовут меня Варсунофей старец. Родина моя город Москва. В детстве моём отец взял меня в Киев и отдал учиться грамоте. По возросте был я в дьячках у Николы чудотворца у Пустынного в Киеве же, а забаловавшися хмельным делом, во дьячках не восхотел быть и служил у желныря у Гулявича в Луцку – отдала меня мать в службу тому желнырю за пьянство. И живучи я у желныря, по середам и в посты мясо и всякую скверну едал, а в Филиппов и в великий пост мяса не едал[87]. А веру держал папежскую и секрамент дважды принимал. И живучи я у желныря, занемог, и обещался опять притти к Николе на Пустынь, и пришед постригся в меньшой образ; постригал в церкве на обедне тое ж Никольские пустыни игумен Иев Непитущей о Троицыне дни. А тот игумен молил за патриарха царяградцаго за Кирила…
– Как! – удивился подьячий, закладывая перо за ухо. – За царяградцаго, а не за нашего святителя, за московского и всеа Русии?
– Нету, батюшка, как было, так и сказываю, словно на духу.
– Ох, уж эти хохлы! – вздохнул подьячий. – Ну, говори дальше.
– Так молил он, Иев, сказываю, за патриарха Кирила да за архимандрита печерского за Елисея Плетенецкого, – продолжал допрашиваемый. – А переманатка и манатья на мне не положена, потому что в большой иноческий образ я не пострижен.
– А как там, у хохлов, крестют? – спросил подьячий.
– По-хохлацки, батюшка, по киевской вере: в крещенье обливают, а не погружают – оттого хохлы и слывут обливанцы, и миром, и маслом помазуют. А постригшися, я не причащался. И я про то отцу своему духовному, что я секрамент дважды принимал, сказывал и отец же духовной положил за то на меня епитемью на два года. А идучи я от Николы в Васильков, и взяли меня в поле в полон нагайские тотаровя, будет тому ноне лет сорок, и свели меня с протчими полоняники в Крым, а из Крыму свели в Козлов город, а из Козлова продали на рынке в Кафу, а из Кафы продали в Царь-город, и в Царь-городе посадили на катаргу, и был я на катарге лет с тридцать; будучи ж я на катарге, по середам и по пятницам и в великие посты и мясо и всякую скверность едал, а не бусур-манен и от христианския веры не отступил. И будучи на катарге в море, отгромили нас шпанского короля немцы, и шпанского короля владетель дука Ференц, дав мне лист, от себя отпустил. И будучи я в шпанской земле, у ксенза бывал и секрамент не раз бирал, и в костёл хаживал, по шапской католицкой вере маливался, по середам и пятницам и в великие посты и в иные посты мясо и всякую скверность едал, а у отца духовнаго не бывал. А из шпанской земли ушёл во францужскую землю, а изо францужския земли шёл берегом в тальянскую землю, в город Лигорны, а из Лигорны в Рим, и был в Риме двадцать ден, и по папину веленью ксенж исповедывал, а секраменту не имал; и будучи в Риме, веру держал римскую и до костёла хаживал. Из Риму пошёл в осень, о Михайлове дни, в прошлом году, и шёл через Веницею, и в Веницеи взяли меня на катаргу; да с катарги меня выкупил русский человек, нашего боярина Афанасья Лаврентьича Ордина-Нащокина сын, Воин Афанасьич…[88]
При этом имени как будто что-то дрогнуло в приказной палате… У подьячего, записавшего «распросные речи» старца Варсунофия, перо выпало из рук, и он с изумлением, не то с испугом, вскочил с места; сидевший за другим столом и что-то писавший приказный, по-видимому, дьяк патриаршего приказа, сухой и лысый старик, тоже вскочил с места…
– Как! Воин Афанасьич, говоришь? – радостно воскликнул он. – Так он жив?
– Живёхонек был, милостивец батюшко! пошли ему Господь здравия на многи леты, – отвечал допрашиваемый, не понимая, в чём дело.
– И ты его сам видел и говорил с ним? – допытывался дьяк.
– И видел, батюшко, и говорил.
– Слава тебе, Господи! – перекрестился дьяк набожно. – Вот радость-то будет благодетелю моему, Афанасью Лаврентьичу! А уж по нём давно и сорокоусты читают по монастырям… Ах, Господи! Да расскажи же, старче, как дело было… Садись, старичок… Проша! дай ему стул!
Подьячий, которого назвали Прошей, тот, что записывал со слов старца «распросные речи», метнулся по приказу, достал и притащил стул.
– Садись, садись, старичок, да расскажи по порядку, как дело было, – волновался и суетился старый дьяк. – Сказывай.
Старец сел на стул, набожно перекрестился и начал свой рассказ. Все подьячие сбились около него в кучу и жадно слушали.
– Дак вот, милостивцы мои, – говорил старец-бродяга, – будучи я в Веницее-граде, побирался Христовым именем. Площадь там есть эдакая, что у самого ихнего собора да около дворца, – а дога у них, у веницейцов, как бы во место царя правит. На площади этой столбы высокие каменные стоят, и на одном столбе этта лев поставлен, на другом аки бы ангел. Сижу я этта на ступеньках под ангелом и пою тихонько каличий стих, что у нас калики перехожи поют Христа-ради для милостыньки, – пою про Лазаря убогого[89]. Дело этта было под вечер. Коли смотрю, милостивцы мои, пловет по морю черна лодочка – гондолой у них называется, длинная такая, а на ей храминка махонька с дверцой и оконцами, словно бы часовенка, вся коврами цветными да кистями золотыми изукрашена. Многое множество в Веницее-граде таких гондол, потому – город на воде стоит, и коней в городе – ни единого, все пеши ходят либо на носилках, а чаще всего ездят по морю и по каналам в этих самых гондолах. Так и пловет, говорю, этта така ж гондола мимо тех столбов, где я, горюн-бродяга, сижу. Коли слышу – поёт кто-то в гондоле той, да таково сладостно и горько, Владычица Богородица! Меня словно ножом по сердцу резануло… Слышу! поёт… что бы вы думали, соколики мои! О-ох! поёт:
«Как и не белы-то снежки в поле зебелелися!»
[90]
– Господи! что со мной было! Пятьдесят лет, как меня с Москвы свезли – да где пятьдесят! – более шестидесяти лет, мыкаючись по белу свету да по катаргам, не слыхал я этой песни. А уж и пел же он – не пел, а горючими слезами разливался, когда выводил:








