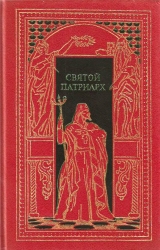
Текст книги "Святой патриарх"
Автор книги: Даниил Мордовцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 37 страниц)
Из-за обрыва, спускавшегося к Царицыну, осторожно выюркнула человеческая фигура и, увидев при свете месяца Разина, попятилась назад.
– Хто там? – окликнул Разин и взялся за свой персидский нож.
– Васька-Ус, – был ответ, – а в придачу – Кагальник.
– А! это ты, старина? – удивился Разин. – Што полуношничаешь?
– Не спится, атаман, дак робят проверяю.
– Каких ребят?
– Часовых… Который из них задремит – я того и сменяю.
– Как сменяешь?
– Вот этим самым ножом. – Васька-Ус показал широкий нож, на котором видна была свежая кровь. – Который часовой меня не окликнет и я подкрадусь к ему – тому прямо нож под микитки – и баста! Уж тот што за часовой, к которому подкрасться можно – последнее дело: я того и сменяю. Я всегда так-ту, батюшка Степан Тимофеич. и у меня никогда часовой не задремит – ни-ни! ни Боже мой! Уж это все знают.
– Ну и молодец же ты, Василий Трофимыч! – удивился Разин. – Вот умно придумал! Молодец! Ну, а я не дошёл до этого, не додумался.
– Ничего, атаман, Бог простит, – утешал его разбойник.
– Ну и что ж! сменил кого? – спросил Разин.
– Двух сменил-таки – порешил… Другим наука.
– Ну и молодец же ты! – похлопал разбойника по плечу Разин. – Будь же ты за это моим есаулом!
– А Иван Черноярец што? – удивился, в свою очередь, Васька-Ус. – Не хорош?
– Я его тоже сменил, как ты молодцов, – отвечал Разин.
– А-а! – протянул Ус.
Из оврага, идущего от Царицы, послышался протяжный, очень осторожный свист. Разин отвечал таким же свистом, только два раза.
Из оврага вышел человек в поповском одеянии[129].
– Здравствуй, отец протопоп, – поздоровался с ним Разин.
– Здравствуй, батюшка Степан Тимофеевич, – отвечал пришедший.
К нему подошёл Васька-Ус и снял шапку.
– Благослови, отче, – сказал он, протягивая руку горстью, как за подачкой.
– Во имя Отца и Сына… – благословил пришедший.
– Ну что, отец Никифор? – спросил Разин. – Уговорил?
– Уговорил – всё готово, хоть голыми руками бери город.
В это время в стане послышались голоса, говор, шум.
– Злодеи! есаула зарезали!
– Это Васькины ребята! Вяжи злодеев! А где Васька?!
– Батюшки! и часовой зарезан!
Разин с улыбкой переглянулся с своим новым есаулом, и они поторопились в стан. Начинало светать.
XXIX. Воевода Тургенев на верёвке [130]
Едва первые лучи солнца позолотили кресты и главы царицынских церквей, как казаки двинулись к городу.
Разин и его новый есаул ехали впереди, – Разин с бунчуком в руке, Васька-Ус – с обнажённою саблей.
Разинцы подступали к городу двумя лавами: одна шла к тому месту, где пологий вал и городская стена, казалось, представляли наиболее удобств для приступа, хотя эта часть стены и башни были защищены пушками; другая лава подавалась вперёд правее, к тому месту, которое казалось неприступным и где находились городские ворота, прочно окованные железом.
Разин попеременно находился то в голове правой лавы, то в голове левой.
Воевода Тургенев, недавно назначенный командиром Царицына, и стрельцы, его подкомандные, по-видимому спокойно ожидали приступа, потому что, с одной стороны, уверены были в невозможности взять крепость без стенобитных орудий, с другой – что со дня на день ожидали прибытия по Волге сверху сильного стрелецкого отряда. Тургеневу и другим защитникам Царицына очень хорошо видно было со стен, как Разин разъезжал впереди своей, казалось, нестройной толпы. Тургенев, высокий и плотный мужчина с сильною сединою в длинной бороде, стоял на стене, опершись на дуло пушки, и, казалось, считал силы неприятеля.
– Дядя, – обратился к нему стоявший рядом молодой воин в богатых доспехах, – дозволь мне попужать орла-стервятника.
– Какого это, племянник? – спросил воевода.
– А вон того, что на белом коне, – самого Стеньку.
– А чем ты его попужаешь?
– Вот этой старушкой! – Он указал на пушку.
– Добро – попробуй: только наводи верней.
Молодой воин при помощи пушкарей навёл дуло орудия на Разина. Взвился дымок, и грянул выстрел. Ядро не долетело до цели и глухо ударилось о глинистую сухую почву.
Разин издали погрозил бунчуком.
Правая лава, между тем, достигла городских ворот и остановилась. Разин поскакал туда.
Вдруг в городе, как бы по сигналу, зазвонили колокола во всех церквах. Воевода с удивлением глянул на окружающих.
Со стены, ближайшей к воротам, послышались крики:
– Батюшки! злодеи в городе! – их впустили в ворота.
Действительно, Разин беспрепятственно вступил в город в голове правой лавы: городские ворота были отворены перед ним настежь.
Навстречу новоприбывшим от собора двигалось духовенство в полном облачении, с крестами и хоругвями. Впереди, с Распятием в руках, шёл тот священник, соборный протопоп Никифор, которого мы уже видели ночью около стана Разина. Рыжая, огненного цвета борода его и такие же волосы, размётанные по плечам, горели под лучами солнца, как червонное золото.
Разин сошёл с коня и приложился к кресту. При этом он что-то шепнул на ухо протопопу, и тот утвердительно наклонил голову. Затем стали прикладываться к кресту казаки.
Между тем на площади расставляли столы для угощения дорогих гостей. Сначала робко, а потом всё смелее и смелее начали выходить из своих домов царицынцы и спешили на площадь.
Колокольный звон смолк, и духовенство возвратилось в собор.
Царицынцы со всех сторон сносили на площадь калачи, яйца, всякую рыбу и горы сушёной и копчёной воблы. Мясники резали волов, баранов и тут же на площади свежевали и потрошили убоину. Другие обыватели разводили костры, жарили на них всякую живность и сносили потом на расставленные столы, а с кружечного двора выкатывали бочки с вином.
Всем, по-видимому, распоряжался соборный протопоп, отец Никифор. Его огненная борода мелькала то здесь, то там.
– Ишь как батько-то хлопочет – так и порывается, – судачили царицынские бабы, глазея на приготовления к пиру.
– Да и как, мать моя, не хлопотать горюну? Всё это чтоб насолить супостату своему, воеводе жеребцу, за дочку.
– Что и говорить, милая, дочка-то у него одна, что глазок во лбу, а он, волк лихой, и польстись на девчонку.
– Эка невидаль! девчонка! – ввязалась в разговор Мавра, известная на весь Царицын сплетница. – Онамедни девка сама к яму, к воеводе-то, бегала.
– Плещи, плещи, язва! – осадила её первая баба.
– Не плещу я! а ты сама язва язвенная! – окрысилась сплетница. – Ишь святая нашлась! Сама, своими глазыньками видела, как она, Фроська-то, шмыгнула к нему в ворота – так и засветила рыжей косой.
– Тьфу ты, негодница! Помолчала бы хоша, сама была девкой, – отвернулась первая баба.
– Глядь! глядь-ко-ся! мать моя! – удивилась вторая баба. – Чтой-то у того казака на руках? Никак махонька калмычка?
– И то, милая, калмычка, да совсем голенька. Должно на дороге подобрали.
– Ах, бедная! Семь-ка я сбегаю, принесу ей рубашонку от моей Фени.
И сердобольная баба побежала за рубашкой для маленькой калмычки.
Вскоре начался и пир. За почётным столом поместился Разин с своим новым есаулом, а также все казацкие сотники. Их угощал отец Никифор.
За соседним столом восседали на скамьях другие сподвижники Разина, и в том числе Онуфрий Лихой, тот самый, что вчера привёз в казачий стан маленькую калмычку. Девочка сидела тут же, на коленях у своего седобородого покровителя, и, беспечно поглядывая своими узенькими глазами на всё окружающее, серьёзно занималась медовым пряником. Она была, видимо, довольна своей судьбой – как сыр в масле каталась, чего она в своём улусе никогда не испытывала. Теперь она была в чистенькой рубашонке, и даже в её чёрную как смоль косёнку была вплетена алая ленточка. Всё это оборудовала сердобольная баба.
Пир между тем разгорался всё более и более. Слышно было оживление, громкие возгласы, смех. Разин, разгорячённый вином и подчиняясь своему огневому темпераменту, громко объявил, что он во всей русской земле изведёт неправду, переведёт до корня всё боярство…
– На семена не оставлю! А Ордина-Нащокина с сыном Воином на кресте Ивана Великого повешу!
– Марушка! Марушка! подь сюды, ходи через стол.
Это манил через стол маленькую калмычку казачий пятидесятник, Яшка Лобатый, коренастый увалень, первый силач на Дону. Девочке уже дали подходящее имя: её назвали «Марушкой».
– А где воевода? – вспомнил наконец Разин. – Подать сюда воеводу!
– Да воевода, батюшка Степан Тимофеич, запёрся с своими приспешниками в башне, – отвечал отец Никифор.
– А! в башне? Так я его оттудова выкурю. Атаманы-молодцы! за мной! – крикнул Разин, вставая из-за стола.
Сотники, пятидесятники и другие казаки, пировавшие поблизости, обступили атамана.
– Идём добывать воеводу! – скомандовал Разин. – Щука в вершу попала – выловим её!
– Щуку ловить, щуку ловить! – раздались голоса.
– В Волгу её! Пущай там карасей ловит!
Ватага двинулась к крепостной башне. Впереди всех торопливо шёл поп Никифор. Полы его рясы раздувались, а рыжие волосы ярко горели на солнце.
– Ай да батька! ай да долгогривый! – смеялись казаки. – Да ему хуть в атаманы, дак в пору.
Башня была заперта. На крики и стук в башенную дверь в одну из стенных прорезей отвечали выстрелом, никого, впрочем, не ранившим.
– А! щука зубы показывает! – крикнул Яшка Лобатый. – Так я ж тебя!
И он побежал куда-то к площади. Вскоре оказалось, что богатырь нёс на плече громадное бревно, почти целый брус.
– Сторонись, атаманы-молодцы! ушибу! – кричал он.
Все посторонились, а богатырь со всего разбегу ударил бревном в башенную дверь. Дверь затрещала, но не упала. Лобатый вновь разбежался, – и от второго удара дверь подалась на петлях. Последовал третий, сильнейший удар – и дверь соскочила с петель.
– Ай да Яша! он бы и лбом вышиб! – смеялись казаки.
И Лобатый же первым бросился вверх по лестнице. За ним другие казаки. Разин стоял внизу рядом с попом Никифором.
– Щуку не убивайте, молодцы! – крикнул он вверх.
Оттуда доносился шум борьбы, крики, стоны. В несколько минут всё было покончено – никого не оставили в живых. Пощадили только воеводу. Его снёс с башни Лобатый словно куль с овсом.
Как безумный подскочил к несчастному поп Никифор и ударил его по щеке.
– Нна! это тебе за Фросю! за её девичью честь! – говорил он, задыхаясь, и тут же накинул на шею воеводы верёвку. – На осину его, на осину Иуду!
– Нет, бачка, он не твой, – сказал Разин, отстраняя попа. – Он наш – войсковой: что круг присудит, то с ним и будет. Сказывайте ваш присуд, атаманы-молодцы, – обратился он к казакам.
– В воду щуку – карасей ловить! – раздались голоса. – В Волгу злодея!
– Быть по-вашему, – согласился Разин. – А теперь скажи, воевода, – обратился он к Тургеневу, – за что ты грабил народ? Али тебя царь затем посадил на воеводство, чтоб кровь христианскую пить? Мало тебе своего добра, своих вотчин? Не отпирайся – я всё знаю: про тебя, про твоё неистовство и на Дону уж чутка прошла. Кайся теперь, проси прощенья у тех, кого ты обидел.
Тургенев молчал. Он знал, что его не любили в городе. Он видел, как сбежавшиеся на шум царицынцы враждебно смотрели на него.
– Православные! – обратился Разин к горожанам. – Што вы скажете?
Все молчали. Всем казалось страшным говорить смертный приговор беззащитному человеку.
– Казни, батюшка, казни злодея!
Все оглянулись в изумлении. Страшный приговор произнесла – баба! – и то была – сплетница!
– Ах ты, язва! – не утерпела сердобольная баба, которой стало жаль человека, стоявшего перед толпой с безропотной покорностью.
Послышался лошадиный топот. Это прискакал гонец с верхней пристани.
– Стрельцы сверху плывут – видимо-невидимо! – торопливо сказал он.
Разин глянул на Тургенева и махнул рукой. Казаки поняли его жест.
– В воду щуку! к стрельцам на подмогу! – заговорили они. Один из казаков взял за верёвку, которая всё ещё висела на шее воеводы, и потащил к Волге, к крутому обрыву. Толпа хлынула за ними в глубоком молчании.
Вдруг откуда ни возьмись молоденькая девушка, которая быстро пробилась сквозь толпу и с воплем бросилась на шею осуждённому.
– Сокол мой! Васенька! возьми и меня с собой! Без тебя я не жилица на белом свете!..
– Владычица! да это Фрося! – всплеснула руками сердобольная баба.
Это и была дочка попа Никифора: искрасна золотистая коса, жгутом лежавшая на спине девушки, подтверждала это кровное родство с рыжим попом, который весь задрожал, увидев дочь в объятиях ненавистного ему человека.
Тургенев с плачем обнял девушку…
– Бедное дитя, прости меня! – шептал он.
– Меня прости, соколик, я погубила тебя. Но казаки тотчас же розняли их.
Обрыв был под ногами – и воеводу толкнули туда. Не успели опомниться, как и девушка бросилась туда же, и Волга мгновенно приняла обе жертвы.
Поп Никифор стоял над кручей и рвал свои рыжие космы.
XXX. Струги с мёртвой кладью
Разин между тем делал распоряжения о встрече стрельцов, которые плыли сверху на защиту как собственно Царицына, так и других низовых городов.
Всё своё «толпище», как иногда называли в казённых отписках его войско, он разделил на две части: одну половину, меньшую, под начальством Васьки-Уса, он оставлял в городе, с другою, большею, он сам выступил для встречи московских гостей и для усиления отряда, находившегося на его флотилии.
Есаул должен был выстроить свой отряд вдоль городских стен, обращённых к Волге, и всю крепостную артиллерию расположить так, чтобы она могла обстреливать всю поверхность Волги вплоть до небольшого островка, лежащего как раз против Царицына и заросшего густым тальником и верболозом.
Лодки же, на которые он посадил часть пехоты, он приказал отвести за островок и там укрыть их за верболозом. Он это сделал для того, что когда стрельцы, подплыв к городу и встретив там артиллерийский огонь с крепостных стен, вздумают укрыться за островом, то чтобы там их встретил не менее губительный огонь с флотилии, которая и должна была отрезать стрельцам отступление.
Сам же он с небольшим отрядом конницы пошёл вверх берегом прямо навстречу московским гостям.
Скоро показались и струги с стрельцами. Издали уже слышно было, что стрельцы шли с полной уверенностью «разнести воровскую сволочь», и на первом же струге раздавалась удалая верховая стрелецкая песня, до сих пор раздающаяся по Волге от Рыбинска, в то время Рыбное, до Астрахани. Стрельцы пели:
«Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывёт!
Ишь ты, поди ж ты, что ж ты говоришь ты,—
Сизый селезень плывёт!»
[131]
Но стрелецкое пение вдруг оборвалось, когда с берега казаки, среди которых было немало из волжского бурлачья, гаркнули продолжение этой песни:
«Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому
Добрый молодец идёт:
Он с кудрями, он с русыми
Разговаривает!
Ишь ты, поди ж ты, что ты говоришь ты,—
Разговаривает!»
Увидев на берегу небольшой отряд, стрельцы направили свои струги ближе к берегу и открыли по казакам огонь. Казаки отвечали им тем же, и началась перестрелка.
По мере усиления огня казаки отступали, всё более и более приближаясь к городу. Стрельцы из этого заключили, что казаки не выдерживают огня, и пустились за ними вдогонку.
Но в это время со стен города, о взятии которого казаками стрельцы и не подозревали, открыли по стругам убийственный огонь. Поражённые неожиданностью, стрельцы не выдержали артиллерийского огня и повернули от города, чтоб укрыться за островом, но там их встретила такая же убийственная пальба из засады.
Царское войско растерялось, поражаемое с двух сторон и ядрами, и пулями. Но стрельцы всё-таки упорно защищались, и только тогда, когда две трети было их перебито, стали просить пощады.
Разин велел прекратить пальбу и привести струги с остальными стрельцами к берегу.
Когда струги причалили к берегу, казаки стали считать убитых и насчитали более пятисот трупов. В живых осталось до трёхсот стрельцов.
Они вышли на берег и кланялись победителю. Разин сказал им:
– Коли хотите служить мне, оставайтесь со мною, а нет…
– Хотим, хотим, батюшка Степан Тимофеич! – закричали побеждённые. – Мы шли против тебя неволею… Прости нас!
– Добро, – сказал Разин, – оставайтесь с нами. А чтобы воеводам да боярам впредь неповадно было перечить мне, я им покажу, какая ждёт их широкая масленица. Атаманы-молодцы! – крикнул он к казакам. – Снарядимте-ка два струга, которые будут залишние, и изукрасим их, как вон в песне поётся:
«Хорошо были стружечки изукрашены,
Они копьями, знамёнами, будто лесом поросли».[132]
– А мы изукрасим их получше, поцветнее.
Казаки, по-видимому, не понимали его и ждали, что будет дальше. Тогда Разин указал на два морских струга из тех, которые им были оставлены прошлого осенью в Царицыне после морского похода и стояли теперь у пристани порожние.
– Вот что, братцы, – сказал он, – сносите всех убитых стрельцов на эти струги, сносите поровну, а там я скажу, что дальше делать. Помогайте и вы, ребята, – сказал он оставшимся в живых стрельцам. – А у кого в кармане сыщите деньги, сносите их есаулу – в дуван пойдут.
Все принялись за работу, не понимая, для чего это, и скоро оба струга наполнены были трупами. Разин взошёл на один из стругов.
– Эх! – обратился он к трупам. – Жаль мне вас, горюны, да что делать! Коли лес рубят, то и щепки летят… А я – ох… какой лес задумал вырубить! – заповедный! Да хочу вырубить дочиста, чтоб и побегов не осталось.
Он задумался, глядя на обезображенные лица мертвецов.
– Ну, теперь, братцы, распоясывайте у мертвецов кушаки! – снова заговорил Разин.
Казаки повиновались. Когда было распоясано несколько десятков на том и другом струге, Разин остановил эту странную работу.
– Ну, довольно, братцы: есть чем изукрасить стружечки, – сказал он. – Теперь развешивайте мертвецов по всем снастям, – вот как в Астрахани белорыбицу либо осетрину, а то и воблу развешивают вялить да балыки провесные делают… Да чтоб понаряднее были – все бы снасти, и мачты, и шесты изнавесить боярскими балыками… Пущай любуются да кушают на здоровье… А я из них таких балыков наделаю!
Только теперь все поняли, к чему клонились эти странные распоряжения атамана.
И вот казаки и стрельцы принялись развешивать мертвецов, подвязывая их к снастям кушаками.
Страшную картину представляло это необычайное зрелище. Из Царицына всё население высыпало смотреть на то, что делали казаки. Весь берег был усыпан зрителями.
А Разин ходил по стругу, иногда останавливался и задумывался, качал головою, как бы отгоняя назойливые мысли, и потом встряхивал кудрями и отдавал приказания:
– Выше, выше подвешивай! Да шапку набекрень надень… Так, так – ладно… Каковы балыки! Это я моему другу любезному, князю Прозоровскому… Пущай отпишет к Москве тестеньке своему Ордину-Нащокину, каковы-таковы казаки бывают… А то на! – перевести казаков, вольный Дон да Волгу-матушку перелить в Москву-реку да в Яузу… Захлебнётесь Доном да Волгою… Я вам не Ермак[133] дался – не поклонюсь ни Доном, ни Волгою, ни казацкою волею, как тот поклонился царством сибирским: глуп был батюшка Ермак Тимофеич, не тем будь помянут… Да, отольются волку овечьи слёзки… Ей! этого гладково на самый верх посадите, на палю, как вон у запорожцев да у турок делают – так, так – ишь важно на пале сидит! А то на – милостивая грамота… похваляем, а там и в бараний рог, как старца Аввакума… Нет, я вам не Аввакум!..
Когда ужасная оснастка стругов была окончена, Разин обратился к стрельцам:
– А кто ваши головы? – спросил он.
Стрельцы отвечали;
– Были у нас, батюшка Степан Тимофеич, пять голов с нами в Казани послано, да ноне в бою твоими казаками трое из них убиты до смерти, а осталось только двое, – вот они.
Разин подозвал их к себе. Те стояли ни живы, ни мертвы.
– Я всех начальных людей, и голов, и бояр убиваю, – сказал Разин. – Вас я не трону: вы так головами и останетесь; одного из вас я посажу на один струг, другого на другой. Плывите в Астрахань с своими стрельцами, как плыли сюда из Казани, и кланяйтесь от меня астраханскому воеводе, князю Прозоровскому, и скажите, что я ему балыков посылаю… Вон какие осётры висят! Да скажите астраханцам всякого звания людям, что я чиню расправу только над боярами да мироедами, а бедных людей не трогаю: бедные – мои братья и все мы промеж себя ровня. Слышали?
– Слышали, батюшка Степан Тимофеич, – покорно отвечали стрелецкие головы.
– Так помните, что я вам сказал, и астраханцам всякого звания людям передайте мои речи от слова до слова, как я сказал, – заключил свою речь Разин.
Стрелецкие головы поклонились.
– А теперь, – обратился Разин к казакам, – снесите на оба струга корму всякого и питья на неделю и больше того, чтоб головам было чем дорогою кормиться. Живо!
Казаки бросились исполнять приказание атамана, и чрез несколько минут из города принесено было множество калачей, несколько окороков, балыков, копчёной воблы и несколько бочонков вина.
– Это вам корм, – сказал Разин головам, – голодны не будете. Да не перепейтесь дорогой!
Головы кланялись и благодарили.
– А чтоб вы не бежали с дороги, я вас обоих велю приковать – каждого к своему рулю, – пояснил Разин, – рулём-то вы будете править, а бежать не бежите… Гребцов вам не надо: сама Волга-матушка донесёт вас до Астрахани. Эй! атаманы-молодцы! принесите две якорных цепи, да подлиннее, и прикуйте господ голов – каждого к своему рулю.
Казаки принесли две цепи и исполнили, что им приказывал атаман: одного стрелецкого голову поместили на одном струге с мертвецами и приковали, другого – на другом, и тоже приковали.
Затем оба струга с мёртвой кладью и с прикованными рулевыми отвели на середину Волги и пустили на произвол судьбы.
Струги тихо поплыли по течению…
Зрелище было до того ужасно, что многие стрельцы, те, что остались в живых, глядя, как уплывали их мёртвые товарищи, горько плакали.
Разин долго провожал струги глазами и затем молча воротился в город.
XXXI. Страшная весть
Царь Алексей Михайлович, впечатлительный и мечтательный по природе, поэт в душе, говоря современным языком, очень любил всякую торжественную обрядность и «действо», вроде «пещного действа», а впоследствии и «комидийных действ». Нравились ему и благочестивые зрелища с обрядовою обстановкою, и благочестивое, душеспасительное песнопение странников и «калик перехожих», и он охотно слушал духовные стихи о «богатом и убогом Лазаре», «о грешной душе» и т. п.
И теперь, когда он занимался в своей образной горнице с дьяком Алмазом Ивановым, на заднем крыльце Коломенского дворца сидели двое «калик перехожих», о которых он слышал от царевен и в особенности от царевны Софьи, что они поют разные, «зело предивные стихи».
Дела были неотложные. С нижней Волги с самого её вскрытия не было вестей, а между тем ходили слухи, что Разин с Дону уже двинулся к Волге. Нужно было озаботиться о снаряжении на Волгу, в «плавную службу», как можно более ратных людей с верхней Волги и с Камы. Поэтому сегодня должен был выехать на Вятку с государевою «памятью» молодой Ордин-Нащокин, Воин, который с ратными людьми просился в Астрахань – на всякий случай – в помощь к тестю своему, к князю Прозоровскому.
Вот эту «память» и докладывал теперь царю Алмаз Иванов. О взятии Разиным Царицына и о разгроме посланных из Казани стрельцов до Москвы ещё не дошли слухи, так как единственный путь для сношения с низовыми городами – Волга – был уже в руках у казаков, один отряд которых, посланный Разиным из Царицына вверх по Волге, овладел Дмитриевском, что ныне Камышин.
– Да, да, настали для нас «злы дни», – говорил Алексей Михайлович как бы сам с собою, пока Алмаз Иванов надевал очки, чтоб читать память, – надо торопить с плавною службою. Ну, вычти…
Алмаз Иванов начал читать: «Лета 7179-го, маия 30 день, по государеву царёву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, память Воину Ордину-Нащокину. Ехати ему на Вятку, для того: по государеву указу, велено быти на государеве службе, в плавной, с боярином и воеводою, со князем с Юрьем Борятинским с товарищи, с Вятки ратным людем полтретьи тысячи человеком; да велено на Вятке для государевы плавныя службы сделати сто стругов».
– Сто стругов? не мало? – спросил государь.
– В перву версту, государь, довольно, – отвечал дьяк.
– Добро. Ну?
Дьяк продолжал: «А послан из Казани для тех судов Офонька Косых. И Воину, приехав на Вятку, отдати от боярина и воеводы от князь Юрья Борятинскова с товарищи дьяку Сергею Резанцеву с товарищи ж отписку, и говорити им, чтоб они собрали на Вятке ратных людей полтретьи тысячи человек тотчас, с вогненным и с лучным боем, и рогатины б у них с прапоры были; а были б ратные люди молоды и резвы…»
– Не то что мы с тобой, – улыбнулся Алексей Михайлович.
– Где ж нам, государь, холопем твоим тягаться с твоею государевою резвостью! – пробурчал дьяк свой придворный комплимент и продолжал доклад: – «И из пищалей бы стреляти были горазды, а старых бы и недорослей в них не было. А как на Вятке ратных людей сберут, и Воину с теми ратными людьми ехати в Казань тотчас с вешнею водою вместе, а Офонасью Косых со стругами велети ехати в Казань тот же час не мешкая, чтоб за тем государеве службе молчанья не было. А не пришлют с Вятки ратных людей вскоре, по государеву указу, всех сполна, а государеве службе учинитца за ними мотчанье, и вятчан пошлют из прогонов и пеню им учинят по государеву указу».
Алмаз Иванов кончил.
– Быть по сему, – заключил государь. – Пущай же Воин едет без мотчанья. Всё доложил?
– Все, государь, – отвечал дьяк, собирая в сумку докладные свитки.
Дьяк откланялся и вышел, а государь отправился на девичью половину. Там в покоях царевны Софьи он застал постоянного посетителя девичьих покоев Симеона Полоцкого, который продолжал заниматься с любознательной царевной, а также приятельницу её, молоденькую жену Воина Ордина-Нащокина, Наталью Семёновну, и Артамона Сергеевича Матвеева с своею юной воспитанницей, Натальей же Кирилловной Нарышкиной.
– А! и ты, старый, тут с молоденькими, – милостиво поздоровался государь с Матвеевым.
Матвеев стал замечать, что Алексей Михайлович, встречая иногда у дочери юную его воспитанницу, обращал на неё особенное внимание, и, казалось, она ему серьёзно нравилась. Это и заставило его учащать к Софье Алексеевне с своею «царевною Несмеяною», как он называл её за то, что она почти никогда не смеялась и хорошенькие глазки её были всегда серьёзны и задумчивы.
– Да вот, государь, моя-то царевна Несмеяна соскучилась по государыне царевне Софье Алексеевне, я и привёз её, – отвечал Матвеев, кланяясь. – А я у неё и мамка, и нянька.
– Что же, дело хорошее, – заметил Алексей Михайлович, – нам, старикам, чем же иным и быть, как не няньками?
– Помилуй, государь! – возразил Матвеев. – Не тебе бы это говорить, не нам бы слушать! Тебе, великому государю, самая верста жениться.
Алексей Михайлович поспешил замять этот разговор и обратился к Симеону Полоцкому.
– А слыхал ты, Симеон Ситианович, што ноне весной было трясение земли в Персиде? – сказал он, садясь около дочери.
– Сказывали, государь, – отвечал учёный белорус. – Был трус и в Греках.
– А отчего оное трясение земли бывает? – спросил государь.
– Я зчаю, батюшка, отчего, – отозвалась Софья.
– О! да ты у меня всезнайка, – улыбнулся государь. – А ну-ну, расскажи.
– Оттого, – начала царевна по-книжному, – егда ветры внидут в скважни под землю и паки оттуду исходити имут, и не могут поразитися вон, и тогда от них бывает трясение земли.
– Так, так… Ну, а с чево эти скважни бывают? – допытывался государь.
– А с того – где земля вельми жестока, тамо есть на всяком месте вода под тою землёю в исподе, и егда та бездна водная подвизается от ветров и вон выразитися вода жестокости ради земныя не может, тогда раздирает землю великою силою, и сице ту страну двизает, – скороговоркой проговорила Софья, как заученный урок[134].
Симеон Полоцкий с любовью смотрел на свою ученицу – она не ударила лицом в грязь.
– Да, дивны дела Рук Божиих, – задумчиво проговорил Алексей Михайлович; и потом, обратясь к молодой Ординой-Нащокиной, с улыбкой спросил: – А что, Наталья, будешь плакать, муженька провожамши в ратное дело?
– Я уж и так, государь, плакала, – вспыхнула молодая женщина. – Я б и сама с ним, коли можно, к батюшке поехала.
– О-о! прыткая! – улыбнулся государь. – А впрочем што дивить! Уж коли матушки-игуменьи не испужалась – бежала к жениху, дак вора Стеньки и подавно не испужаешься.
Молодая беглянка ещё больше покраснела. Hо Софья Алексеевна замяла этот разговор.
– Что ж, батюшка, позвать калик? – сказала она.
– Позови, позови, – согласился Алексей Михайлович. Царевна вышла и вскоре воротилась, но уже не одна: за нею, осторожно ступая, как бы опасаясь провалиться, вошли в светлицу два странника. Один из них, помоложе, был совсем слепой: волосы его, сбившиеся шапкой и никогда, по-видимому, не чесанные, падали на лоб и на слепые глаза. Другой был зрячий старик, но без правой руки. Войдя в светлицу, они разом поклонились земно, а потом, стоя на коленях, проговорили, осеняясь крестным знамением:
– Благословение дому сему и всем обитающим в оном.
– Аминь, – набожно сказал царь. – Встаньте, страннички, куда путь держите?
– К преподобным Зосиме-Савватию на Соловки, – отвечал слепец.
– А откуда Бог несёт?
– С Астрахани, государь-батюшка.
Этот ответ произвёл общее движение. Молодая Ордина-Нащокина даже привскочила на месте.
– Из Астрахани? – переспросил Алексей Михайлович. – А что там слышно? Что воевода, князь Прозоровский?
– Были мы, государь-батюшка, у воеводы, – отвечал зрячий, – он нас милостиво принял, отпустил с миром и с милостынею и велел помолиться святым угодникам о здравии твоём, великий государь, и всего государева дома, да велел ещё помолиться о здравии рабы божьей Натальи…
– Батюшка, родной мой! – вырвалось у Ординой-Нащокиной.
– Да приказал ещё воевода, – продолжал старший калика, – помолиться об избавлении града Астрахани от вора и супостата Стенька Разина.
– А што об нём слышно, где он? над кем промысл чинит? – встрепенулся Алексей Михайлович. – Оттудова давно нет вестей.
– Слышно, надёжа-государь, сказывали, быдто вор город Царицын добыл и воеводу предал лютой смерти, – отвечал чуть слышно калика.
– Боже Всемогущий! – воскликнул Алексей Михайлович, бледнея. – Пощади люди твоя, и грады, и веси, всемилостивый Господи! Што ж ещё слышно – сказывайте.
– Ой, надёжа-государь! – заплакал старший странник. – Не слыхали мы, а сам я своими глазами видел злое дело ево – как и глаза у меня не ослепли от тово, што видели… Прошли мы это уж Енотаевский город и Черный-Яр, идём Волгою, бережочком, коли слышим: птица это каркает, воронье, да коршуны и орлы клекочут, аж страшно стало. Смотрю я: птица над Волгой тучей носится – так хмарою и застилает небо. Дале, боле, надёжа-государь, вижу я: кружит та хмара не то над высокими деревами, не то над островом каким, и то подымается хмара, то спустится к тем деревам. Дале-ближе, государь-батюшка, вижу я: то не дерева и не островы, а плывут по Волге как бы две посудины – ни то расшивы, ни то струги большие, а на снастях у тех стругов изнавешено что-то будто красное, а на том красном понасело птицы видимо-невидимо: и коя птица стаями садится на те снасти, да на то красное, а коя птица хмарою кружит, да каркает, да клекочет – и уму непостижимо! Дале-ближе, надеженька-государь, вижу ясно: плывут два больших струга, а помосты-то у них – вымолвить страшно! – устланы мёртвыми людьми – мертвец на мертвеце, – и все то стрельцы…








